Текст книги "Чертеж Ньютона"
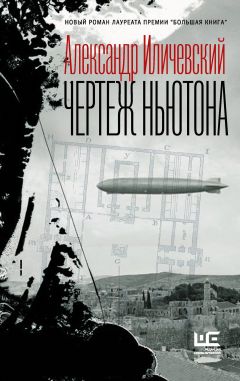
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Фотографий Чукотки в отцовском архиве почти не было. Мшистая плоскость раскисшей тундры, палатки с торчащими жестяными трубами, россыпь железных мятых бочек с соляркой, пилы, груды ящиков и хлама, наваленного подле стоящих или сидящих на корточках людей, их напряженные от голода и усталости, заросшие бородами лица. Снимать не полагалось из секретности – геологоразведка в СССР относилась к стратегическим исследованиям, и, например, крупные геологи становились лицами, подлежащими контролю и охране, подобно физикам-ядерщикам. Вдобавок не очень-то и хотелось: «Для запечатления мгновения, как и для любого художественного жеста, необходимо усилие души, а душевные усилия на Чукотке – нонсенс; в этих краях тренируются только воля и печень».
В другом месте по тому же поводу, в марте 1978 года отец писал: «Рекорды и достижения в борьбе человека с географией, восхождения на горы и броски на полюса Земли – антигуманные предприятия, во время которых природа человека, непрестанно упирающегося лбом в лоб со смертью, подвергается унизительному испытанию, уменьшаясь до звериной малости. В большом таком предприятии гуманизм держится исключительно на требовании взаимовыручки ради жизни каждого звена, остающегося невредимым только благодаря своей нужности. Амундсен успехом обязан собакам, которых члены его экспедиции скормили другим псам, чтобы обеспечить продвижение вперед и возвращение – наряду с поддержкой тающих сил, необходимых и для переноса продовольствия».
Мать рассказывала: начальник партии послал отца за сто сорок верст по тундре в ближайшее зимовье – добыть медикаментов и привести оленеводов на подмогу, чтобы, если надо будет, они забрали заболевшего плевритом геолога. Дело было в октябре, отец шел трое суток, дважды переплывал реку, завязав у брезентовой штормовки бечевой рукава и горло и сделав пузырь, который зажимал в руке, выгребая другой; высушивать одежду приходилось на ходу, питая ее теплом собственного тела, разогретого темпом перехода.
«Он вернулся, – вспоминала мать, – и от счастья не находил себе места. Звали его в компании, а он метался по городу. Прямо ошалел. Иногда сажал тебя на плечи и утаскивал ходить по редакциям, предлагать рассказы. Смеялся: мужчина с ребенком всегда вызывает сочувствие. Никогда не расставался с фотоаппаратом. Принес гонорар за повесть и кинул пачку в абажур. Вот, говорит, написал – и еще напишу. А ты ползал вокруг стола и кричал: „Денежка! Денежка!“»
В московских альбомах отца мелькали лица прохожих, идущих мимо, например, чуднóго, будто состоящего из колб и реторт Дворца культуры «Каучук» за Плющихой, или размолотившего пространство пикирующими углами ДК имени Русакова. Я всматривался в череду лиц в тянущейся очереди за билетами, в лица ждущих свидания – юных и зрелых, привлекательных и некрасивых, с цветами в руках или зонтами, часто встревоженных вторжением фотографа, отворачивающихся от него или, напротив, готовых дать отпор, с вызовом или застенчиво улыбаясь; лица детей и взрослых перед входом в планетарий – и те же лица, снятые на выходе из храма звезд. Встречались снимки с намеренно размытым изображением, сделанные с приоткрытым рукой объективом; отец объяснял в дневнике: «Любая фотография придает реальности загадку: что было до? что стало после? Обращаясь к воображению, снимок повышает ранг реальности, заставляя вас достраивать связи этого мгновения с цельным миром, с его протяженным временем и пространством. Фотография устремлена в тайну действительности».
Единственная повесть отца пришлась по вкусу советским критикам – в основном из-за отсутствия романтических черт, свойственных любому тексту об экспедициях в неосвоенные края. Больше он прозы не писал, зарабатывал путеводителями по Израилю, а составил себе имя именно поэзией, щедро отмеченной во всех смыслах Иосифом Бродским. Я не брался судить о творчестве отца, но про себя мучился сторонними мнениями о нем.
Вослед ему я крепко любил Москву, всматривался, приноравливался, опасался, ужасался, отчуждался, радовался, когда находил осмысленный или даже вдохновляющий ракурс – из Милютинского ли сквера, откуда эсеры лупили из пушки по Кремлю, с берегов ли Коломенского, утопавшего в мае в белом яблочном дыму, – всё старался представить целиком и понять город.
Отец все время передвигался по городу трусцой. Он бегал, чтобы застать Москву врасплох, успеть запечатлеть внезапно срез московской жизни. Я бегал, чтобы догнать отца.
Три раза он возил нас в Крым, и успел научить меня плавать и ловить бычков на креветку с пирса. Мать на увитой мускатом веранде пекла баклажаны, чистила и жарила улов и все время в гамаке и на пляже читала Цвейга, Фейхтвангера, Голсуорси: эти имена я знал сызмала, поскольку она вдохновенно пересказывала отцу прочитанное, а тот слушал вполуха, занятый собственным чтением, жадно вникая в грубо переплетенные книги, желтые страницы которых были испещрены бледно-лиловыми нечитаемыми строчками. Для него это было привычно: в нашей огромной комнате в коммуналке на Преображенке не было перегородок, и все занятия были совместными; отец обычно читал, стучал по клавишам пишмашинки или перепаивал радиоприемник, наматывая на ферромагнитный сердечник дополнительные витки медной паутины, расширяя диапазон приема, чтобы потом приложить палец к губам, призвать нас с матерью к тишине и долго шуршать риской по шкале, вылавливая сквозь вой, свист и шорох строгую обличительную речь. О, этот запах дымной ниточки от шипящей под жалом паяльника канифоли, эти блестящие капельки припоя, отражающие всю комнату, мгновенно матово слепнущие, если на них подуть (что было почетной моей обязанностью).
В переходном возрасте я стал испытывать обиду на отца: мне казалось, он, месяцами в одиночку шедший через тайгу, пропадавший и выживавший, был сильней всего на свете, – но почему же он ушел от нас, какая сила его увлекла? В институте я рвался в сложные походы по всей стране, ездил и на ББС – Беломорскую биостанцию, был на том скалистом крохотном острове, где когда-то отец отшельничал две недели, пока о нем не вспомнили и не соизволили забрать на материк. Заброшенный, погасший вместе с прекращением судоходства маяк; сосны на светлом утесе; деревянный сарай для сушки рыбы, крытый дранкой, – в щели меж бревнами просматривался солнечный ломоть моря, серебряные слитки рыбин покачивались от ветра на разлиновке веревок; к вечеру море мрачнело. Я садился за грубо сколоченный стол, приспособленный для разбора снастей и разделки рыбы и потому усыпанный чешуей, ставил керосинку, открывал отцовскую тетрадь и представлял, что когда-то на этом месте, за выскобленным после вечернего улова столом сидел он и, посматривая в морскую даль, обращался к черновику.
«Есть такой сюжет в агиографии, – записал отец на Беломорье. – Один отшельник стремился обрести святость, но боялся, что на самом деле он желает в своих глубинах не святости, а уважения и почета, чтобы к нему всё больше приходили за исцелениями и напутствиями. То есть что его подлинное „я“ стремится к власти, а не к растворению в мире ради оплодотворения мира. И чтобы проверить себя на своем поприще, святой этот взмолился к Христу, чтобы Тот пришел и разрешил его сомнения.
Наконец Христос явился отшельнику в его пещере.
Святой преклонил колена, но заметил, что на голове видения не терновый венец, а венец из стеблей роз.
Отшельник тут же встал и замахнулся посохом на дьявола, который поспешил убраться прочь.
В следующую ночь, едва живой от горя, отшельник забылся сном и вдруг увидел на краю своей каменной лежанки человека.
Тот сидел и тихо плакал.
Из рук его, сложенных горстью, из стигматов росло дерево.
Оно поднималось к потолку пещеры и открывало в своей кроне лазурную бездну.
Отшельник понял во сне, что дерево это – крест, а перед ним Христос.
И больше никогда не спрашивал себя, чего он подлинно желает – небес или каменной пустыни».
Глава 11
Четырнадцать терабайт
Явернулся в Москву в ясную погоду и на посадке, пока самолет разворачивался в углах квадрата перед заходом на Домодедово, несколько минут дивился тому, до чего же похожа столица на смазанный почтовый штемпель.
Не успел я оказаться в Москве, как среди просыпавшихся градом сообщений нашлась весточка от Беллы: отец пропал без вести и объявлен в розыск. Отец и вправду исчез со всех радаров, но я и сам только что вновь на них появился. Тем более он и раньше иногда пропадал где-то в пустыне в одиночном походе. Я навел справки, дозвонился Белле. Сейчас происходит что-то особенное, сказала она. Никому прежде не приходилось его искать. К тому же нашлась записка: «Раз, два, три, четыре, пять» – дата и подпись. Белла рассматривала все варианты, вплоть до худшего, но тогда где хотя бы тело. Самому мне некогда было беспокоиться, да и тон записки показался игривым. Я лучше других знал, чего ожидать от моего сумасбродного папки. Я занялся своими делами, будучи уверен, что вскоре получу что-нибудь вроде месседжа с его любимым эмоджи – матросом, салютующим с кораблика: «Ahoy!».
Москва встретила бесснежным предзимьем и женой, отчужденно-приветливой; но на этот раз меня не успели задеть ни взвешенный взгляд, ни заторможенность в ответах на самые простые вопросы, ибо я тут же переселился в лабораторию и очнулся только на третью неделю – после того как были распознаны все сканы, а полученный для обсчета массив в четырнадцать терабайт выложен распределенно на сервера. За это время Москва погрузилась в снегопад, утонула в долгожданных морозах и сугробах, город преобразился в одну ночь, просветлел, и после передышки в пару дней, проведенных на катке в парке Горького и на Воробьевых горах, я начал готовиться к обсчету, что технически означало прощупывание массива на предмет оптимизации – сжатия и разведывания подходящих структур, пригодных для метода. В целом это напоминало игру в снежки: прежде чем отправить снаряд в снежную крепость, мальчишки обхлопывают ладонями со всех сторон комок рыхлого снега, который, конечно, в таком виде далеко не полетит, но, если его половчей уплотнить, тогда точность и дальность возрастут многократно. И тут произошло трудно представимое – вот уже пятый день векторный анализ пространства массива не давал нужных результатов; попросту говоря, эти четырнадцать терабайт вели себя во многих местах как слитный кусок базальта, будучи гораздо плотней всех тех массивов, с которыми мне приходилось уже иметь дело. Такого не могло быть, это противоречило всему на свете, как если бы подобранный на дороге камень оказался ограненным бриллиантом. Означало данное обстоятельство только одно: массив, привезенный мною с Памира, уже был сжат.
Представьте: вы раскапываете бархан при помощи лопаты. Сухой мелкий песок податлив штыку. Вы археолог и работаете над барханом годы и десятилетия – в надежде отыскать в нем хотя бы осколки керамики, некие знаки канувшей цивилизации, по которым вы пробуете воссоздать часть минувшего, лучше понять мироздание. Вы настолько привыкли к тому, что лопата легко погружается в песочную тяжесть, что не верите своим ощущениям, когда она вдруг ударяется во что-то твердое. Вы смещаетесь по склону бархана и понимаете, что теперь под всей его поверхностью на глубине в полтора штыка находится нечто непроницаемое: стены, купола, площадь, улицы древнего города, неведомой цивилизации – кто знает?
Результат был настолько поразителен, что я не торопился удивляться и для начала разбил массив на части, чтобы поработать с каждой отдельно. В ночь после завершения предварительного анализа я отправился побродить по квартире, услыхал разговоры на кухне, женские голоса – это были посиделки жены с подругами; я потоптался в коридоре, расслышал, как поминали тещу, как всхлипывала Юля, но заглянуть не решился и улегся в кабинете, краешком мыслей обращаясь к обнаруженному обстоятельству несжимаемости, боясь задуматься о нем всерьез, чтобы не свалиться в бессонницу.
Утром я зашел на кухню, там было стерильно: ни крошки, ни бокала, – верный признак, что жена пригуляла накануне; позавтракав в «Крошке-Картошке», я явился в институт и включил печку – кварцевую лампу, малиновым жаром занявшуюся на кирпичах, составленных колодцем на полу; так я обогревал свое логово, уставленное книжными шкафами, этажерками со всякой всячиной, включая научные журналы, камни и альбомы марок, фотографию в рамке со станции «Памир-Чакалтая»: голые по пояс первокурсники на фоне гор держали над головами свинцовую кассету; за фоткой шли коробочки с блеснами и мушками, несколько трубок, которые иногда я брал в зубы, чтобы почуять невыветриваемый кислый вкус табачной смолы; существенную часть «лабы», как любовно в институте многие называли свои закутки и убежища, занимал серверный стенд.
Я присел к дисплею, загрузился в терминал и первым делом стукнулся к Ваське Уразметову.
– Вась, я сгонял на Памир, привез кое-что.
– Не заставляй меня нукать.
– Ты можешь сейчас говорить?
– Ну.
– Можно я к тебе приеду?
За деревней Калиново у поворота на Тарусу автобус миновал мемориальный Т-34, стоявший на пригорке, и я стал собирать сумку, готовясь к выходу. Вскоре я сидел напротив Васьки с пивом в руке.
– С чем пожаловал? – спросил он и прищурился. – Снова в плену фантазий?
– Как успехи, Базилеус? – глядя ему в глаза, спросил я.
– Наше дело безнадежное.
– Ясно, – кивнул я. – Развлекаешься, в общем.
– Каждый из нас забавляется по мере сил и умения, – пожал плечами Вася. – Ты вот тоже не на каторгу на Памир катался. Колись, что привез?
– Пока вез – знал. Теперь – не пойму. Я всегда искал в данных несжимаемые кластеры, у меня алгоритм – все функции-обработчики настроены на работу прежде всего с такими областями. Они используют их для базисного размежевания. Иногда я позволяю себе ради любопытства покопаться в них в поисках исполнительного кода. Есть такое прикладное искусство – пейзаж в камне. Берется опал, сердолик, яшма, халцедон – все они слоистые, структурно нетривиальные, потому что образовались путем просачивания кальцинирующих вод, путем обработки температурой и давлением на вулканической глубине. Формировались слой за слоем, и их слой за слоем срезают, полируют, ищут такой узор, который был бы похож на «море-скалы-горизонт», на «холм-березка-поле-река», на пейзаж какой-нибудь вообще или на человеческое лицо.
– Только не надо мне рассказывать, что ты занялся расшифровкой Божьего гласа, прозвучавшего из глубин Вселенной, – поморщился Васька.
– Надеюсь, что нет. Давай представим некий искусственный интеллект, а именно – довольно хорошо симулирующий работу мозга алгоритм с почти неограниченными техническими возможностями. Нынче вычислительные мощности достаточно сильны, чтобы вполне имитировать мышление, подражать сложности выбора… пусть не сознания, но мозга. Любая программа – это исполняемый файл, некий экзешник, и я задаюсь вопросом: каков размер этого файла? И еще вопрос вдогонку, ты оценишь его мнимую простоту: каков размер человеческой памяти в байтах?
– Это сложные вопросы, – кивнул Васька. – В мозге синапсов в среднем раз в десять больше, чем деревьев на Земле. Хороших оценок я не встречал. На сегодняшний день мы закладываемся по шестнадцати байт на синапс. Но данная модель простовата. Вообще, уместно говорить о сотне байт на синапс и о миллионе на нейрон. В мозге взрослого человека порядка ста миллиардов нейронов. Также нужно знать концентрации всех нейромедиаторов, передающих сигналы, но это копейки. Получим в результате величину порядка ста гигабайт на описание текущего состояния конкретного мозга – кратковременной памяти, внимания и тому подобного. Это наша оперативка. Долговременная память хранится где-то еще, пока точно не понятно где. То ли в структуре связей нейронов, то ли еще и в глие[14]14
Нейроглия или просто глия – совокупность вспомогательных клеток нервной ткани.
[Закрыть] тоже. Так вот, сколько бит нужно на то, чтобы адекватно задать не только состояние нейрона, но и все его связи? Это тоже точно неизвестно. Для структуры связей, я уже говорил, нужно порядка ста тысяч бит на нейрон. Но это избыточное кодирование. Допустим, реально нужно от тысячи до десяти тысяч. Получаем, примерно, от десяти до ста терабайт на весь мозг.
– Как раз то, что нужно, – пробормотал я.
– С другой стороны, весь генетический код конкретного человека – это всего порядка одного гигабайта информации. И тут не только мозг с душой, но и всё остальное. Так чего с тобой приключилось?
– Я ездил на Памир. Собрал старые данные. Вернулся, сумел распознать. Не могу поверить: они несжимаемые. Либо их уже кто-то паковал, либо…
– Либо это прообраз исполняемого файла, да?
– Я же говорю, я спятил.
– Это еще неизвестно, кто спятил – ты или мироздание. А что, мне нравится! Ты говоришь, что ловишь не сообщения, а иное сознание в целом. В космосе мы ищем не телеграммы от Всевышнего и ангелов, но самих ангелов в качестве числовых массивов, которые можем интерпретировать как мыслительную деятельность. Получается, кругом нас вполне осмысленный числовой пантеизм. Мироздание вообще – круговорот чисел. Течения в океане. Движение атмосферных масс. Твои частицы. Обменные процессы геосферы – облака, океанские течения, циклоны, – если их научиться измерять, вполне могут содержать не сообщения, но само пантеистическое сознание. Вселенная есть мозг! Точней, речение Создателя.
– Ты издеваешься? – настороженно спросил я.
– Ладно, извини. Не принимай близко к сердцу, бери ближе к печени. Сколько там по объему вышло?
– Четырнадцать теров.
– Многовато для небесного казино.
– Не то слово.
– Если мы сводим к физической сущности большое число, то неизбежно интерпретируем его в статистических терминах, обнаруживаем его флуктуации и способность к фазовому переходу. Понимаешь?
– Получается, что мышление – это как раз и есть необратимые процессы, фазовые переходы первого, второго рода на поле сверхбольших чисел?
– Именно.
– Конечно, конечно, – сказал я и осекся, вдруг понимая: – А если все они, эти числа, некий организм или здание? Что, если я имею дело с продуктом некоего разума? И что, если я попробую использовать этот «естественный» разум для решения каких-нибудь важных задач? Например, для начала попробую заставить его распознать самое себя. Попробую снарядить его по пути к рефлексии. А что? Разве не красиво – числовой массив, использующий себя как исполнительный алгоритм, для того чтобы проанализировать, чтó он, массив, такое есть.
– Флаг тебе в руки, дружочек, – хмыкнул Васька, как мне показалось, после слишком долгого размышления.
Для выхода в свет потребовалось две недели тестирования каналов связи, дублирования и запуска рутинного обсчета, в результате чего спустя время должны были появиться первые данные о природе сверхэнергетических частиц, что, вероятно, внесет новый вклад в физику темной материи. И настал день, когда к вечеру все было готово. Янг был в восторге. Его группа хорошо на мне сэкономила. Четырнадцать бесценных терабайт, заработанных мной, отныне находились в «облаке» и могли подвергнуться вычислениям, так что присматривать за результатами и настройками я мог из любой точки мира.
Запустив обсчет и разослав препринт со всеми входными данными эксперимента, я купил две бутылки шампанского, большую банку кижучевой икры и отправился домой, размышляя о необходимости отдохновения после трудов праведных. Я сел в кухне и, поглощая бутерброды, запивая их брютом, одним глазом просматривал новости, другим косился на ноутбук, где в одном окошке бежали параметры репликаций, в другом я видел их трехмерную карту. Вдруг заворочался замок входной двери, зашелестела подкладка, послышались стук каблуков и шлепки об пол снятых сапог, затем с шорохом по стенке в кухню проникла жена. Необыкновенно пьяная, навылет, с размазанными по лицу вместе с косметикой слезами, она уселась напротив меня.
– Ты хороший, – сказала она, показав на меня пальцем.
Я настороженно улыбнулся.
– Ты хороший, – кивнула она. – А он гений.
– Допустим, – согласился я.
– Угостите даму спичкой, – кивнула жена на бутылку.
Я покорно встал за бокалом.
Она пригубила и вытянула до дна.
– Ты хороший, – повторила жена, стукнув бокалом о столешницу. – И живой. Сидишь здесь. А он гений. И его нет.
– Да кто же?… – пробормотал я, успевая заметить, что после перекомпиляции все четыре верификации дали положительный результат и теперь шар памирских данных начинает по чуть-чуть разогреваться.
– Слушай, Костик, ты извини… – жена всматривалась в меня с вызовом.
Вместо того чтобы сказать, что хотел, я схватил непочатую бутылку и стал раскручивать оплетку пробки. Жена продолжала сидеть с горестно-пьяным выражением на лице, о чем-то размышляя, пока я разливал. Потом осушила бокал и сказала:
– Беда случилась с твоим отцом. А ты тут сидишь.
– Погиб? – я откинулся на спинку стула, вдруг вспомнив.
– Беда! – выпрямилась жена.
Я едва услышал ее, потому что сам уже писал отцу в мессенджере: «Прости, как дела?» – нажал каретку, но никто не ответил.
Жена заревела, закрыв лицо руками.
Я набрал номер Беллы и выслушал ее сухой доклад, из которого следовало, что отца так нигде и не нашли, что полевые поиски остановлены.
Я встал, увел жену в спальню, уложил и отправился в кухню. Мне понадобилось несколько минут, чтобы купить билет на утренний рейс и вызвать такси.
Через четыре часа, после взлета и набора высоты, я отстегнул ремень и тут же отключился.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































