Текст книги "Чертеж Ньютона"
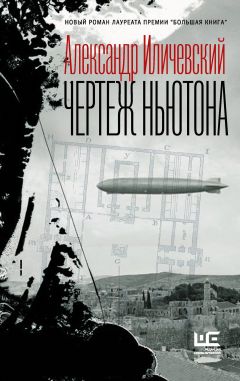
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Недолго помолившись у гробницы, Ашур расправил лоскутные одеяла и несколько овчин вокруг плоского камня у очага, насыпал конфет, заварил чай, и мы занялись беседой. Оказалось, Ашур – житель Ирана, суфий, каждый год в апреле оставляет семью и отправляется на послушание; живет здесь до сентября, присматривает за гробницей, кормится подношениями, которые оставляют ему благочестивые паломники и жители Ак-Архара. Еще во времена СССР Ашур приходил сюда ребенком вместе со своим отцом; когда тот умирал, Ашур обещал присматривать за ложем хазрата, что с помощью Бога и совершает: в позапрошлом году Хуршед помогал ему чинить гробницу, крышка которой треснула после землетрясения (потом я рассмотрел на каменной плите, испещренной вязью, трещину, аккуратно замазанную алебастром).
Ашур принял пиалу с чаем от Хуршеда и заговорил:
– Ты собираешься забрать то, что хранится на станции. Я вижу тебя, и я понимаю, что это важное для тебя дело. Но существо, которое поселилось на станции, не даст тебе унести знание.
– Там медведь?
Ашур склонил голову:
– Нет, хирс в арче ходит.
– А кто же там, на станции?
Ашур промолчал.
Хуршед положил руку мне на плечо:
– Ашур скажет – так делай.
– Хорошо, – я кивнул.
Вечером мы сидели у костра, как вдруг совсем рядом раздался рык. Я вскочил. Хуршед схватил из огня горящую ветку. Ашур собрал с дастархана конфеты, лепешку и шагнул в темноту.
Через некоторое время он вернулся:
– Старый хирс приходил. Слышит, нас трое, заволновался, решил проведать.
Спали крепко. Утром Хуршед молился, Ашур сидел в медитации, я сходил за водой к роднику, разжег костер. Попили чаю, и Хуршед простился.
Когда его спина скрылась в арчовнике, Ашур произнес:
– Не бойся ничего. Я помогу.
Глава 8
Станция
Вечером я спросил вернувшегося от родника Ашура:
– Как же я пойду на станцию?
Ашур поставил баклажку с водой на землю:
– Зверь ждал тебя. С одной стороны, он охранял. С другой – зверь есть зверь и сразу не пустит. Но не бойся, я дам тебе вот это. – Ашур снял с груди амулет – гвоздь. – Это могучее оружие. Если что – бей в глаз.
Я недоверчиво рассмотрел гвоздь:
– Оружие?
Утром Ашура в пещере не было; я умылся, глотнул холодного чаю и быстро собрался. Дорога на станцию заняла остаток светового дня, и, когда я вышел к ангару и двум зданиям основательной постройки, уже садилось солнце. Я обрадовался, увидев перед ангаром (как оказалось, не слишком поврежденным лавиной) «Ниву» Хуршеда. Оглядевшись, я увидал его на взгорке – он спускался со столба на «кошках», закончив монтаж проводов.
– Принимай работу, – приветствовал меня Хуршед. – Найди розетку.
Простившись с Хуршедом, я постоял, глядя, как кивают и рыскают фары, как ближний свет зарывается в колею, как густеет тьма над Памиром и гаснут отсветы с вершин уже канувшего за горизонт, но еще подсвечивающего высотные зубья солнца, и отправился оборудовать ночлег. В ангаре я сложил из камней очаг, развел костер, отломав от кабельных катушек несколько досок. Пламя поднялось повыше, и в его отблесках я хорошо рассмотрел массив из стопок листового свинца и перемежавшихся им кассет.
Видели ли вы, как кладоискатель после удара кирки по кованой крышке сундука впивается лопатой в оставшийся грунт? Видели ли вы, как споро и точно каменщики возводят кладку, строя дом для собрата своего каменщика? Так и я не заметил, как сознание погрузилось в мед сосредоточенности, уступив телу свою выносливость.
Первым делом я оборудовал на стеллаже в ангаре лежанку, распустил для очага на щепы крышку стоявшей тут школьной парты, за которой когда-то сидели лаборантки, с лупой изучавшие каждый квадратный сантиметр пленки, но прежде обследовал заброшенные здания и особенной разрухи не обнаружил. Мне было интересно покопаться в архивных закутках, где нашлись фотки с субботников и походов на ближайшие вершины участников того или другого сезона и групповые снимки вместе с более или менее значительными учеными, посещавшими станцию. Я узнал Скобельцына, Гинзбурга, Векслера, Тамма; Векслер был одним из основных энтузиастов создания станции, и за его плечами на фотографиях можно было рассмотреть все стадии строительства. Вот возводятся одноэтажные приземистые строения – торчат стропила, кладется кровля; а вот сооружается первая версия рентген-эмульсионной камеры, раз в двадцать меньшей по площади, чем нынешняя, первопроходческий вариант: горят горелки, клепаются ребра швеллеров, вся конструкция напоминает пролет моста – раскосины, перекладины, этажерчатые переносицы кровли. Теперь мне предстояло карабкаться по этим стальным бровям, чтобы демонтировать колонны свинцовых кассет, собравших двадцатилетний урожай сообщений Вселенной – речений мироздания, пронизавших фотоэмульсию космическими ливнями, вызванных ударами разогнанных взрывчатым рождением мира частиц. Я всматривался в фотографии неизвестных или смутно знакомых людей, пока наконец не осознал, чтó именно так завораживает меня: коллективные снимки – головы и плечи веером в несколько рядов – напоминали снимки хора, поставленного так, чтобы звук шел поверх каждого следующего ряда в фокус параболы, по которой их выстроил дирижер, формируя амфитеатр тел, тонущих в пучине времени.
Я приспособил снятую в жилом корпусе дверь под верстак, заточил нож, положил рядом с ноутом, сканером, воткнул накопитель, метнулся в лабораторный корпус, поискал, нашел стабилизатор, проверил его работоспособность. Потом устроил перекус и, пока прихлебывал крепчайший чай, оглядывал вприщур пирамиду кассет, прикидывая, во что мне обойдется взятие этой вершины. Никак не мог точно сосчитать стопки и взобрался по швеллерам повыше – вот они все, метр на метр, две тысячи кассет горкой. Я засучил рукава. Цикл состоял в том, чтобы вскарабкаться на рабочий участок, затем, орудуя по периметру отверткой, вскрыть кассету, лист свинца снять аккуратно, не повреждая плотный конверт с пленкой, отложить, конверт пронумеровать в соответствии с утвержденной в журнале работ координатной сеткой, распаковать так десяток кассет, спуститься к верстаку и с помощью рейсшины, подобранной вместе с другими инструментами в проявочной, приняться за точную кройку. Затем я снова нумеровал раскроенные части, а когда все было готово, отправлял полученные сканы в программную сшивку, после чего сбрасывал результат на накопитель. Дня за три такой работы, которой не было конца и краю, я вошел в состояние, похожее на глубоководное погружение. Единственной эмоцией, пробивавшейся ко мне с поверхности мира, была уверенность в моем методе, в том, что он сможет справиться с такой густотой данных, с пережженными струями частиц участками пленки; но, сканировав и оцифровав две тысячи квадратных метров, восемь тысяч сканов, при обработке я еще должен был совместить все стопки и восстановить в одну объемную картину все струи-события, прошившие камеру.
День я начинал на рассвете и заканчивал с заходом солнца, поднимаясь на ближайший взгорок, откуда закат выглядел в точности марсианским: косые солнечные лучи делали еще смуглей шершавые от острых камней скулы склонов.
Долго ли, коротко, я потерял счет дням. Иногда, чтобы встряхнуться, я уходил слоняться по станции, снова и снова заглядывал во все комнаты и помещения, примечая там и здесь полезные вещи, находя то коробку рассохшихся карандашей, то рулоны кальки, то упаковку копирки, аптечку с истлевшими эластичными бинтами, жгутами и пузырьком с марганцовкой; нашел и кипятильник.
Ничто ни на земле, ни на небе не было способно отвлечь меня от дела. Но уже два или три раза то ли во сне, то ли наяву отдаленно слышал я некий мрачный низкий рев, не предвещавший ничего хорошего. И сегодня днем он раздался отчетливо. Я выскочил наружу. Нечто сгустилось в воздухе, заиграло кристальными гранями, смутная фигура крылатого существа взметнулась передо мной, заколыхалась блестевшими срезами, будто покрытое дробящейся чешуей, и вдруг грани стерлись на распахнутых крыльях, и вновь прозрачный объем приземистых зданий, окруженных изломанной гористой местностью, предстал передо мной, будто на поверхности воды успокоилась мгновенно рябь.
Вечером заехал ненадолго Хуршед, привез продуктов, сказал на прощание:
– Ашур велел передать, чтобы ты не боялся.
– Да как тут не убоишься?
– Ашур сказал: не бойся, делай свое дело.
А что мне еще оставалось? С юности я знал, что работа может человека если не спасти, то облагородить. Чумные годы, когда Кембридж опустел в 1665 году, Ньютон провел в уединении. Он уехал домой, в Вулсторп, захватив с собой книги и тетради, спасаясь не только от опустошительной эпидемии, но и от войны с Голландией и от Великого лондонского пожара. Там он и сделал большую часть своих научных открытий, там открыл закон всемирного тяготения. Именно тогда, писал Галлею позднее Ньютон, он выразил обратную квадратичную пропорциональность тяготения планет к Солнцу в зависимости от расстояния и вычислил правильное отношение земной тяжести и стремления Луны к центру Земли. Пример отшельнической работы молодого Ньютона всегда был для меня образцом сосредоточенности, тем более сейчас, когда я вплотную приблизился к бесценным залежам данных, способных приоткрыть тайну темной материи, имеющей непосредственное отношение к закону тяготения. И мне было безразлично, во что мне обойдется «сопротивление материала».
Глава 9
Работа
Я все готов был стерпеть ради работы. Однажды проспал рассвет и в счастливом полусне приоткрыл глаза: в проеме ангара дышала огромная шерстяная спина с заложенными на загривок ушами-простынями. Я зажмурился и пробормотал, улыбнувшись: «Калощадка пришла», – махнул рукой, словно пытаясь погладить, но забылся, а когда снова открыл глаза, увидал, как широченная меховая спина рванула за угол ангара.
С тех пор калощадку я видел на склонах регулярно, гадая, что же она делала: паслась, слонялась, облизывая голые камни, или просто сидела там и тут – мне некогда было подолгу за ней следить. Она могла несколько часов кряду пробыть в одном и том же месте, понемногу сползая своими роговыми колесами по склону и вызывая осыпь, а то вдруг этот слоновый кролик начинал громко вздыхать, будто разгонял внутри мехи, и кидался со всего маху куда-нибудь, причем момент полета был великолепен: чудовищного объема живая масса внезапным скачком проносилась по склону, только развевались рваные кончики ушей да слышалось из-под земли идущее эхо удара.
А особа в красном появлялась вскользь, непременно в боковом поле зрения, пока я сканировал кройку; стояла скромно, прекрасное лицо ее было скрыто вуалью теней, и любая попытка обратиться к ней, даже мысленно, приводила к ее исчезновению: она пропадала, как вспархивает бабочка под протянутыми пальцами. Понемногу я привык к ней, поняв, что это один из примкнувших ко мне стражей, и, когда спускался с пирамиды и усаживался за кройку и сканирование, ждал ее появления – сначала напряженно, а потом уже слегка даже бравируя, мол, соскучился, – но все равно пугался, только меньше, ибо человек способен привыкнуть ко всему, в том числе и к рассеченной реальности.
И пусть работа спорилась, все же меня стало занимать, что происходит на станции, пока я сплю, – поскольку однажды окончательно пришлось себе признаться, что за ночь по мелочи, но неизбежно что-то меняется в обстановке: то пропадет рейсшина, то перепутана последняя кройка, то вдруг на пирамиде сдвинута кассета, даже вскрыта, но лист не убран, просто отложен в сторону, конверт с пленкой не тронут. Наконец, когда утром я не обнаружил на верстаке сканер и искал его в панике по всему ангару, а нашел только у лежанки, в ногах, спрятанный под рюкзаком, я из фотоувеличителя, выисканного в проявочной, соорудил штатив и укладывался теперь на сон грядущий под неусыпным оком видеокамеры, устанавливая ее под разными углами и в разных местах, пытаясь получить представление о ночной жизни на станции.
Несколько ночей понадобились мне, чтобы понять, что к чему. Я так изнемогал за день, осваивая верхотуру в ангаре, что едва успевал застегнуть спальник, как сон валил меня борцовски в партер небытия. И хоть и помнил я успокоительные слова Ашура, все равно после того, как утром проснулся с накопителем, зажатым в руке, мною овладела оторопь. В результате охоты за самим собой с помощью камеры стало ясно, что редкую ночь целиком я провожу на лежанке. Непременно через полтора-два часа покоя встаю, обхожу ангар, беру с верстака накопитель и с ним в руках возвращаюсь к пирамиде. Я взбираюсь на нее и затем по верхним швеллерам поднимаюсь на стропила, откуда шагаю ровнехонько под самый конек ангара, где и стою полночи. Несколько раз я слышал в записи знакомый рев, и однажды перед камерой метнулось что-то блескучее, как крылатая змея, и я сбросил все видеофайлы на ноут.
Вскоре пришлось всерьез сопротивляться погоде: облако наползло, уселось на мель на здешнем высокогорье, его клочья вползали в прорехи ангара, сбавляя видимость. Постепенно интерес мой к ночным похождениям ослаб, мне наскучило раз за разом видеть, как я прохожу на цыпочках мимо камеры, пропадаю из виду, а через некоторое время появляюсь в глубине кадра, взбираюсь на верхотуру, где простаиваю до предрассветного полумрака словно часовой. Днем в памяти вспышками возникали пугающие картины: я видел с высоты, как внизу подо мной бушевало и бесновалось крылатое существо, мельтеша потоками как будто бы зеркальных перьев, и мне непонятно было, отчего ему никак не удавалось прихватить меня своим клювом.
Однажды утром я заметил явный кавардак с кассетами. Пирамида понемногу таяла, вершина ее заострялась, становилась все меньше площадью, пустые кассеты приходилось из экономии сил складировать тут же, так что ангар внутри все больше напоминал скалистое урочище, лабиринт, в котором телу было проще ориентироваться, чем мозгу, и телесным наитием я понял, что за ночь что-то преобразилось в расположении пустых кассет, что-то произошло с их стопками, и это меня взволновало, ибо раз кто-то был способен перемешать пустые кассеты, то он же может перепутать еще не отработанные кассеты, что окажется труднопреодолимым препятствием при обработке данных.
Я отложил работу и принялся отсматривать запись. Сначала все шло как обычно: я отправился на свой пост – силуэт мой поместился в северо-восточную прореху в крыше ангара, – вскарабкался на самую макушку пирамиды и оттуда стал взбираться наверх обычным путем по стропилам, как вдруг кто-то отвернул камеру, в динамиках зашуршало чье-то прикосновение и дернувшийся кадр остановился на верстаке. Немного погодя камера задрожала от чьей-то поступи, затем промелькнул силуэт Ашура – а в замедленной съемке было ясно видно, как он летел в прыжке, занеся подобно копью свой посох. Какое-то время изображение тряслось и скакало, потом штатив опрокинулся, и наискосок я увидел, что происходит: Ашур бился с исполином. Нельзя было рассмотреть в подробностях, но постепенно стало понятно, что это некое соединение туловища человека с птичьей головой. Колосс, забранный в подобие стеклянно-перистой брони, блестевшей в темноте антрацитом, титан с тлеющими желтыми глазами чудовища и человеческой гибкой фигурой в полной тишине противостоял Ашуру, который бил его нещадно, орудуя посохом будто двуручным мечом. Все это время я видел себя стоящим высоко над сценой битвы; чудище с птичьей хищной головой щелкало клювом и пыталось вскинуться повыше, чтобы сбить меня, еле державшегося на мысках на узкой жердочке; я стоял, вытянув над головой руки с обмотанным вокруг пальцев шнурком накопителя, словно стараясь уберечь бесценный груз, как стоят, замерев, на краю трамплина прыгуны в воду. В какой-то момент птичья химера, издав гортанный рокот, низкий, но недостаточный для рокового пробуждения сомнамбулы, изловчилась и в хитроумном кульбите, выставив вперед плюсну, сумела выбить у Ашура посох. Потом запись оборвалась.
Я взглянул на часы и спохватился. Ясно было, что делать нечего, остается только ускорить работу и поскорей исчезнуть отсюда. В тот день я решил не ставить камеру на запись, считая, что раз уж дело приобрело столь угрожающий вид, лучше зажмуриться.
На следующее утро я проснулся от сильного солнца, вставшего во весь рост своими теплыми пятками на мои веки. В ясные дни станция и горы вокруг преображались и переставали быть декорациями чистилища, предбанника ледяного гиперборейского рая – ада для смертных, расположенного двумя километрами выше. Я потянулся, щурясь на два сахарно-каменных пика, проступивших в прозрачном воздухе, и решил залениться сегодня, сделать себе подобие выходного – отлежаться и потом сварить овсянку на сухом молоке с лишней горстью изюма. Но тут взгляд мой упал на пирамиду и метнулся к вершине ангара. Солнечный луч, бивший в прореху в крыше, ложился на лицо и тело обезображенного могучим ударом нагого человека. Привязанный за руки к потолочной балке, располосованный снизу доверху, над моим сокровищем висел Ашур.
Я кинулся наверх. С трудом распутал веревки, тело скользнуло на склон пирамиды, и суфий застонал. Я уложил Ашура на брезент. В тот день должен был явиться с продуктами Хуршед, и он не заставил себя ждать. Вместе мы перетащили Ашура в машину и отправились в путь.
Но не успели мы миновать кишлак, как Хуршед вдруг ударил по тормозам и выскочил из машины. На ближайшем гребне четыре волка рылись во внутренностях какого-то существа. Хуршед зашагал в их сторону, волки ощерились и зарычали; тогда он развернулся, достал из багажника дробовик, побежал и не сбавляя хода выстрелил – дробь хлестнула и застучала по камням, а волки затрусили прочь. Вблизи нам предстала картина развороченной части туши – груда мяса и лоскуты кроличьей шкуры. Хуршед покачал головой и пробормотал: «Верхние чудят». Я сообразил, что это кусок калощадки, и крикнул: «Поехали!».
Мы отвезли Ашура в Хорог. Выжил он чудом только потому, что раны еще в дороге необъяснимым образом стали сами затягиваться.
Прошла неделя, а я все не решался вернуться на станцию, жил теперь в пещере хазрата, отчасти подменяя Ашура: поддерживал огонь в очаге, принимал паломников, рассказывал им, что случилось с суфием, те цокали языками и бормотали молитвы. Каждую ночь приходил к пещере хирс, и я выхватывал головню из костра, другой рукой собирал кусочки лепешек, брал плошку с недоеденным «дошираком» и выносил медведю. Последние два дня я проводил время на метеостанции, помогая Хуршеду.
Вдруг он спросил:
– Когда работать пойдешь?
– Боюсь я, Хуршед.
– Ашур велел: не бойся. Кончил дело – гуляй смело. Меня так в армии учили.
Я промолчал, но на следующий день все утро провел у порога пещеры, собираясь с духом перед возвращением на станцию. Я сидел, глядя из бельэтажа на партер гористых увалов, на светлую нитку дороги на станцию, вспоминал всякую всячину и думал о том, что делает отец в самый ответственный момент моей жизни.
Следующие две недели я пробыл на станции, завершил запись данных до самого последнего фотоэмульсионного листа и благополучно, без приключений вернулся в Москву, прежде навестив в больнице идущего на поправку Ашура.
Глава 10
Отец
Я долго не знал отца – тот пропадал в геологоразведке, пока на Чукотке не завершились изыскания россыпного золота. А потом вдруг появился он, пахнущий сыромятной кожей и табаком. Одно из первых воспоминаний: мать вынесла ночью меня к только что прибывшему отцу, резкий свет, зажмуренные глаза, и колючая прохладная сила подхватывает меня целовать, а дальше вспыхивает утро, и я вижу приоткрытую балконную дверь с полосой луча, добирающегося от порога до спинки кровати. Никогда прежде не видел я так близко ни одного мужчину. Сказочный великан лежал навзничь на постели, куда я любил скользнуть поутру, прижаться к материнской теплой мякоти, и я оказался пленен этим властным вторжением крупного плана, ошеломлен, разглядывая торчащие из-под простыни ступни, складки простыни, текущие по телу, закинутые за голову руки, вздымающуюся грудь, плечи и темные подмышки, волевой подбородок, опрокинутые брови, прямой нос с сужающимися от дыхания ноздрями. Так же зачарованно я разглядывал потом чудеса – море и жирафа. Так же десятилетия спустя в роще секвой в Йосемити я буду рассматривать поверженный бурей колосс: купол вывороченного корневища, ствол уходит вверх по склону подобно связанному лилипутами земного притяжения Гулливеру. Так же тело отца длилось ростом вдоль кровати.
Кажется, я во многом унаследовал отцовский характер, состоявший в яростной пытливости: например, побуждаемый ею, отец, к ужасу матери, заглядывал на прогулках в окна, с кошачьей ловкостью пользуясь пожарной лестницей, – вот эта страсть любопытства передалась мне сполна.
Мать сокрушенно вздыхала, глядя, как я разбирал снятый с антресолей рюкзак с альбомами, набитыми снимками, – с их помощью отец собирался извлечь достоверное описание той или иной местности. Альбомы были пронумерованы и поименованы на корешках и назывались: «Планетарий», «Хлебозавод № 5», «Дом Наркомфина», «Бахметьевский гараж», «ДК Русакова», – всё это были памятники московского конструктивизма, пренебреженные варварской современностью. Отец собирался писать книгу (но потом бросил), посвященную этим уходящим в безвременье образцам культурного слоя. Замысел его состоял не в осмыслении архитектуры – он собирался сделать книгу о людях, связанных прямо или рикошетом с этими объектами, о людях, либо живущих подле, либо работающих в них, о тех, кто создает мифологическую плоть особенных локусов московской действительности. Идея книги была вполне конструктивистская, и я отдавал должное стремлению отца превозмочь дядю Гиляя уже с помощью новаторского приема. Отец писал: «Не сходя с места, стоя где-нибудь на Остоженке, я за минуту способен насчитать пяток-другой различных архитектурных стилей. Я хочу вгрызться в глотку этому эклектичному, одновременно уродливому и милому божеству – Москве, представляющейся мне в песьем бездомном облике, изгвазданном проплешинами пустырей и лишаями провалов; стаи бродячих собак – ее жрецы, но есть, есть такие обличья столицы, к которым хочется пригнуться, приласкать, подкормить».
Я часто слышал от отца: «Чтобы чего-то достигнуть, нужно быть немного сумасшедшим. Нормальным людям большие дела не по Сеньке шапка». – «Но что, если эта шапка – шутовской колпак?» – думал я про себя, зная, как порывисто отец способен себя вести: то мчаться искать в Замоскворечье масонские церкви с двумя храмовыми столбами у входа или рыбачить на Пестовское водохранилище, всю ночь трепаться у костра, быть рубахой-парнем, то вдруг омрачиться, зыркать исподлобья и обругивать тогда всё на свете. Как правило, небо и преисподняя у него сходились в одну лиловую плоскость, и никак нельзя было предугадать, к какой из ипостасей относил он светлые длинные волосы, хрупкий облик мадонны, совершенные колени: отец считал, что колени – главная телесная часть женщины, по которой весь ее облик воссоздается точней, чем по иной части тела: «Что нам видно из Платоновой пещеры? Лишь колени».
Отца всегда хватало на многое: это был и выносливый опытный геолог посреди Чукотки, и странный человек, живущий на краю Иудейской пустыни; поэт, увлеченный Москвой и Иерусалимом; специалист, сменивший занятие геологией на иерусалимскую археологию. Но только на первый взгляд в этом виделось противоречие: отец читал геологические и культурные пласты как книгу, он просто переменил тома. Ему и Ньютона было мало, в отличие от меня.
В тот далекий полдень отец сидел у меня в общежитии в Долгопрудном. На Физтехе даже москвичам давали комнату в общаге, чтобы легче было учиться, а отец вырос и жил тогда в унаследованной коммуналке там же, в Долгопрудном, наведываясь ко мне, да и я к нему хаживал нередко. Он сидел, как обычно, на подоконнике, упершись взглядом в общую тетрадь, в которой рисовал балерин или кубистических самураев – с флажками в бою, выхватывающих катану. Я слушал Led Zeppelin из самодельных погромыхивающих колонок, тихонько подпевая «Лестнице на небеса» – боясь отцовой насмешки над моим стремлением походить на Роберта Планта: я отпускал волосы и так же порой развязно двигался, будто вокруг воображаемой стойки с микрофоном.
За окном гудели, набирая скорость, и грохотали при торможении электрички, щебетали воробьи, студенты перекрикивались и стучали баскетбольным мячом, как вдруг отец соскочил с подоконника:
– Костик, ты же, в сущности, сирота, да?
– Не знаю. Мать жива, отец – вот он.
– Так и есть, сирота, – заходил по комнате папка. – Неполная. По отцу сирота. Сиротинушка ты моя саженная. А почему тебя так назвали? Костик. Кортик. Косточка. Костяное имечко.
– Уж как назвали.
– Так и поплывешь. Костьми ляжешь, но доплывешь. Константин, константа, постоянный. Верный пес!
– Не знаю, – пожал я плечами, – мне нравится. Мать говорила: ты назвал в честь Циолковского.
Отец рассмеялся, прошелся по комнате, хлопнул меня по плечу.
– А вот скажи мне, Циолковский, ты отца-то помнишь?
– Пока ты не сбежал – помню.
Отец устремил взгляд исподлобья:
– Извини, что спрашиваю. Просто в силу биографии мне недоступны кое-какие чувства. Приходится прибегать к чужому опыту. Мой-то родитель нас с матерью покинул еще до моего рождения, и ничего о совместном проживании с Эдипом я сказать не умею. А нынче мне позарез нужно кое-что уразуметь. Про любовь к отцу. Возможна ли она? Тебя пороли, признавайся?
– Лучше бы пороли, – буркнул я.
Отец снова прошелся по комнате.
– И что, как ты без мужика в доме рос? Неужто мать в дом никого не привела?
– А твоя?
– Пыталась.
– Вот и моя пробовала. У нее товарищ был. Корабельников.
– Знаю такого.
– Никто его по имени не звал, Корабельников да Корабельников. Так он стал приходить к нам. Меня воспитывал. Но один раз я ему на голову «Радугу» вылил, чернила. На меня нашло что-то. До сих пор стыдно. Мать его чаем поила. А я ручку заправлял. Стал закрывать флакон, но передумал, подошел и вылил Корабельникову на макушку. Отошел и смотрю, как он сейчас меня убивать будет. Но мать только сказала: «Уходи».
– Легко отделался.
– Это она ему сказала.
Отец хмыкнул.
– Хорошая у тебя мать. Моя, ехидна, увещевала, мирила, мораль читала.
– Моя тоже: «Нам нужно крепкое плечо».
– Эка невидаль, – отец развел руками. – Чернильницу, говоришь, ему на плешь устаканил? Уважаю. А я мельчил, мамкиным хахалям кнопки в ботинки отсыпал, клей лил, нарывался. Но один гад стойкий оказался.
Отец замолчал. Я смутился. Мне очень хотелось, чтобы он что-то получил от меня, какой-то важный смысл.
– Я понял, старик. Конец связи, – сказал отец и снова переместился на подоконник.
Тем временем я вернулся к занятиям теорфизом, прикончил главу, решил задачи к ней, одну отложил на вечер; по коридору ходили парни, стучали мячом в двери, набирая команду, и я обрадовался возможности погонять в футбол часа два; вернулся, спустился в душ, поднялся, развесил постиранное, приготовил бутерброды с килькой, сел пить чай и повторять главу; взялся уже за задачу, а отец всё мусолил листки и грыз карандаш. Кто-то из парней, с которыми я играл в футбол, заглянул за хлебушком, но я не успел ополовинить буханку, как отец соскочил с подоконника, вытолкал парня за дверь и буркнул:
– Слушать будешь?
– Давай, – сказал я.
Изгнанный снова открыл дверь. Я протянул буханку и махнул рукой; тот исчез.
Отец еще раз перечитал, что-то подправил и хотел сам читать, вдохнул, но передумал и протянул чистовик мне.
– Короче, Циолковский, не взыщи.
Портрет с пчелами
Идя на могилу отца, он надевал маску из пчел.
И пока сидел на корточках, ожидая ответов
на вопросы, рой пчел жил на
его лице, пчёлы пробирались
в его рот и там вылепляли новые соты.
Иные облетали кладбищенские цветы и травы,
возвращаясь с пыльцой и нектаром, чтобы
вложить ему в уста по капле слово,
всё, что земля могла сообщить о молчании.
После Авеля так много сгинуло людей,
что их упорное молчание с тех пор сгустилось
в огромный многотонный слиток чистого урана.
Он чувствовал, как вместо сердца в его груди
пытается пульсировать этот урановый слиток,
но кровоток застыл вместе с ответом.
Сын спрашивает отца: «Почему ты оставил меня?»
И прислушивается к молчанию в груди, пока пчёлы
приносят нектар истины в его уста, жаля в язык.
Но вот рой снимается с места и оставляет
сына стоять с чистым лицом и вырванным сердцем.
Зато его уста, глазницы сочатся медом, он полон
золота речи. Снова отец не ответил.
Снова сын придет на могилу, чтобы вновь
попробовать откатить слиток молчания.
Я прочитал, ничего не понял и обиделся.
Отец схватил меня за плечо:
– Прости, старик! Тебе не понравилось? – И тут же отстранился: – Не знаю, на что тут кукситься. Это же метафизика, понимаешь?
Я кивнул:
– И на том спасибо.
Я вышел в коридор, где постоял с курильщиками у лестницы, послушал их разговоры. Когда вернулся в комнату, на подушке обнаружил листок – переписанное стихотворение «Rolling Stones. Портрет с пчелами» с посвящением в углу: «Моему Константину».
Английская добавленная часть названия сбила меня с толку, но я спрятал листок в тетрадь и стал его хранить.
Однажды отец решил начать очерки о столице с каталогизации и детализации архитектурных ее образов. Непостижимым способом он проникал в самую их сердцевину, и спустя десятилетия я с оторопью всматривался в видневшийся далеко внизу Донской монастырь и мыски ботинок отца, лежавшего на ребре Шуховской башни. При просмотре альбомов (они давно уже были неинтересны отцу, он остывал ко многим черновикам) складывалось впечатление, что каждый из них – коллекция кадров неких фильмов, налипших, как зрячие соринки, на сетчатку. В них были и ломти стен, окрыленных перистыми облаками, и кровли, впивающиеся клиньями в небо, и окна-иллюминаторы дома-парохода, и веера лестничных ступеней, и цейсовский, похожий на гигантского термита проектор звездного неба, и составные лекала куполов, и сложно устроенные потолочные плоскости, отражающие белизну в белизне, и напоминающие фермы космического корабля шуховские перекрытия – на них отец вскарабкивался, чтобы снять работу автопарка: косые ряды машин, бригады ремонтников, но главное – лица: Москва увлекала отца лицами. В дневнике он писал: «Безлюдье только горожанам чудится благом. Седьмой год в медвежьем краю, где лица наперечет, где главный твой собеседник – пламя в печурке и река в половодье, бьющая в излучину, как из ружья; в ее грохоте беззвучно одна за другой, как подкошенные, опрокидываются с подмываемого берега лиственницы, и ни единой живой души на сотни верст вокруг. Это при том, что подводники всего за пять лет совокупной вахты в пучине получают тучную пенсию. Что ж? Довольно растрачено здоровья на благо родины. Довольно! Dahin, dahin, в столицу, в ужасную и милую Москву, обнять Нюшу, затискать Костика».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































