Текст книги "Председатель Томский"
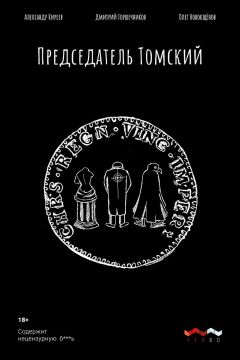
Автор книги: Александр Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
III
Май 1929-го года. Закрытое конструкторское бюро в городе… Уже сказать одно, что это город, а не село, например, не хутор, по-нашему значит и расценивается – выдать военную тайну, за которой днём ли, ночью, зимою ли, летом, дождь на дворе или что, гоняются все спецслужбы всех стран и государствообразований. Поэтому может и в рабочем посёлке. Может быть, и в секретном подземелье, например, в тайных ответвлениях Московского Метрополитена (строительство началось в 1933 году, первая линия пущена 15.05.35). А что же, у нас ещё и не такое очень и очень даже может быть.
Действие происходит в неказистой комнате с множеством транспарантов, чертёжных досок и стульчиков подле них. На одном из этих неудобных сидений задержался (видно, потому что один такой дурак остался) инженер Михаил Афанасьевич Булгаков (не писатель, не родственник даже). Он находится в вопиющем смятении: рвёт какие-то ватманы, топчет их, скуля с богоборческим огнём в глазах. Входит Николай Гаврилович Чернышевский (тоже не писатель, тоже не родственник и даже не однофамилец, кажется, хотя чёрт их разберёт с этим родословием).
Чернышевский: Миша, Миша! Образумься! Забыл, как у нас с бумагой строго? Ты сейчас побуйствуешь себе в усладу, а наутро Александр Сергеевич так над тобой побуйствует за нецелевое расходование материального инвентаря, что пожалеешь, что на свет родился не Анной Андреевной. Той на прошлой неделе ещё сравнительно легко и непринуждённо удалось отделаться за проглот в полёте творческой мысли канцелярской скрепки.
Булгаков: Запорол! Всё к чертям ядрёным запорол! Просчёт оказался уже в первых чертежах! А по ним же уже техническое задание составлено. Что там составлено – завизировано уже на самом верху! Работы уже небось начались!
Чернышевский: Не горячись ты. Всё наверняка поправимо, пусть и нелегко.
Булгаков: Поправимо?! На, смотри сам! (Протягивает подобранный с пола огрызок бывшего чертежа.)
Чернышевский: Да-а-а, действительно… Просто чудо, какое показательное вредительство! Это ж даже нарочно сразу не придумаешь, чтоб так враз всё испакостить. Да не топчи ты почём зря свои вшивые бумажонки, погоди. Я тебе сейчас из подсобки топор принесу. Круши тут всё себе на здоровье, один чёрт тебе теперь уж всё едино. (Собирается уходить.) Или, думаю, может, чтоб второй раз не бегать, я канистру керосина прихвачу?
Булгаков: Ты что же думаешь, что меня могут как этих – шахтинских – взять и на скамью?! Мол, типа, как бы я… того… в целях срыва и деконструктивации?
Чернышевский: А сам-то ты как думаешь? Если каждый, как ты, начнёт…
Булгаков: Так ведь я же не специально же!
Чернышевский: А те – шахтинские – они что же, по-твоему, специально?
Булгаков: Но ведь мы же не при диком империализме живём! У нас же есть охрана труда, соцобеспечение, здравницы там всякие и кузницы, профсоюзы. Я член, в конце концов, или кто? О, мне же товарищ Томский, когда орден вручал, свой личный служебный телефон оставлял. (Зарывается, урча, в ворох бумажной рванины.)
Чернышевский: Это ты зря делаешь. Давай лучше схожу принесу.
Булгаков: Говорит мне: «Уважаемый Михаил Афанасьевич, если возникнут какие-нибудь трудности, вы обязательно звоните, меня с вами непременно соединят беспроволочно».
Чернышевский: Тебе что лучше: топор или сразу керосин?
Булгаков: А я ему: «Заслужить Ваше и Партии доверие – вот цель, устраняющая любые непредвиденные препятствия на трудном пути познания с помощью марксистско-ленинской методологии и коммунистического напряжения всех сил на благо развития индустриализма и социализма, оба которых одинаково ценны, что матери, что отцу, что Партии, что…»
Чернышевский: Хватит! Я тебе говорю: перестань ты копошиться, зазря всё это, сковырнули твоего Томского.
Булгаков: …А он стоит, в усы ухмыляется, довольный такой, что в инженерии, бывает, случаются политически грамотные специалисты, чтоб попадались под стать реконструктивной эпохе. Нет такой проблемы или задачи, которую мы не смогли бы решить, если передовая техническая интеллигенция протянет руку и падёт в объятья рабочего класса. Только так она может избежать попадания в лапы империалистических хищников и гиен наёмного труда… Ой!!! Больно же!!!
Чернышевский (сходя с ладони Булгакова): Для передовой интеллигенции повторяю: зазряшны все твои хлопоты – вывели твоего тёзку на чистую воду, хотя пока не из состава Политбюро, но с поста председателя ВЦСПС турнули, так что скоро покатится по правому уклону с Бухариным, и Рыковым, и иже с ними туда же.
Булгаков: Куда?! За что?! Когда?!
Чернышевский: Когда – отвечу: вчера указ о снятии подписан. За что? Сам должен бы догадаться: потакали, предположу, мягкотело твои любимчики разным неударнотемпным перестраховщикам, да и откровенным вредительским поползновениям достойного ответа не соображали. А уж куда – тут, я думаю, ты сам, безо всяких подсказок узнаешь и наперёд самого Томского собственною шкурой поймёшь даже, до какой степени.
Булгаков: А ты-то, ты, Николай Гаврилович, какой утехи ради злорободрствуешь, как паче мозгом недоразвитыш? Не предусмотрительно, будто меня одного, а тебя сковырк товарища Томского не касается, и Михаил Юрьевич тоже не при делах. Нет, мнимый мой радетель о народном благе, и тебя, будь покоен, коснётся так (и тёзки твоего Васильевича – ещё гуще), что некому за тебя порадеть будет! Попомнить мои слова можешь не попоминать – тебе их ещё само собой напомнят, так что не мне одному увы. И тебе «увы» возгласить надо, и всем нам, кто напрямую теперь под Наркоматом ходить будет без законных соблюдовщиков: «Увы нам всем, увы без товарища Томского!»
IV

Утро 23 августа 1936-го года. Алексеевна рано плачет на даче в Путинках: «Забрали! – в голос рыдает, жалкая. – Приехали с обыском! И забрали Коленьку! Ни про что забрали ладушку! Рылись всю ночь-затемень, всё перебрали окаянные, чтоб их колчуном заткнуло и луком покоробило! Я с рассветом глянула – эк полох навели несусветский! Всё ценное понаизгваздали, топтуны клятые, как ветрилом всё спахнуто, – и увели от меня ладу: ни золота, ни серебра теперь без него не укупишь, растасканного татями нощными. Уж лучше не вставать солнцу противному, не лить лучи на разор мой бедственный, чтоб не видеть мне, что нет со мной моего Коляшечки».
Так исходит тоскою о муже и гневом на разорителей без пяти минут вдова бывшего руководителя Москвы, кандидата в члены Политбюро, правоуклониста Николая Александровича Угланова. Нянючит горе своё в жилетку крестнику, транспортному студенту Юре Ваксельгаузу. Тот увещевает неразумную тётушку, пристроившую его в столицу, молодёжью вышколенными штампами: «У нас невиновных не сажают. Если ошибка – обязательно сразу выпустят. Органы никогда не ошибаются. Резюме: если Николай Александрович не виноват – ждите его к ужину, Анна Алексеевна».
– Что значит «если»?! По-твоему, папа может быть в чём-то виноват перед Советской властью, которую он сам установил?! – наотмашь вступается за отца любимица его – Людочка, пламенный активист и решительный вожак героических лет Комсомола, в скором убогая и забитая поэтапница.
– Я не знаю. Но там, где всё знают наперёд, скоро скажут, знают ли они. Я надеюсь – нет! Я же, видите, прямо сейчас не ухожу. Тоже жду ж. Да и куда пойти? Не в общежитие же! Мне бы сейчас денежек перехватить на билет к матери в нашу Ярославскую глубинку, хотя для меня сейчас брать денег у вас – это себе очень компромитант, ну да ничего: родственники всё-таки. Вы успели заметить, Людмила Николаевна, уже пятнадцать минут, а я всё жду: не случилась ли впрямь ошибка? Хотя это и маловероятно, лучше бы вам сразу со мной и поглубже бы и подальше, чем я, пока чего не случилось похуже и с вами, как с отцом вашим: ведь вы, выходит, знали, а не донесли, что уж точно ошибка с вашей стороны.
– Вы действительно думаете, что Николая Александровича скоро отпустят? – помешавшаяся горем плакальщица, неадекватно расценивала как саму ситуацию, так и реакцию на неё окружающих.
– Мама, да что вы, в самом деле! Он совсем, совсем обратное говорит. Говорит, что нам самим отсюда текать в самый раз, а не сидеть дожидаться, чего дождаться, по-егойному, у нас нет никаких шансов.
– Каких это никаких? Как это нет шансов?! Ты что, забыл, Юра, как Николая Александровича уже забирали три года назад, и что же – разобрались и выпустили! – приходит постепенно в себя, отходит от пришибленности не желающая остаться вдовой сорока с небольшим лет женщина.
– Эх, Анна Алексеевна, тогда совсем другое время было. Ещё Менжинский не совсем скочурился.
– На время неча пенять, у кого рожа завсегда крива. Надо немедленно звонить товарищу Томскому. Он член цека. Он протянет руку помощи, – приходит-то она в себя постепенно, приходит, да вот наивность её врождённая никак не хочет с ней расстаться и выкидывает подобные мечтательные благоглупости.
– Не член, а кандидат уже только, да и когда членом был, кому он руки протягивал? Вон, когда папиного боевого соратника, с кем он громил в Москве троцкистов, дядю Мартемьяна судили, твой Михаил Павлович ни пальцем не пошевелил, ни каким другим членом, чтобы помочь, – наивнствующий оптимизм не передался по наследству от матери к дочери.
– Что ж, позвоните. Авось хуже не будет. Вам, по крайней мере… – хоть от крестника получила порцию скептической поддержки своему прожекту.
Отретировавшуюся к «спасательствующему» телефону Анну Алексеевну не взялись сопровождать ни Юра (из деликатности, не сын же он ей, слава Богу, так, седьмая вода), ни Людмила (она с презрением взирала на жалкие навязчивые попытки обречённых избежать своей участи: с детства бесила её лягушка, претворяющая в безысходном кувшине молоко в масло; можно подумать, ей, захлебнувшейся, хозяева с утра спасибо скажут за блюдо с лягушачьим трупом внутри). В разговор вступать не пытаются. Он – опять же из деликатности, да, собственно, и не знает, о чём говорить в таком положении. Она – попросту брезгует общением с тем, кто мальчишкою ходил на демонстрации с портретом Троцкого и был за то всего лишь выпорот своим крёстным, который, если чем и виновен перед Революцией, так только тем, что проминдальничал тогда по-родственному: надо было турнуть из пионерии с вытекающими. И тут их обоих прошибает тысячью вольт на месте нечеловеческий вопль, хотя умом-то они просекли, что орать больше некому, как Анне Алексеевне.
– Горе-е-е, горе-е-е, горе-то-о како-о-ое-е-е! – На пороге комнаты обозначается отчаявшаяся вкрай вдова далеко за пятьдесят, в которой Люда не сразу признаёт только что обнадёженную вышедшую мать. – Пулю себе в башку шмякнул! Как прочёл вчера газету «Правда», так вышел в садик и… Ой, не могу! Что нам без него делать?! Ох, увы нам, увы без товарища Томского! А папке твоему, Людка, и подавно увы сугубо!!!
V

Весна 1929-го года. Ночь. Станица Малоспесивская. Изба-рожальня.
Протагонистка – корчащаяся в родах баба средних лет, но, корчи выведя за внимание, вполне себе миловидная женщина, ещё очень даже вполне. Вдова (?) подъесаула первой Верхне-Донской дивизии, по окончании Гражданской войны пропавшего без вести где-то недалеко от родной станицы. После пропажи у неё это уже четвёртое корчевание, но на этот раз не в пример трудное, критически угрозное, откель и степень надрыва.
Антагонист – красный герой: в Реввоенсовете Южного фронта заливал с садиствующим Сырцовым и неутомимой непьянеющей рукой катал диктуемые тем списки на расказачивание. Когда отшумели бои, окончил курсы ветфельдшеров и был направлен в некогда им славно прореженную станицу акушером и ЗавИРом[3]3
Заведующий избой-рожальней. – Прим. ред.
[Закрыть] закапывать им самим под непросыхающим руководством «политического урода» («Краткий курс ВКП(б)») выкопанную демографическую яму.
Архонт Фесмотет – Михаил Павлович Томский, подавший с присными 9 февраля рефутацию на ускоренные темпы коллективизации. Носится теперь по стране стервятником до узких мест, готовясь на апрельском Пленуме ЦК дать на виду у Партии, с фактами наружу и в лицо истый (последний и решительный, само собой) бой перевёртанным троцкистам во главе с до недавнего крайне правым, радикально правым («куда правее Бухарчика, а Лёшка „Власов“ вообще тогда считался примирительным центром, да и я не наезжал так ретиво и матерно на левацкое охвостье») И. В. Сталиным.
Хорег – Митрофан Петрович Огурцов, самый пережилистый изо всех донцов. Председатель новозаделанного колхоза теперь, хотя на всякий случай беспартийный, как не был он никогда ни монархистом, ни белым, ни красным, но всегда находился при власти. Секрет его живучести прост теоретически, да мало кому сподвигнуться подобным образом довелось. Пил он с любым начальством дюже душевно, а как приходило время принять соучастие в браздах правления (расстреливать кого-нибудь то бишь) – он в неподъёмный вдрызг уходил (с вами же пил, какие претензии?). Так что выкрутасывался он при всех исключительным образом, что никто на него в обиде не был.
Хор беременных кулачек – разношёрстен, разновиден, разнопёстр. И возрастом не сходен (что своим, что плода), и рожами (у кого напрочь рябая, а кто – молоко с яблоками), и тембры их невпопадисты (не приведи Моцарт услышать это Сальери!) – а всё складывается в общую мозаику: протестные настроения.
Корифеюшка хора – где какая свара, так не по ней развод: а если? Да как там? А чтоб! В любую харю вжарит матку правды в лоб.
В роли Deus ex Cartesian dynamo machina выступает новорождённое существо не важновеющего здесь пола.
Протагонистка: Нету мочи, бабоньки, помираю.
Антагонист: Вот и славненько, что помираешь. Вставай и иди помирай до дому или к мужику своему, не знаю уж куда – в лес или где он там у тебя ховается. А здесь помирать не место. Попутала ты что-то, болезная.
Корифеюшка хора: Ты что несёшь, хрен краснопёристый! Куда она пойдёт?! Она и до плетня не дошушвахает, култыхнётся замертво, и поминай как звали.
Антагонист: Пусть уж лучше у плетня хряпнется, а здесь, повторяю, не место. Ты, коза вонько вопящая, когда в дом – советское учреждение, между прочим, – входила, табличку у входа читала?
Хор: Здесь находится обильный дом, что нам был подарён Советскою властью, укокошившей всех его жителей, чтоб нам рожать было пользительней для делов Третьего Интернационала. Подарён, чтоб каждая баба здесь нарожала побольше трудового резерва и будущей солдатчины. Для того и послали сюда тебя, стерва, чтоб ты роды принимал повкрадчивей.
Антагонист: Во-во, правильно, роды. Оттого и называется учреждение наше избой-рожальней, что здесь получает путёвку в жизнь и напутствие новая человеческая единица. В жи-и-и-знь! Путё-ё-ё-вка! Вообразите только, сколь торжественно. А справки о смерти выдают совсем в другом месте. Не по адресу вы обратились. Здесь мы трудимся над дебетом в графе нашего народонаселения, убыль его в компетенции других органов.
Корифеюшка хора: Так прими, хитровывертень, роды – вот и будет тебе подслажка в твои писульки.
Антагонист: Коза она и есть дурна, как коза. Ты объявление – вторую неделю кряду возле таблички висит – читала? А там дир-р-ре-кти-и-ва. Не кого-нибудь, а самого товарища Семашко Николая Александровича, наркома здравоохранения. Нарком – это народный комиссар, значит. Вслушайтесь, как красиво и грозно звучит! Ко-ми-с-с-сар! И притом народный. Это прямо как ватерклозет. Да ещё общественный. Красота!
Хор: Нам совдепия забила в глотку до жопы такой красоты, что, пробрехав её даже щепотку, бежим до дому отмывать рты.
Корифеюшка хора: Да как же мне читать ваше какое ни есть объявление, когда меня из ликбеза ваши же гепнули: не след тебе, говорят, частнособственническая душонка, нашей народной грамотой овладевать в своих подрывных целях. Так что вижу – висит, а что написано – не знаю. Но по виду судя, дюже суровое там понукание.
Антагонист: И что же в этом объявлении за распоряжение, я спрашиваю? А содержит оно прямое, невихлястое указание: мироедов, кулаков, сопротивляющихся вступлению в колхоз и обобществлению имущества противников, и прочие разные антисоциалистические элементы, как и их детей любого, подчёркиваю, возраста, начисто упразднить из системы государственного медицинского вспоможения. Изба-рожальня – это что? Государственное медицинское учреждение. Лежит здесь на столе кто? Кулачка, самая что ни на есть, поскольку муж её, живой он или нет, есть и будет непрекословный враг трудового каз… – это слово навсегда забудьте, я имел в смысле крестьянства трудового враг – вот кто её муж. А в пузе у неё кто, задаю я своеместный вопрос, еропшится и егозит? А вот это самое кулацкое отродье, про которое в документе помянуто, пусть и малого возраста, но подлежащее лишению врачебной помощи. Какие ещё могут быть вопросы?!
Протагонистка: Ой, лезет, не брешу, оно самое, лезет. Ему до ваших московских мудрований невдомёк, где ему надо лезть, где нет ему дороги. Ой, не могу! Прёт поспешник.
Антагонист: Так! Давайте подымайте её и тащите, куда хотите, только скорее. Не позволю марать холёную статистику медицинского заведения фактом разрождения в нём нетрудового элемента.
Вопли отдающей человечеству материнский долг Протагонистки, протестующие песнопения Хора, проклятия Корифеюшки, балансирующие на грани суеверия и прямых угроз, сливаются в единую акустическую волну. Мощнопенную, но в брызги разбивающуюся о мол несгибаемой стойкости железных доводов Антагониста, для убедительности внушения эволюционировавшего в речи от сухой казёнщины к яркокипящей матерщине. Покуда бушует это море дрязг вокруг рожающего тела, незамеченным остаётся подъезд к избе (он, в принципе, и по цели – втирушистый) и въедливо ревизористый заход в неё зоркоглазого Архонта Фесмотета, возле которого снуёт не в меру и невпопад суетящийся Хорег, растерявшийся и поплывший без руля и без ветрил после отказа высокопоставленного визитёра от распития шестидесятиградусной горилки.
Deus ex Cartesian dynamo machina сокровенным таинственным образом появляется на сцене действия и приветствует вошедшего зычно своеобычным для мелких божков, но весьма искренним и темпераментным манером.
Архонт Фесмотет: Простите, я, может, невовремя? Хотя разве существует то время, в которое Партия не приходила бы по первому зову нового члена социалистического общества!
Хорег: Так вот оно, сдаётся нам, да всем иным прочим тоже, что сейчас самое время… ну, чтобы, как я вам предлагал… двойная выгонка, шестьдесят градусов, а перца – аж на слезу проймёт! Уместно случаю, раз такое дело: человек объявился, надо ж как-то…
Антагонист: Не погубите, Михаил Павлович! Оплошал. Утратил бдительность. Но срочные меры по исправлению недоразумения уже незамедлительно принимаются, будьте покойны, гражданин Томский.
Архонт Фесмотет: В чём ты оплошал, товарищ? Повинись, не тужись. А особенно – какие у вас тут недоразумения, недочёты, несуразности, несоответствия темпам роста наблюдаются, доложи без утайки и как можно больше. Это нам сейчас очень и очень на руку, борющимся против левацкого курса на ускорение.
Антагонист: И я с этим самым ускорением борюсь, как могу, по мере сил и должности. Вот и этой самой дуре говорю, не смей, говорю, рожать так скоро, не время тут для этого, говорю, и не место.
Архонт Фесмотет: Ты что, наливал ему уже сегодня своей шестидесятиградусной? Что он несёт?!
Хорег: Ни-ни. Как можно! Он у нас после Гражданской всегда такой. Так на кой зря продукт переводить.
Корифеюшка хора: А несёт он, мил человек, – по усам видать, высокого ты полёта птица, – что запрещается всем, кого он в кулаки приписал, обращаться к лекарям и даже с нерождённым дитём к ним соваться.
Хор: Написал, говорит, про то бумажку не кто-нибудь, а сам Н. А. Семашко.
Антагонист: Вот, полюбуйтесь, инструкция, согласно которой я говорю. От линии партии я ни на шох.
Архонт Фесмотет: Да что мне на неё любоваться! Да и на Семашку тоже – зрелище не из приятных. И вас думаю лишить обязанности лицезреть во главе республиканского здравоохранения подобных недомыслов, на искоренение которых и направлено радение нашей здоровой части ЦК в целях обезопасить её от больных членов. Поедем, товарищ Огурцов, время пришло составлять тезисы. Да не отворачивай ты карман, вижу я твою хвалёную.
Архонт Фесмотет и Хорег покидают место недавнего перинатологического баталища.
Корифеюшка хора: Эх, и милые же люди есть у вас в партейных закромах, не то что ты, нетопырь! А товарищ Томский – до чего обходительный, да во всё входчивый, да со всём разборчивый! Такого б назначили нам в райсобес, а то всё кровососов присылают, вроде тебя. Эх, жаль, мамаше нашей новоявленной не довелось полюбоваться таким орлом: отдала, бедняга, богу душу родами. И этак под шумок так аккуратненько, незаметненько, зато потомочка успела произвесть не под забором, не во хлеву, а где государством положено.
Антагонист: Рассиропилась ты, дурня, по-облишному. И вы, подголоски, губёнки поскатывайте. Чует моё сердце красного героя: ещё наперёд комиссара Семашко Томского вашего так откомиссарят, где надо, что не вы одни – вся страна разродится выкидышами. А ну-у-у! Марш из государственного учреждения!
Хор: Свезло же бабе родить при Томском! Успехалось. А нам рожать предстоит по-обломски, раз уехал он. Без него как нам роды вытерпеть? Без него нам увы теперь!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































