Текст книги "Председатель Томский"
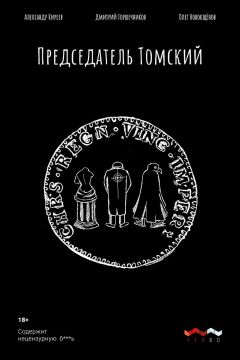
Автор книги: Александр Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
По приезду в Управление Лауданов первым делом нашёл начпароходства и доложил об услышанном от Грацианыча.
– Пьёт он, – вздохнув, развёл руками контр-адмирал. – Что мы только ни делали – на вид ставили, лечили, из Партии исключали… Вóды, снотворное, сердечное, принудительный труд… Да куда там! Всё одно пьёт! До чёртиков пьёт… А мужик он хороший, работящий, ответственный. Так что вот, нда-а…
Второй день инвентаризации больше ничем особенным не запомнился. Разве только Лауданову казалось, что откуда-то жутко воняет, но определить источник запаха он не смог. Всё ещё опасаясь сгореть и получить удар, он избегал моря и провёл весь вечер за работой. Грацианыч всю обратную дорогу молчал, сухо пожелал спокойной ночи и, взвизгнув колёсами, умчался в темноту.
Несмотря на поздний час Лауданову не спалось. От распахнул окно пошире, лёг в постель и вновь открыл старую книгу.
Джамшид приезжал обычно с внучкою, молодою красавицею Самирой, мать которой была выкрадена в Ормузе англичанином-авантюристом, тайно вывезена в Марсель и продана там в публичный дом, где ей предстояло бы и окончить дни свои, если бы один иранский контрабандист, пожалев соотечественницу, не выкупил её оттуда уже беременною (и потому втридёшево), и не отвёз в Африку, куда – как случайно удалось узнать от совершающих паломничество к Лурдскому источнику дервишей – перебрался её отец. Здесь она родила дочь, которой передала умение наивно улыбаться, соблазняя этим мужчин, ею самою приобретённое в марсельском борделе, а также любовь ко всему французскому, вспыхнувшую у неё по прибытии сюда, в это бедное захолустье. Прежде чем умереть от страстного неисполнимого желания вырваться обратно в Европу, мать успела обучить маленькую Самиру французскому языку, потому та с юных лет сопровождала деда при его коммерческих поездках в стан колониальных войск, служа ему толмачом. А с той поры, как под её лёгким нарядом стала заметна рано окрепшая стать, ещё и главным средством вытеснения конкурентов, поскольку солдаты и офицеры предпочитали покупать товары, получая улыбку красавицы в подарок, улыбку, надобно сказать, столь двусмысленную, что, имея желание, её можно было истолковать как посул. Изотропное постоянство любезности, расточаемой Самирой, защищало её от грубой похотливости военных, благодаря чему у неё сложились простосердечные и приятельские отношения со всем гарнизоном, кроме разве одного молодого лейтенанта, который почему-то представлялся ей (как, впрочем, и другим) холодным и исподволь высокомерным. Именно его, а не коменданта, считала она (как, впрочем, и другие) настоящим хозяином форта. Что же до самого лейтенанта, то ему досаждали отчуждённость и боязливая почтительность хорошенькой персиянки, теряющейся в его присутствии, хотя никогда не был он с нею ни строг, ни надменен (как, впрочем, и с другими). Напротив, не единожды предпринимал он попытки развить знакомство с нею: зная, например, о её тяге ко всему европейскому, предлагал свои книги, на которые она, приходя к нему испросить разрешения на торговлю, тайком бросала восхищённые взгляды. Однако же, всякий раз Самира краснела, стушёвывалась, и, скороговоркой отказавшись, ссылаясь на свою неграмотность, спешила отойти от него в сторону, – после чего к ней возвращалась обычная уверенность.
В Париже лейтенант первенствовал среди школьных товарищей не только в учёбе, но и в обхождении с женщинами, быстро усвоив простую, но тягостную науку подчинения влюблённых сердец, так что многие из обойдённых им в своё время соперников втайне радовались его отъезду на чужбину (сострадать приятнее, чем завидовать). Любовницы же, так и не добившиеся взаимности, подкреплённой регистрацей матримониального союза, были крайне разочарованы, вместе с тем, в отличие от приятелей, никому из них не могла прийти в голову парадоксальная мысль навестить его здесь, в Африке, где он, отдохнув от венерических страстей, уже с неподдельным интересом наблюдал за наскучившими ему на родине стыдливыми проявлениями первой любви. Впрочем, как отвечать на чувство безопытной девушки, он не знал; ранее физическую близость он рассматривал лишь начальным этапом в деле полного овладения объектом увлечения, правда, благодаря своей неутомимой фантазии и энергии, направленным, прежде всего на удовлетворение дамских желаний, этапом, делающим процесс необратимым. Теперь же ему всё яснее представлялось, что лишение невинности долженствует явиться венцом этого процесса, ибо для ревностной мусульманки наивысшим проявлением преклонения пред своим избранником может стать не что иное, как полная и безусловная отдача ему своей чести и возможности достойно выйти замуж. В результате, лейтенант довольствовался платонической изысканностью их отношений, восподнимающей в нём алчность прежних устремлений, но несущей притом также и неизведанную доселе радость бескорыстия. Однако же, внести эл емент чувственности в игру с робеющей пред ним ingenue de Perse ему желалось всё сильнее, хотя бы даже для придания эротизма сновидениям, кои постепенно становились всё более идеальными, беспредметными, эмпирически немотивированными – за отсутствием в новейшем опыте сколь-нибудь самоценной яркости.
Лейтенант сделал шаг навстречу повозке и, подобно сомнамбуле, нежданно для себя войдя в лунный столп, вступил в невидимую зону воздуха меньшей, нежели вокруг, плотности и повышенного содержания азота и инертных газов. Не поднимая головы, он заметил, как звёзды над ним засияли ярче и громче, наполняя окружающую тишину иллюзией треска мерцающих газовых ламп. На повозке одиноко сидела Самира; она сообщила, что сегодня годовщина смерти её матери, а дед не встаёт с постели, находясь в забытьи, но она вспомнила, как комендант умолял её привезти свежих газет с новым биржевым курсом, и решилась на позднюю поездку, надеясь найти приют у гостеприимных военных. Лейтенант предложил ей смежную со своей комнату денщика, который как раз сегодня отмечает день рождения и, по всей видимости, тоже находится в забытьи где-то за пределами крепостных стен, опасаясь взыскания, а то и побоев со стороны своего командира, что, впрочем, довольно странно, ведь не кто иной как он, лейтенант, ежегодно одаривает этого бездельника винами, которыми тот всякий раз безудержно упивается. Самира привычно отказалась, вежливо и смущённо, но на сей раз лейтенант, у которого от смеси криптона и азота стала кружиться голова, избрал решительность, впрочем, вполне деликатную, совершенно в духе столичных волокитств. Он проводил девушку к коменданту, а сам остался в шезлонге с трубкою крепкого иранского табаку и бокалом выдержанного бургундского, бесстрастно наблюдая за тем, как бойкая торговка легко переговаривается с другими офицерами, властью субординации оттеснившими от неё солдат, а тучный комендант поминутно хватается за сердце, браня правительство республиканцев, допустившее падение акций Шнейдер-Крезо, коими по бедности он обладал лишь в своём воображении, достаточно, впрочем, развитом, чтобы приносить ему неподдельное нравственное страдание. Бокалы бургундского сменяли друг друга со скоростью, обратно пропорциональной яростно без них нарастающему возбуждению, что удерживало лейтенанта в границах comilfo d’amour. И в тот момент, когда ему вспомнилась фраза Гофмана, утверждающая именно это вино средством, необходимым для написания музыки героической, ибо «в нём серьёзность фуги сочетается с бодростью патриотизма», он, дивясь собственной эстетической прострации, достигшей той крайней степени, что на ум стала приходить какая-то лёгкая мазурка вперемешку с эротическими стихами Малларме, увидел, как Самира под руку с субалтерн-офицером идёт в сторону гарнизонного медпункта, становящегося по вечерам, благодаря эрудиции и аристократизму доктора, жокей-клубом. Тут лейтенанта охватил порыв: он тотчас же вскочил, резво нагнал удаляющуюся пару и, смерив соперника в своё время твёрдо выученным взглядом завзятого бретёра, одним движением перехватил у него спутницу.
Спустя полчаса, стоя под портретом Пастера (знакомое лицо, неоднократно виденное в лилльских винобродильнях) и держа в руках мензурку с мозельвейном (остальная посуда была перебита при провозглашении Самиры первой красавицей заморских владений Франции) лейтенант ощутил фарадическое подёргивание мышц левого плеча и лёгкий тремор среднего пальца. То были явные признаки экзальтированной ажитации феерического вечера, многократно испытанной им в салонах парижского демимонда. Это нахлынувшее вдруг счастье высвобождения, сопровождающее начало пьяного разгула, он ещё недавно готов был объяснить плебейской скудостью жизни, или, в своём случае, ювенильной неразвитостью вкуса. В сущности, он и сейчас не изменил своего мнения, просто само это мнение стал считать брюзгливым проявлением преждевременной старости. Он взглянул на улыбающуюся Самиру, и знакомое экстатическое переживание овладело им. Праздничный настрой обычно находил у него вербальное выражение в непрерывной эманации бессмысленно-остроумных бонмо, изысканная отшлифованность коих вкупе с находящейся в распоряжении лейтенанта коллекцией шейных платков из анатолийского виссона и муара, выработанного лучшими мютюэлистами, послужила тому, что в Париже приятели из числа ассасинов провозгласили его достойным наследником незабвенного Буассара де Буаденье.
Прошёл час, в комнате с овальным окном, постепенно набирающим предельную густоту чёрного цвета, он стоял у ветхого бюро, заваленного книгами и безделушками, вывезенными из метрополии, и угощал застенчивую магометанку тёмно-янтарным Дагонэ, аттестованным им в качестве безалкогольного напитка, коим во Франции детей поют сызмальства. Растерявшаяся под напором неожиданной обходительности, выказанной молодым и красивым офицером, Самира пила вино залпом, не отрываясь, пока его игривая летучая весёлость не дала о себе знать: девушка, поперхнувшись, пролила немного вина, и тонкая струйка его, стекая с губ, зазмеилась по подбородку. Уже наклонившегося было подхватить её языком лейтенанта передёрнуло от ощущения пошлости подобного сближающего томящихся влюблённых манёвра. И всё же отказаться от поцелуя в такой близости от вожделенных губ он был не в силах. Лёгкий его поцелуй имел вкус шампанского и только шампанского. Делать первое прикосновение более глубоким и проникновенным он не стал: не дотрагиваясь до головы девушки, захватывая и чуть оттягивая пальцами лишь кончики волос, он полностью раскрыл её лицо, поразившее выражением серьёзности и даже какой-то задумчивой строгости, так обескураживающе диссонирующей на фоне собственной лейтенанта развязной восторженности. «Если Вы хотите заняться со мной этим… то другие офицеры дают мне наполеондоры, а Вы могли бы подарить вот эту книжку», – она указала на роскошное, в порфировом переплёте с золотым тиснением и инкрустированными жемчугом виньетками юбилейное издание Грамматики Пор Рояля, преподнесённое лейтенанту в подарок после ночи сладострастия княжной Ромодановской, получившей его в аналогичной ситуации от магистра элоквенции Ягеллонского университета. «За что купил, за то продаю», – повторил лейтенант слова русской аристократки и протянул правой рукой книгу, левой же обнял камелию. Столь мгновенная и, прямо сказать, сокрушительная потеря дамой ореола невинности не произвела на него, находящегося уже на самом подъёме возбуждения, какого-то особого впечатления.
Развращённость женщин распаляла его в той же степени стремительно, в какой искушало целомудрие, и он справедливо предпочитал выбирать между девственницами и шлюхами; пребывавшее же посередь этих двух полюсов большинство волновало его в неизмеримо меньшей степени.
Ещё спустя некоторое время – трудноустановимый промежуток, поскольку чернота окна уже достигла своего апогея, а хронометраж по приливам и отливам возбуждения был невозможен ввиду того, что лейтенант, давно не имевший с женщинами интимного общения, просто не представлял, сколь долго он сохранял теперь потенцию доставлять и получать наслаждение, – он лежал в постэйфорическом изнеможении, проявляющемся, в силу выпитого, сублимацией эротического опьянения алкогольным, что возбуждало работу мозга, ещё мгновение назад ущемлённого эректным безразличием крови к стимуляции левого полушария, и пытался осознать то новое ощущение, которое сопровождало его на всём протяжении их соития, но что это за ощущение, он не знал; или вот мелькнуло: словно спускаясь с мачты галеона по вантам, только что первым увидевший землю, с гордостью первооткрывателя ступаешь на последнюю выбленку и не находишь её ногой на ожидаемом месте, и никак не успеть опустить высоко поднятой головы, посмотреть, что внизу, лишь слышишь, как проспавшийся штурман грубо требует изменения курса. То мелькнуло и исчезло, остались лишь слова, понятные, но иконически несостоятельные для него: воскресить по ним искомое ощущение он не мог и продолжал лежать на полу, недвижно уставившись в семиглавую жирандоль, абрисом схожую с древнесемитскими минорами, одна из свечей которой явственно горела значительно ярче остальных. Тогда он на парасимпатическом уровне чувствовал, как от её навязчивого огня пульсирующе сужается зрачок, уменьшая свой диаметр с каждым ударом сердца.
Самира, тем временем, восторженно разглядывала заработанную книгу. «Вы знаете, всякий раз, что я вас видела, мне было страшно, как бы вы не выгнали меня, а заодно и деда… ну, за то, что я делаю с другими офицерами. Вы казались таким строгим, и офицеры говорили, что вы не любите женщин. А вы оказались таким же милым, как все». «Как же относится твой дед к твоему приработку?» – в прошлом разговор с женщиной сразу после овладения ею был непременным условием полноты выплеска страсти, даже если то была девица на одну ночь. Сейчас же он нехотя произнёс вопрос, ответ на который не представлялся ему интересным, произнёс скорее для того, чтобы услышать свой голос и по нему определить степень двойственного опьянения. Кроме того, вопрос был вульгарен, а ведь ранее он никогда не девальвировал своё эстетическое миросозерцание в угоду мнимой «душевной близости» с любовницей, иной раз читая безвкусным кокоткам или глупеньким jeune fille целые лекции о генезисе и развитии идеала женской красоты в голландской и старофранцузской живописи, а те с восхищением слушали его, совсем не понимая, но испытывая благодарность за посвящение их в эзотерические тайны искусства. «Что вы! Дедушка, конечно, ничего не знает. Он из тех святых, что прорицают на тысячу джум вперёд, а настоящее не видят и на тысячную фарсанга. Да и жених мой уверен, что это наш убогий товар приносит такой большой доход». Далее лейтенант совершенно безучастно слушал бойкий рассказ Самиры о том, сколь хорош её жених – арабский купец из Маската – и как она перехитрит его в первую брачную ночь. Взирая на ещё недавно казавшуюся ему наивным подростком проститутку, лейтенант признавал её профессиональную эминенцию над европейскими коллегами, так как, в отличие от последних, она целиком отдавалась работе, не ища удовольствия для себя. Но клиент клиенту рознь, и он, любую даму привыкший приводить в исступление, с лихорадочною дрожью нетерпения принялся целовать и едвакасательно, стоически сдерживающими эротическую пан-пальпацию ладонями, ласкать обнажённые ноги Самиры, начиная от ступней и продвигаясь всё выше и выше. Но, когда язык его скользил по бедру, приближаясь к женскому естеству, она, обескураженная такою интимною ласкою, стала всерьёз сопротивляться, вплоть до требования древнеегипетских серёг из слоновой кости довольно грубой работы, шулерски выигранных лейтенантом у археолога Гаспара Масперо в шахматный blitz (он придерживал флажок на своих часах запрятанным в перстень магнитом). Только получив в дар это наследие времён Восемнадцатой Династии, Самира переборола стыд и широко раздвинула согнутые в коленях ноги, отдав себя неистовому языку, чьи подобные лесбийским наитие и сноровка служили предметом гордости лейтенанта. Когда сокровенные двери Самиры были растворены легко пощипывающими их пальцами, и язык быстро и как бы нечаянно коснулся сердцевины её цветка, она в первый раз тихо простонала – то был и последний стон её наслаждения. Как ни старался он впоследствии вызвать в ней темпераментную реакцию, лишь чуть прерывистое дыхание иногда вознаграждало его за усердие. Это, конечно, можно было объяснить врождённой скованностью в проявлении чувств и отсутствием опыта взаимной любви – в конце концов, лейтенант, живя во Франции, научился распознавать подлинность женского наслаждения, даже внешне никак не выраженного, что позволяло ему снижать ставку симулирующим куртизанкам, – а абсолютно бесчувственных девушек восемнадцати лет, как известно, не бывает.
Постепенно он начал замечать, как трудно становится сдерживаться на пике напряжения столько, сколько хотелось (и сколько привык), посему раз за разом приходилось ему прерывать ласки, чувствуя, что губы его и пальцы работают излишне быстро и нервно, а мышцы языка сводит обоюдоострая, в паре сантиметров от кончика сконцентрированная судорога усталости. Наконец, после того, как подёргивания плеча переросли в краткие приступы невралгических болей, он отступился и, налив себе андалузского москателя, предпочёл покой бержерки, где, завороженный всё так же странно мерцавшим светом жирандоли, принялся вспоминать свой первый и покуда единственный эротический конфуз, случившийся с ним при инициации, проходившей в Делфте на чердаке маленького старинного дома на набережной, – дома, служившего, по слухам, натурой для знаменитой картины Вермеера. При сём в роли посвящающего его мистагога выступала столь же неопытная дочь местного кондитера, пред которой он долго потом пытался реабилитироваться, прививая ей вкус к всевозможным любовным изыскам до той поры, пока не сделал из неё развратной и вульгарной содержанки амстердамских банкиров. Но и тогда он продолжал считать применение самых разнообразных и извращённых способов удовлетворения своих бесчисленных пассий первейшей своею обязанностью, продиктованной, по-видимому, подсознательным стремлением восхищаться гедоническим всемогуществом собственного тела.
Пока лейтенант пребывал в летаргии воспоминаний, Самира молча, с удивлением разглядывала молодого и, по её меркам, обеспеченного человека, невесть зачем так долго лизавшего её естество – прикосновение к которому мужчины считают срамным, – и неведомо отчего вдруг выбившегося из сил. Прихотливо и страстно терзавшего её плоть, но оказавшегося неспособным насытить собственную похоть. Впрочем, вскорости он предоставил ей повод для ещё большего изумления, предложив возобновить соитие проникновением в место исключительно непристойное, что, почему-то, казалось ему радикальным, последним средством вызвать в равнодушной женщине чувственный взрыв. Как и следовало ожидать, возросшая в тропической глуши и далёкая от европейской моды Самира была оскорблена подобною неприличною фантазией выше всякой меры. Коварно предвидевший отказ неумолимый лейтенант уже вращал в руках самый ценный свой сувенир – золотой брелок с цепочкой для карманных часов, коим он был собственноручно награждён графом Шамбором, когда, явившись к нему в качестве фельдъегеря, изволил спасти жизнь этого неудачливого претендента на престол от атаки подосланного, вероятно, бонапартистами (на них это очень похоже) скорпиона, разрубив тварь саблей пополам, к восхищению всего Форшдорфа. Сухая и предельно обволакивающая среда спровоцировала молниеносное истечение, а вырвавшийся у Самиры стон боли, вызванной непривычным грубым вторжением в сосуд её тела, ещё сильнее подстегнул страсть лейтенанта, и он продолжил содомскую утеху, заботясь теперь исключительно лишь о собственном наслаждении.
* * *

Лауданов спал плохо. Лезли мысли о вчерашнем чтиве. «Нечего даже открывать такое на ночь, – думал он, – не хватало мне ещё антисоветчины!»
Доехали быстро. Инженер уже привычным путём поднялся на чердак, но при самом входе остановился, увидев такое, от чего кровь застыла в жилах. По чердаку ходила гигантская белая птица, ростом выше человеческого, ужасающего вида, без крыльев, но с человеческими руками. В руках она держала светильник на цепях, которым периодически помахивала, распространяя по чердаку омерзительный смрад, тот самый, который Лауданов учуял в прошлый раз. Птица обошла вокруг машины и голосом Грача скомандовала: «Прекратить каждение священного алтаря!» – «Есть прекратить каждение алтаря», – тут же ответила она сама себе и сложила светильник в угол. Затем птица стащила с себя кожу и отбросила лапы – это оказались деревянные ходули, с грохотом упавшие на пол. «Нина, почему пододеяльник опять грязный?! Не ритуал, а стыдобища!» – громко крикнула птица-Грач и сняла с себя голову. Спустя секунду Лауданов, чуть не потерявший сознание от увиденного, опознал в птичьей голове носатую маску чумного доктора, выкрашенную в белый цвет, а в самой птице – контр-адмирала. Грач как ни в чём ни бывало проследовал мимо него, и Лауданов остался стоять истуканом, забыв о том, с чего хотел начать сегодняшний рабочий день.
Вечером Лауданов поехал на главпочтамт: ему во что бы то ни стало нужно было поговорить с товарищами по НИИ. Дозвониться ни до кого не удалось, на линии были одни шумы. Не смотря на все усилия телефонистки, техника отказывала раз за разом. Обескураженный и злой, инженер вернулся к себе в номер и после недолгих раздумий опять взялся за книгу.
Ранним утром, когда предвосхищение тяжёлого зноя сменило голодную безудержность лейтенанта, Самира, едва переводя ногами, прижав к груди узелок с подарками, наконец, оставила его. Он пребывал в болезненно приподнятом настроении, сходном с тем, какое испытывал ночью, только дыхание было затруднено, точно лёгкие окольцованы цепью. Он хотел по случаю кончить этюд с клошарами, но руки дрожали, а потом и вовсе перестали слушаться; регулировать дыхание становилось всё труднее, а вскоре отказало зрение: вокруг, на расстоянии вытянутой руки образовалась серо-бежевая с блёкло отпечатанными на ней гербами и эмблемами непроницаемая пелена, сквозь которую не пробивался свет даже ярко горящих свечей.
Но вот, наконец он узрел свет – то доктор, намереваясь прикурить сигару, водил зажжённою спичкою у него прямо перед глазами. На предмет обнаружения симптома Арджил-Робертсона, надо полагать, а то, может, просто так: водил себе и водил. Лейтенант лежал в тускло освещённом лазарете, из неясных побуждений устроенном в подвале, тогда как первый этаж и мансарду занимала оранжерея диковинных цветов. Бесцеремонно расположившийся на его койке доктор, элегантно перемежая речь специальными терминами, сообщил, что уже десять дней, как его доставили сюда в бессознательном состоянии, в каковом он и находился вплоть до сего момента. Насчёт причины и диагноза у медика имелись три гипотезы, которые он более на латыни, чем французском последовательно изложил, отмечая степень вероятности каждой и подчеркнув особо, что считает заслуживающей наибольшего доверия четвёртую: лейтенант болен какой-то неизвестной болезнью, вернее всего, психогенной по природе. «Тут резекцией не поможешь. Расстройства эти пусть исцеляют священники или любовницы… Хотя они вряд ли излечимы», – завершил устный эпикриз выпускник хирургического отделения, присовокупив, что комендант уже составил по его ходатайству рапорт с просьбой направить больного на лечение в Шарантонский военный госпиталь. Лейтенант возразил: он прекрасно себя чувствует, в больничном уходе не нуждается и ехать во Францию не спешит, хотя, безусловно, понимал, что жить здесь по-прежнему будет ему невозможно. Однако доктор, увлечённый раскуриванием отсыревшей сигары, не смог разобрать его слов, даром что были повторены дважды, а затем и вовсе ушёл в свои мысли, покинув его, но предусмотрительно оставив на столике кокетливо скрученную бонбоньерку с порошком люминала.
Вскорости лазарет посетила Самира, блистая инсигниями женской привлекательности: с книгой в руках, серьгами в ушах, цепочкой на шее и брелоком, эксплуатируемым как кулон, – полагая, видимо, такою эклектикой приободрить больного. Она угощала его фруктами, весело рассказывала про банкротство своего жениха и вообще вела себя в присутствии лейтенанта с новоприобретённой развязностью, сменившей былой робкий пиетет, казавшийся ему порождением пробуждающегося в девушке влечения, принимаемый им как должное, но имевший на деле узкомеркантильную основу. «Ну вот, она уже считает меня «своим». А действительно, чей я теперь?» С помощью своей посетительницы он встал с постели и выбрался из душного помещения на веранду, где Самиру поджидал очередной поклонник, а лейтенанта – предзакатное солнце, словно понимающее призрачность своей власти над людьми и потому стремящееся успеть ещё этим днём выплеснуть на человечество всю накопившуюся ярость. Вышедшие из палат перекурить солдаты громко приветствовали лейтенанта, правда, тому показалось, что без должной выправки. Он не принял во внимание их болезненную слабость и резко прогнал с веранды. Оставшись один пред пустынной панорамой, будто наваливающейся на него из-за невысоких крепостных стен, он всё более проникался отвращением к этой нездоровой местности, уже зачумлённой ядовитой заразой парижских ночей, кафешантанов и триумфальных арок. Заразой, принесённой сюда новыми конкистадорами с Елисейских полей, а пропитавшись этим чувством, направил полный брезгливого осуждения взгляд вверх, туда, где в закатных лучах шипели азотные толщи.
Лейтенант смотрел на солнце – прямо, не отводя глаз, приобретших фантастическую способность противостоять мощному излучению этого гиганта; он вглядывался и в солярной глубине интуитивно различал верховное действо какой-то бесконечно эманирующей силы, что гораздо старше света самых древних звёзд и первородного греха человека. Импульс, внеретинальным зрением воспринимаемый как размеренно-тяжёлое, невидимое глазу движение, ритм коего запечатл елся в приливе Эгейского моря и гекзаметре внимавшего ему рапсода. В совершаемом во глубинах светила ритуале лейтенанту чудился знакомый образ из детства: он со своим дедом едет на Льежскую ярмарку через маленькую брабантскую деревню, и в одном из дворов крестьяне в огромном выкрашенном охрою чане давят могучими руками упругие гроздья белого винограда. В отличие от зрения, уже приспособившегося к свету, кожно-осязательные ощущения сенсибилизировались болью, да ещё пациенты, высовываясь из дверей, своими измождёнными взглядами скребли и обжигали неприкрытые одеждой участки тела. Лейтенант решил покончить с этим и, всё ещё стоя с устремлённым ввысь взором, громким, декламационным тоном, обращаясь как бы к самой сокрытой в глубинах яркокипящего газа незримой силе, вербализировал вопрос поэта:
Вас, ангел свежести, томила лихорадка?
Вам летним вечером на солнце у больниц
В глаза бросались ли те пятна жёлтых лиц,
Где синих губ дрожит мучительная складка?
* * *
Лауданов проснулся с чувством, что надо идти наперекор судьбе. Грозный как туча он сел в машину к Грацианычу. Тот истолковал всё по-своему, почему-то подумав, что инженер загрустил.
– Оно и у меня бывает, как накатит, хоть волком вой, – сказал водитель. – Я тогда стишата пописываю. Ну вот, к примеру:
Я смотрю в окно, за окном берёза,
Я любил Лакана, а ты Делёза.
И рука сама тянется к стакану,
Ты любил Делёза, а я Лакана.
И закат багрян словно на беду.
Ты читал Фуко, а я Дерриду.
Я налью в стакан и махну легко –
Я за Дерриду, а ты за Фуко.
С высоты тех лет, что прожил здесь я,
Мне милее Фрейд, тебе Бодрийяр.
И теперь ты стар, да и я уж сед,
Тебе Бодрийяр, ну а мне пусть Фрейд.
Догорел закат, вечер пуст и сер.
Тебе ближе Кант, ну а мне Гуссерль.
Садану с тоски я ещё стакан.
Пропади Гуссерль, будь неладен Кант!
Затворю окно, не начав запоя.
У тебя одно, у меня другое.
Лягу на топчан, повторю стократ:
Ошибались все, прав один Сократ.
Аппарат никак не хотел собираться, Лауданов не досчитался и половины деталей.
– Эх, вам бы вторую машину… – сочувственно сказал Грач. – На запчасти…
Видя недоумение инженера, он объяснил:
– Машин было две… Одна – у нас, другая – у фрицев. Говорят, немецкая могла даже летать… В конце войны они её отправили в дальний космос, исследовать новые миры. Разрешите, я тут это…
Кряхтя, Грач нагнулся и полез под стол.
– Не подходит, говоришь? А мы её сюды… Вот стервецы, одни защёлки! Ни резьбы тебе, ни крепежа… – Ругаясь, Грач за несколько минут воткнул, закрутил, примотал или как бы то ни было ещё определил груду деталей, в руках Лауданова нипочём не хотевших собираться. Закончив, он вылез из-под стола, отряхнул форменные брюки с лампасами и сказал:
– Надо пробовать, товарищ инженер. Это всё дело практическое… Вы думаете что? Мы её уже не раз так собирали. И что? А ничего! Тут воткнуть, как хочешь, можно, а толку… Нина! Принеси Вениамина.
Спустя мгновение в комнате появилась секретарша, держащая на руках здоровенного серого кота.
– Веня… я подключу тебя сейчас, а ты сиди, – обратился начпароходства к коту.
– Мэ! – Недовольно огрызнулся кот и соскочил с рук.
– Держи!!! – заорал Грач и кинулся в погоню за животным.
Кот, проскальзывая по лакированному паркету задними лапами, рванул по дуге и метнулся на лестницу.
– В-е-е-н-я-я-я-я-я!!! – Истошно вопя, Грач устремился к выходу. Лауданов и Нина – за ним. Тут раздался жуткий грохот – это Веня сшиб Суурпыльда, поднимавшегося по лестнице. Сопровождаемый бранью и проклятиями кот слетел до первого этажа и сделал попытку прорваться через пост охраны. Бравый автоматчик, держа наготове сдёрнутое с кресла покрывало, шагнул в сторону беглеца, намереваясь накинуть на него сеть. Веня закатил глаза, бросил презрительное «Мя!» и, в два прыжка добравшись до подоконника, ушёл через открытое окно.
– Холера еврейская! Да чтоб тебя! – только и успел сказать подоспевший Грач.
Лауданов исследовал сборку, произведённую контр-адмиралом, и нашёл, что некоторые из деталей вставлены весьма ловко и, возможно, находятся на своих местах, тогда как другие приспособлены, по всей вероятности, случайно, без всякой системы. Всё ещё не понимая назначения машины, он мог только гадать. До позднего вечера он привозился с чертежами, пытаясь составить принципиальную схему агрегата. Получалось, что машина должна была создавать электромагнитное поле. Но для чего? На этот вопрос ответа не было.
* * *
Лейтенант вышел из ворот, когда сумерки уже предсказывались по вечернему оживлению сторожевых псов, – стало быть, самое время для живописи. Ему опротивело всё его прежнее творчество, как опротивела Франция, которую он десять дней назад предал как-мечту, а Франция-как-реальность представлялась ему уже никогда теперь неосуществимой мечтой, вобравшей в себя вирулентный конденсат перегоревших чувств. Взирая на засыпанный песком, почти поглощённый пустыней форт, он осознавал перемену в ненависти, испытываемой к месту своего изгнания. Если раньше он ненавидел его как-то по-домашнему, ценя роковую его причастность к судьбе своей и исполняемую им необходимую оттеняющую роль фона, на котором можно было разыгрывать избранническое отшельничество – роль фольги при бриллианте, – то ныне единожды сфальшивив, лейтенант, точно по ошибке затесавшийся в кордебалет солист, был бы смешон в героической партии. И потому, вплотную приблизившись к хоть снисходительно, но всё-таки неглижируемой среде, он вынужден был исключить все личные мотивы ненависти и, отрешившись от эгоистических чувств, возненавидеть эту чуждую, затхлую страну от имени и сердца всецелого человечества.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































