Текст книги "Таврический сад: Избранное"
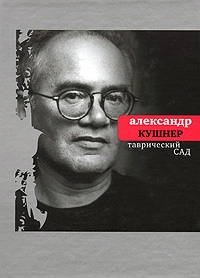
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
…под говором валов…
Батюшков
Кто первый море к нам в поэзию привел
И строки увлажнил туманом и волнами?
Я вижу, как его внимательно прочел
Курчавый ученик с блестящими глазами
И перенял любовь к шершавым берегам
Полуденной земли, и мокрой парусине,
И мраморным богам,
И пламенным лучам, – на темной половине.
На темной, ледяной, с соломой на снегу,
С визжащими во тьме сосновыми санями…
А снился хоровод на ласковом лугу,
Усыпанном цветами,
И берег, где шуршит одышливый Эол,
Где пасмурные тени
Склоняются к волне, рукой прижав подол,
Другою – шелестя в курчавящейся пене.
И в ритмике совпав, поскольку моря шум
Подсказывает строй, и паузы, и пенье,
Кто более угрюм? —
Теперь не различить, – вдохнули упоенье,
И негу, и весну, и горький аромат,
И младший возмужал, а старший – задохнулся,
Как будто выпил яд
Из Борджиевых рук – и к жизни не вернулся.
Но с нами – дивный звук, таинственный мотив.
Столетие спустя очнулась флейта эта!
Ведь тот, кто хвалит жизнь, всегда красноречив.
Бездомная хвала, трагическая мета.
Бессонное, шуми! Подкрадывайся, бей
В беспамятный висок горячею волною,
Приманивай, синей,
Как призрак дорогой под снежной пеленою.
Откуда родом бронзовый флейтист?
Мне флейты родниковый снится голос.
Не с Крита ли, который так дуплист
И вытянут? Эвбея, Скирос, Родос…
Он голову чуть набок наклонил.
Он видит, что и звезды звуку рады.
Он думает: кто в море накрошил,
Как в миску с супом, черствые Спорады?
Других вопросов он не задает.
Кто флейту изобрел, ему известно.
Упала к нам с озвученных высот —
Теперь на ней играют повсеместно.
Кинь что-нибудь – мы подберем с земли
И к надобностям смертным приспособим.
Он ерзает, и руки затекли,
И холодно, и смотрит исподлобья.
Но, выщербленный, он не видит нас
За скважистыми, как скала, веками.
А палец в круглой дырочке увяз,
И жизнь согрета теплыми губами.
Эти камешки, кажется, ждут своего Демосфена.
Их никто не считал, их на маленьком пляже так много.
К ним крадется волна, накрывает их пышная пена,
Как слюна на устах у оратора и демагога.
В уголках его губ пузырьки надувает усердье
И гражданская страсть… эти камешки с шорохом влажным,
Кроме артикуляции, учат тому, что бессмертье
Есть привычка к ветрам, и векам, и раскатам протяжным
Гроз морских… Подберу, высоко на ладони подкину…
Что сравнится с жарой, размягченной морским дуновеньем?
Если знаешь за жизнью вину, то вины половину
Смыть позволишь волне, что подходит к ногам с шелестеньем.
Не о том говорят, прибегая к внушительным жестам,
Убеждают, клянут, прежде камешки выплюнув наземь…
Лишь поэзия, временем огорчены или местом,
Под шумок уверяет, что мир этот втайне прекрасен!
В новом ракурсе
Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать,
Что нищие духом блаженны и как эту фразу понять?
И я говорил, что как дети в неведенье сердцем чисты,
Как солнцем нагретые сети и дикие эти кусты,
Лазурная в море полоска и донная рыжая прядь,
Что я бы хотел у киоска с похмелья за пивом стоять.
А ты говорила, что мрачный, стоящий за пивом с утра,
Как лист изможденный табачный, как жесткая эта кора,
Как эти кусты у обрыва с обломанной ветвью сухой —
То встречного ветра пожива, то вздыбленной гривы морской,
Что жить еще горше на свете, когда не осмыслить утрат,
А дети… ты вспомни, как дети на взрослые царства глядят!
Пятясь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатей!
Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась – неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?
Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.
На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.
Я засмотрелся – и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.
Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть – ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?
Песчинки, камешки, клочки сухой резины,
Дощечки, щепочки, разбитого стекла
Осколки, жесткий след изрывшей землю шины,
Лягушек высохших распятые тела,
Напоминающие лопнувший воздушный
Шар, ямы, выбоины, трещины, бугры,
Порханье бабочки у самых спиц тщедушной,
Подъем на горку, спуск, такой крутой, с горы,
Не надо, бабочка, мне затруднять движенье:
Собьюсь – зачем тебе рассеянность моя?
Сучки, соломинки, корней переплетенье,
Густая лужица, сухая колея,
Когда вчера она мне предложила чаю,
Остаться надо было, веточка, лишай,
Железка, что же я всегда себе мешаю,
Потом жалею, жук, известка, иван-чай,
Малины давленой сиреневые пятна,
Окурок, гусеница в шубке меховой,
Поганка, выброшенный кем-то безоглядно
Башмак – и нехотя посмотришь: где другой?
Травинки, всё это для велосипедиста
Средь рощ подветренных и шерстяных полян
Неописуемо, неизъяснимо чисто,
Полуосознанный, полуразмытый план.
Партитура, с неровной ее бахромой,
На манер балдахина с кистями.
Черный ветер колышет ее предо мной,
Страсть чужая вздымает волнами.
Я как будто в морской заблудился траве,
Не продраться сквозь заросли эти.
Кто-то музыку держит, как мысль, в голове,
Переметы в ней ставит и сети.
Мне мерещатся сумерки венских аллей,
Я дворцовую вижу ограду.
Бог втыкает в страну гениальных детей,
Как в садовую грядку – рассаду.
О, как много наклеено черных ресниц!
Словно смотрит с широкой страницы
Целый класс или курс продувных выпускниц:
Банты, ленты, ужимки, косицы.
Словно где-то стоит музыкальный плетень,
Струнный звук в нем пропущен сквозь трубный,
А сюда, на страницу, отброшена тень
Этой музыки, мне недоступной.
Как поклеванный птицами сад, как тряпье
Или куст облетевшей сирени.
Появись кто-нибудь, расколдуй мне ее,
Оживи эти черные тени!
А воз и ныне там, где он был найден нами.
Что делать? – вылеплен так грубо человек.
Он не меняется с веками,
Хотя и нет уже возов тех и телег.
Известно каждому, что входит в ту поклажу:
Любоначалие, жестокость, зависть, лесть, —
Я горло выстужу и руки перемажу, —
И доблесть ветхая, и честь.
Застрял… Вселенная не слышит наших криков.
Что ей, дымящейся, наш скарб, добро и зло,
И пыл ребяческий Периклов?
Ее, несметную, размыло, развезло.
Колеса грубые по оси в землю врыты.
Под них подкладывали лапник и тома
Священных кодексов, но так же нет защиты,
И колет тот же луч, и дышит та же тьма.
Иначе разве бы мы древних понимали?
Как я люблю свои единственные дни!
И вы не сдвинули, и мы не совладали
Средь споров, окриков, вражды и толкотни.
Сегодня грустно мне: вчера я счастлив был.
Вчерашним счастьем жить лишь в молодости можно.
Ах, в молодости всё: березовый настил,
Пружиня под ногой, – и тот готов тревожно
И радостно внимать молчанью твоему,
И берег торфяной, и чахлая осина
Завидуют тебе, и, мнится, есть кому
Подробности любви выпытывать невинно.
Но в зрелые года с кустом не говоришь,
А если говоришь, то темой разговора
Становишься не ты, а веточка, как мышь
Промокшая, да вязь древесного узора.
А счастью отведен свой ящичек, графа,
На всё вокруг оно разлитым быть не хочет,
И слышишь, как шумит болотная трава,
Что снизу тянет топь, а сверху дождик мочит.
Осенью вода в реке такая
Яркая, что страшно за нее,
Синяя, железная, густая.
Водоросли с края
Треплются, как на ветру тряпье.
Облетели листья, и поселок
Ниже стал, припал к земле, осел.
Всё насквозь видать: зеленых шторок
Больше нет, лишь елок
Зелен ряд, а там опять – пробел.
Плохо дяде Васе со стройбазы —
Никуда не скрыться от жены:
Все его финты и выкрутасы,
Всплески, переплясы,
Все восьмерки издали видны.
Схвачены шнурком малины плети,
Чтоб не поломалась в зимнем сне.
Вырица – не лучшее на свете
Место, бог свидетель,
Так, третьеразрядное вполне.
Уезжали – кресло позабыли
В дом втащить; сезонное житье —
Самое рассеянное; мы ли
Здесь так шумно жили?
Жизнь ушла – остались от нее
Жалкие следы; недолговечен
Рай земной и осенью продут.
Да и был ли так уж он беспечен,
Кротостью отмечен?
Станешь жить, а беды тут как тут.
Иногда приснится сон, похожий
На другой, что снился год назад.
Словно где-то держат их и множат,
Копией расхожей
Возвращают, прокрутив, на склад.
Сам себе построил жизнь такую —
Не пеняй; привязана она
К общей жизни, – с нею я рискую,
И на воду дую,
И вхожу в крутые времена.
На ветру поникший бьется кустик,
Дрожь бежит по вянущей траве.
Мне не грустно.
Если блещет зыбь на главном русле,
То должна быть рябь и в рукаве.
Есть поэты с фотообъективом,
Их самих снимающим в упор:
Отбегут, замрут перед штативом
С видом сиротливым,
Обогнав щелчок, потупив взор.
Лишь стихи подробной лучше прозы!
Если вдруг удастся посреди
Рваных строф – ответить на вопросы,
Не вставая в позы,
Не стремясь быть в фокусе, прости.
Ни один бинокль на нас не вскинут.
Я себе представить не могу
Жизни, из которой сумрак вынут.
Руки стынут.
Хорошо на утлом берегу.
Иногда влечет пустынный берег.
Как известно, весь его наклон
Клонит к думам. Так сидят в партере
Вне забот сценических, истерик.
Надоело – вышли вон.
Как бабочка, как бабочка ни разу
О гусенице вспомнить не рискнет,
А вспомнила бы – горькую гримасу
Скроила бы, причудливый полет
Над полем совершая и болотом, —
Так ты, душа, от тленья улетев,
Вернуться не захочешь ни к заботам,
Ни к радостям, ни в Псков, ни в Новоржев.
Как бабочка, как бабочка… Возможно,
Наверное, пожалуй, может быть.
И крыльями узорными роскошно
Мигая, навсегда утратить нить
Связующую… нравится – налево,
Не нравится – направо, по верхам.
А все-таки без Пскова, Новоржева,
Без Порхова, хоть я и не был там…
Общий замысел
Хлебом меня не корми, но позволь заглянуть
В стеклышко, линзу, подзорную даль, что-нибудь.
В геодезический теодолит, например,
Помню, однажды мне дал посмотреть инженер.
Что за услада – в бинокль заманить полевой
Дальнюю мачту, какой-нибудь шпиль ледяной
И, отнимая бинокль от обласканных глаз,
К жизни вернуться, с утра окружающей нас!
Ах, и от прозы, которая нравилась мне,
Тот же эффект возникал, словно наедине
С дивным прибором оптическим дали побыть:
Новое зренье – и можно ль по-прежнему жить?
Пристальный мир! Прислонись же к нему, улыбнись.
Может быть, смерть – это смена оптических линз?
В ракурсе новом увидишь знакомый предмет.
Что за таинственный, сладостный, горестный свет!
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо:
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном,
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах, прохлада!
Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.
Боже мой, разве общий какой-нибудь замысел здесь
Представим – эта тень так привольно и сладостно дышит,
И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь,
Как попоной, и ветер сдвигает ее и колышет.
А когда, раскачавшись, совсем ее сдернет, – глаза
Мы зажмурим на миг от июньского жесткого света.
Потому и трудны наши дни, и в саду голоса
Так слышны, и светло, и никем не задумано это.
Букет шиповника садового,
Сопротивляясь, был не сразу,
Лишь после натиска сурового,
Как кошка в сумку, втиснут в вазу,
И в ней, смирясь, затих.
Угрюмый вид с лица и загнанный
Сползал и тень с лица сходила,
Пока рукою исцарапанной
Цветочки в чувство приводила,
Расталкивая их.
Всем зноем сада, суматошною
Красой и мглою смуглолицей
Цветы способны в наше прошлое,
Леча от старых травм, зарыться.
Психоанализ слаб.
Ты глубину тоски измерила.
Но в нашем веке кто не болен?
Когда бы ты цветам поверила,
Их теплоте и шелку, что ли!
Их запаху хотя б.
Вся жизнь с ее размытой формою
И содержанием летучим
Зависит от того, что нормою
Считать. Насколько было б лучше
Не рыскать по шкале!
Ты б засыпала без снотворного.
Нет никого без отклонений
Сегодня в ту иль в эту сторону,
Но лучше в ту, где добрый гений —
Шиповник на столе.
Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.
Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолустье.
А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.
Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке, свыкается с ролью.
Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты;
И припала бы к Божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.
Ах, сколько уловок! И Бог, вытирая слезу,
Смеется в кустах и сквозит за сырым ивняком.
И в стадо овечье пастух запускает козу,
И бедные овцы считают ее вожаком.
И логики в мире не надо искать. По холмам
От всклоченной тучи крадется кудлатая тень.
Откуда такое доверье к бесплотным словам?
Ах, смысл бы, как шапку, чуть-чуть надевать набекрень.
Когда влюблены, мы вполне забываем о нем.
Не то чтоб совсем от него отказаться, но знать,
Но помнить, что больше улыбкой, чем силой, возьмем.
Всё мягкая травка мне снится да жесткая прядь.
Послушной отаре зато далеко не уйти:
Пастух, засыпая, бредет, словно сквозь забытье,
Коза объедает какой-нибудь куст на пути —
И топчутся овцы вокруг, поджидая ее.
Почему одежды так темны и фантастичны?
Что случилось? Кто сошел с ума?
То библейский плащ, то шлем. И вовсе неприличны
Серьги при такой тоске в глазах или чалма!
Из какого сундука, уж не из этого ли, в тщетных
Обручах и украшеньях накладных?
Или все века, художник, относительны – и, бедных,
Нас то в тогу наряжают, то мы в кофтах шерстяных?
Не из той ли жаркой тьмы приводят за руку в накидке,
Жгучих розах, говорят: твоя жена.
Ненадежны наши жизни, нерасчетливы попытки
Задержаться: день подточен, ночь темна.
Лишь в глазах у нас всё те же красноватые прожилки
Разветвляются; слезой заволокло.
Ждет автобус оступающихся в лужи на развилке
С ношей горестной: ступают тяжело.
И в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся,
И в потертом темном пиджаке;
Навсегда простясь, обнять потянутся
И, повиснув, плачут на руке.
Весь этот мир
Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию – там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.
Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а всё потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.
Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог – это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и накрапах.
То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном смысле.
Бог – совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.
Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В Боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог – это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.
Весь мир, весь этот мир, весь этот
И тот, которого, быть может, вовсе нет,
Весь мир, и комната, с диваном и портретом,
Весь мир и комната, и что это, Тибет,
Скорей по живописи, чем из книг известный?
Весь мир, и звездная сухая пыль во тьме,
Весь мир, и скошенный граненый склон отвесный
В ледовой, сохнущей, тяжелой бахроме,
Весь мир и комната, весь мир и даль земная,
О чем подумаю – то и мое, и всё ж,
С горами, реками, всего не занимая
Меня, он чувствует: я полон им не сплошь,
Весь мир, и все-таки в моей душе пространство
Еще не занятое есть, и в зубьях скал,
И в складках волн, в меня и звездное убранство
Впихнув, и комнату, и ночь, о, как он мал!
Никем, никем я быть бы не хотел,
И менее всего – царем иль ханом,
Нестрог бы суд мой был, я б не сумел
Внушить озноб ни подданным, ни странам
Соседним; льстец бы втерся, как елей.
Воображаю жалкие детали,
Весь этот стыд – и правил бы моей
Землей, и только профиль на медали
Подслеповатый был бы, точно, мой.
Куда мне править? Выбрать между чаем
В гостях и кофе трудно мне… домой
Хочу! А то, в чем мы души не чаем,
Что нам всего дороже на земле,
За что не жаль и жизнь отдать, и славу,
Под яркой лампой ждет нас на столе,
И шелестит, и нам дано по праву.
И много ль нас, внимательных, как я,
Стихом сегодня, может быть, владеют,
И ночь идет, и нету забытья
Сильней, чем это… Звуки пламенеют.
Подделать, кроме, может быть, огня,
Огня, огня, – возможно всё на свете.
Слух раскален… Ни слова за меня!
Я сам скажу, я сам за всё в ответе.
А в Мойке, рядом с замком Инженерным,
Мы донную увидели траву…
Итак, река, как все земные реки,
Как Суйда или Оредеж, хотя
С прекраснейшим чудовищем навеки
Обручена, завися от дождя
Не больше, чем от поручней чугунных,
Опор гранитных, рослых фонарей,
И все-таки в ее подводных струнах
Натянутых есть что-то от полей,
Кустарника, лужаек, сенокоса.
Парадная, она вам не канал!
И склонна невзначай простоволосой,
Неприбранной вбежать в дворцовый зал,
Отдернуть штору, тенью бледнолицей
Мелькнуть в окне, пропеть, прошелестеть…
Так женщину, наверное, в царице
Кому-нибудь случалось разглядеть.
Любимая, что мы еще подметим?
В какой заглянем двор, в каком саду
Скамью найдем под липой, на две трети
Облитой солнцем, прячась в темноту,
Отбрасываемую нижним слоем
Густой листвы? Как сырость веселит,
Попахивающая перегноем
Культурной почвы, славы и обид —
Трехвекового честного служенья
Морскому ветру, музам и мечте
Среди невзгод, обратного теченья
И судорог, бегущих по воде!
И голову кладя мне на колени,
Как вещь, едва ли что-нибудь с душой
Имеющую общее, – мгновенье
Лежишь, быть может, донною травой
Себя в безвольно-вытянутой позе
Смиренно ощущая – ни тоски,
Ни горечи, – и горести относит,
И волосы, и холодит виски.
Пятая стихия
Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синею скалой,
Там липы душные, там глянцевые кроны.
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не насладился я речной волной зеленой.
Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист.
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.
Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверяясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.
Л. Дубшану
Бессмертие – это когда за столом разговор
О ком-то заводят, и строчкой его дорожат,
И жалость лелеют, и жаркий шевелят позор,
И ложечкой чайной притушенный ад ворошат.
Из пепла вставай, перепачканный в саже, служи
Примером, все письма и все дневники раскрывай.
Так вот она, слава, земное бессмертье души,
Заставленный рюмками, скатертный, вышитый рай.
Не помнят, на сколько застегнут ты пуговиц был,
На пять из шести? Так расстегивай с дрожью все шесть.
А ежели что-то с трудом кое-как позабыл —
Напомнят: на то документы архивные есть.
Как бабочка, ты на приветный огонь залетел.
Синеют ли губы на Страшном нестрашном суде?
Затем ли писал по утрам и того ли хотел?
Не лучше ли тем, кто в ночной растворен темноте?
Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет, – и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман прижизненное право,
Как если б о себе подслушать мненье вод
И трав, расчесанных налево и направо.
Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить – и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче – небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?
В этом мире плотном, волокнистом,
Выхлопными газами дышать
Научившем, жестком, каменистом, —
Где альбом и школьная тетрадь? —
Нумизматом быть, филателистом!
Над почтовой бабочкой дрожать!
В этом веке, щупальцы стальные
Запустившем в мысли и дела,
Медные лелеять, проливные,
Золотые, смуглые тела.
Нумизматика, филателия!
Примостившись с краешка стола.
В этой смуте, в реве этом грозном,
От сырых забот отгородясь,
Про метель забыв в окне морозном,
Лишь узор разглядывать и вязь…
Я бы спасся, может быть, но поздно!
Век дохнул – и страсть не принялась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































