Текст книги "Таврический сад: Избранное"
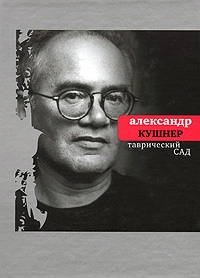
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Твой голос в трубке телефонной,
Став электричеством на миг,
Разъятый так и угнетенный,
Что вид его нам был бы дик,
Когда бы слово «вид» имело
При этом смысл какой-нибудь,
Твой голос, сжатый до предела,
Во тьме проделав долгий путь,
Твой голос в трубке телефонной
Неуследимо, в тот же миг,
Из тьмы, ничуть не искаженный,
Как феникс сказочный возник.
Уж он ли с жизнью не прощался,
Уж он ли душу не терял
И страшно перевоплощался
В толченый уголь и металл?
И этот кабель, и траншея,
И металлическая нить
Невероятней и сложнее
Души бессмертья, может быть.
И нашу занятость, и дымную весну,
И стрижку ровную, машинную, газонов,
Люблю я плеч твоих худую прямизну,
Как у египетских рабов и фараонов.
В бумажном свитере и юбке шерстяной
Над репродукциями радужных эмалей
Как будто бабочек рассматриваешь рой,
Повадку томную Эмилий и Амалий.
И странной кажется мне пышнотелость дам,
Эмалевидная их белизна и нега.
Захлопни рыхлый том: они не знают там
Ни шага быстрого, ни хлопотного века.
Железо – красные тона давало им,
И кобальт – синие, и кисть волосяная
Писала тоненько, – искусством дорогим
Любуюсь сдержанно – чужая жизнь, иная!
На что красавица похожа? На бутыль.
Как эту скользкую могли ценить покатость?
Мне больше нравится наш угловатый стиль,
И спешка вечная, и резкость, и предвзятость.
В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов,
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.
Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
А ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.
И хотел бы я маленькой знать тебя с первого дня,
И когда ты болела, подушку взбивать, отходить
От постели на цыпочках… я ли тебе не родня?
Братья? Сорок их тысяч я мог бы один заменить.
Ах, какая печаль – этот пасмурный северный пляж!
Наше детство – пустыня, так медленно тянутся дни.
Дай мне мяч, всё равно его завтра забросишь, отдашь.
Я его сохраню – только руку с мячом протяни.
В детстве так удивительно чувствуют холод и жар.
То знобит, то трясет, нас на все застегнули крючки.
Жизнь – какой это взрослый, таинственный, чудный кошмар!
Как на снимках круглы у детей и огромны зрачки!
Я хотел бы отцом тебе быть: отложной воротник
И по локти закатаны глаженые рукава,
И сестрой, и тем мальчиком, лезущим в пляжный тростник,
Плечи видно еще, и уже не видна голова.
И хотел бы сквозить я, как эта провисшая сеть,
И сверкать, растекаясь, как эти лучи на воде,
И хотел бы еще, умерев, я возможность иметь
Обменяться с тобой впечатленьем о новой беде.
Когда я у полки, одну выбираю из книг,
Мой ангел-хранитель, что делает он в этот миг?
Тогда отдыхает, спокоен вполне за меня.
Какое блаженство! Везенье ему среди дня!
Он может отвлечься (растет между нами просвет),
Присесть на диван (в нем нужды настоятельной нет)
Поблажка для крыльев, простор, передышка для чувств,
Лишь краешком глаза отметит: Толстой или Пруст?
Когда я с тобою… о, если б на несколько строк
Дымящихся точек сейчас я осмелиться мог,
Когда я с тобою… молчанье… когда я томим
Сердечной тоскою, – он ангелом занят твоим!
Как взрослые люди о детях – о нас говорят:
Что было, что будет, и вниз, беспокоясь, глядят,
И рады друг другу, и знают о чем-то таком,
О чем говорят, отстраняя детей, шепотком.
Ему нужны века…
Бог был так милостив, что дал нам эту ночь.
Внизу листва шумела,
Бежала, пенилась, текла, струилась прочь,
Вздымалась, дыбилась, остаться не хотела.
Как будто где-то есть счастливее места,
Теплее, может быть, роднее.
Но нас не выманишь, как тех чижей с куста,
Они затихли в нем, оставь их, – им виднее.
Бог был так милостив, что дал нам этот век.
Кому не думалось про свой, что он – последний?
Так думал римлянин, так раньше думал грек,
Хотя не в комнатах топтались, а в передней.
Мне видеть хочется весь долгий страшный путь,
Неведенью предпочитаю знанье.
Бог был так милостив, что прежде чем уснуть,
Я дрожь ловил твою и пил твое дыханье.
При Сотворении он был один, в конце
Свое смущение он делит вместе с нами,
И ночью тени на лице
Волнами пенятся, колышутся цветами.
На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.
У греков – жизнь любить, у римлян – умирать,
У римлян – умирать с достоинством учиться,
У греков – мир ценить, у римлян – воевать,
У греков – звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков – жизнь любить, у греков – торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем,
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков – воск топить и умирать – у римлян.
В палатке я лежал военной,
До слуха долетал Троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.
Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.
И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладною рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.
Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.
Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен —
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.
Не помню, как заснул и сколько спал – мгновенье
Иль век? – когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: «Патрокл сражен!»
Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. Еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.
Я знаю, почему в Афинах или Риме
Поддержки ищет стих и жалуется им.
Ему нужны века, он далями сквозными
Стремится пробежать и словно стать другим,
Трагичнее еще, таинственней, огромней.
И эхо на него работает в поту.
Он любит делать вид, что все каменоломни
В Коринфе обошел, все дворики в порту.
Он в наш вбегает день – идет снежок мучнистый,
Автобус синий дым волочит, как крыло,
И к снегу подмешав как будто прах кремнистый,
Стих смотрит на людей и дышит тяжело.
Сейчас он запоет, заплачет, зарыдает,
Застонет, завопит… но он заводит речь
Простую, как любой, кто слишком много знает,
Устал – и всё равно не сбросит тяжесть с плеч.
Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке всё всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.
Когда шумит листва, тогда мне горя мало.
Отпряну, посмотрю на зрелый возраст свой;
Мне лишь бы смысл в стихах листва приподнимала,
Братался листьев шум со строчкой стиховой.
О, как я далеко зашел, как затуманен!
К вечерней ближе я, чем к утренней заре.
Теперь какой-нибудь Филипп Аравитянин
Мне ближе, может быть, чем мальчик во дворе.
Ветрами ли, песком, враждой ли исцарапан,
Изъевшей ли висок частичкой бытия,
Глядит поверх голов солдатский император,
И складочка у губ от горького питья.
Но так листва шумит, что, чем бы ни томила
Жизнь, весело сидеть за письменным столом.
На зло найдется зло, да и на силу сила,
И я – про шум листвы, а вовсе не о том.
По эту сторону
Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.
Как будто Тацита читала эта крона
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.
Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынущий среди пустынных вод?
Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный – и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело давнее), кроме тебя, прости.
Ум платит глупости за то, что та глупа,
Ум платит глупости, и злу – добро, не сетуй.
А эта тонкая по вечности резьба,
Узор таинственный, сквозь эту тьму продетый…
Когда я выбежал, уже и след простыл
Той тихой музыки, той жалобы прохожей.
Кто нам сопутствует? Кто нам любовь внушил
К весне томительной и влаге тонкокожей?
Овца в беспамятстве, когда ее стригут,
Лежит; наверное, твоя душа не проще.
Не удивляйся же, что больно ей, что жмут
Ей эти комнаты, и холода, и рощи.
Орнитолог, рискующий ласточку окольцевать,
Он, должно быть, не знает, какая морока
Ей над морем лететь, повинуясь опять
Его вере слепой в каменистый Тунис и Марокко.
Хорошо ему ждать, оставаясь на месте одном.
До чего он уверен в наличии знойного края!
То ли вычитал где-то о нем,
То ли трогал во сне шерсть верблюда и глину сарая.
Хорошо ему жить, да, увы, умирать тяжело.
Он представить боится разлуку.
Ему щель не видна – в нее можно просунуть крыло.
Если можно просунуть крыло, значит, можно и руку.
Вот о чем ему ласточка хочет сказать, ее крик
Так прерывист, как будто нарезан, но эти отрезки
Звука он принимать не привык
Близко к сердцу, как довод какой-нибудь веский.
Есть другие края, где и берег, и воздух иной.
Жаль любителя птиц, он расстался бы с жизнью и домом
Легче, если бы знал, что во мгле неземной
Расщепленную тень обнаружит с колечком знакомым.
Полнеба заволок подробный материк
Вечерних дымных туч, и ветром прибивает
Отсталые дымки, как сны, к нему; старик
Сказал мне, что во сне он старым не бывает.
Волнение кустов, и смутный лёт стрижа,
И рваные края в дороге истрепало,
И так синеет даль, как если бы душа
В сохранности вне нас счастливой пребывала.
И мертвые, сказал, являются ему
Живыми… Хороша изрезанная кромка.
Так блещет полоса прибрежная в Крыму.
Не спит ли в нас кора, не дремлет ли подкорка?
И домики к земле под тенью грозовой
Прибиты, как листва; я снов своих не помню.
Должно быть, жизнь моя полна еще тщетой
И счастьем, а на снах покуда экономлю.
Пойдем! Поедем! – говорят
Те, кто в беспамятстве лежат,
Томятся в этой проволочке.
О, как им, бедным, тяжко здесь!
Как будто смысл метаний весь —
Скорее сняться с мертвой точки.
Кто умирающему был
Сиделкой, – смерти пригубил
И знает, как с постели рвутся, —
Пойдем! Поедем! – говорят,
Поверх любви твоей глядят
И отправленья не дождутся.
По эту сторону таинственной черты
Синеет облако, топорщатся кусты,
По эту сторону мне лезет в глаз ресница,
И стол с приметами любимого труда
По эту сторону, по эту… а туда,
Туда и пуговице не перекатиться.
Свернет, покружится, решится замереть.
Любил я что-нибудь всю жизнь в руке вертеть,
Пора разучиваться. Перевоспитанье
Тьмой непроглядною, разлукой, немотой.
Как эта пуговичка, я перед чертой
Кружусь невидимой, томленье, содроганье.
Никто не знает флага той страны.
В морском порту, где столько полосатых
И звездчатых, где синие видны,
И желтые, и в огненных заплатах,
Его лишь нет. Он бел, как облака.
Как майская земля, такой он черный.
Никто не знает флага, языка,
Ландшафт ее равнинный или горный?
Никто не знает флага той страны,
Что глиняного старше Междуречья.
Быть может, все мы там обречены
На хаттское и хеттское наречье.
Никто не знает флага, языка,
Он запылен, как кровельщика фартук.
Пока мы здесь, пока твоя рука
Лежит в моей, что Иштар нам, что Мардук?
Никто не знает флага той страны.
Оттуда корабли не приплывали.
Быть может, в языке сохранены
Праиндоевропейские детали.
Что там, холмы, могучая река?
Кого там ценят, Будду или Плавта?
Никто не знает флага, языка.
Ни языка, ни флага, ни ландшафта.
Прости, волшебный Вавилон
С огромной башней, как рулон
Небрежно свернутой бумаги.
Ты наш замшелый, ветхий сон.
Твои лебедки помню, флаги.
Мне стоит в трубочку свернуть
Тетрадь, газету, что-нибудь,
Как возникает искушенье
Твою громаду помянуть
И языков твоих смешенье.
Гляжу в окно на белый снег.
Под веком – век, над веком – век.
Где мы? В конце ль? У середины?
Как горд, как жалок человек!
Увы, из крови он, из глины.
Он потный, жаркий он, живой.
И через ярус круглый свой
Ему никак не перепрыгнуть.
Он льнет к подушке головой,
Он хочет жить, а надо гибнуть.
Как всё изменчиво!
Как буйно жизнь кипит на стенках саркофага!
Здесь и весна, и страсть, и гордый Ипполит
С собакой и конем, не сдерживая шага,
От мачехи письмо отвергнуть норовит.
Стояли долго мы пред мраморным рассказом,
Смерть жизнью с четырех сторон окружена
И льнет к морским волнам, ступеням и террасам,
К охоте и любви, за камнем не видна.
Там кто-то горько спит, – живые только сладко
Спят, – мерно обойдя его со всех сторон,
Мы видим: жизнь и смерть – единая двойчатка,
На смертном камне мир живой запечатлен.
Конюших провести беспечною гурьбою,
Кормилицу пригнуть, морской раскинуть вал…
Жизнь украшает смерть искусною резьбою,
Без смерти кто бы ей сюжеты обновлял?
То, на что не надеешься, предпочитает сбываться.
Что-то детское есть в этих играх судьбы, что-то бабье.
Суеверия женские… Скажешь: чего нам бояться?
Это так далеко от нас, как Гурилев и Алябьев.
Но какая-то музычка под вечер с черного входа
Поднимается в дом, по ладони гадает и плачет:
Не загадывай, эй, не рассчитывай – ни на полгода,
Ни на сутки вперед – или случай всё переиначит.
Так темна, словно очередь за порошком или брюквой.
Шелестящая юбкой, бубнящая что-то нелепо
Не большая судьба, а домашняя, с маленькой буквы,
Тем не менее с ней как-то связано звездное небо.
Что-то, видимо, есть, не на той высоте безупречной,
Где гостит наша мысль, а поближе к поверхности, что ли:
Плутоватый смешок, интерес вороватый сердечный,
Вызывающий вдруг паралич нашей мысли и воли.
Банкет – это что-то для Гоголя, что-то
Для взора его ястребиного, это
Салфетки в помаде и пепел в салате,
И гомон несвязный, и стол п-образный,
Как будто упавшие навзничь ворота;
Банкет – это что-то для Гоголя, это
Гуськом на столе нестандартные яства,
И розданы роли, и гладью паркета
Повержен новейший Ноздрев и распластан,
С подшефного он, извините, завода
И только что за ноги дам не хватает;
Банкет – это символ большого расхода,
Когда человек коллектив уважает.
А сам именинник, вернее, виновник
Сего торжества, защитивший успешно, —
Все хвалят проект его, то есть коровник,
Поэму, в металле и камне, конечно.
Наклон есть такой у тяжелого тела,
Так за спину руку кладут, словно прячут
В ней розу. О боже, а мне что за дело,
Что прочат на должность его и назначат?
А все-таки взгляд не решается мимо
Скользнуть, но старается встретиться взглядом
С начальством. О пошлость, ты неистребима:
Во-первых, ты в нас, во-вторых, с нами рядом.
И все-таки к тем, кто хотел бы сатиру
Прочесть между строк, я навстречу не выйду.
Смешны и нелепы претензии к миру,
Такому смешному и жалкому с виду,
Но втайне хранящему правду и совесть.
Мы все по отдельности лучше, чем вместе;
Банкет – это две-три страницы, а повесть
Не вся – в этой фразе, не вся – в этом жесте;
Бичу Ювенала сочувствую мало;
О, знал бы сатирик, как будут в постели
Ворочаться те, кто всех больше шумели;
А то, что мы вдруг попадаем в типажи
И в жестах своих узнаем типовые, —
На то и банкет, и нельзя же, нельзя же
Всем нитям в клубке предпочесть золотые.
Словно войлоком снизу подбитый, колючий, зубчатый,
Остролистый, ребристый, ворсистый мордовник резной,
И шерстистый татарник, и рыхлый, как будто помятый,
Угловатый осот, – кто кусал их, кто резал пилой?
Словно жеваный, нет, словно порванный или избитый,
Несмотря на колючки, изглоданный кем-то бодяк
О, какие невзгоды, уколы, удары, обиды
Изувечили их, изъязвили, изрезали так?
Почему для одних – только кисточки, бархатка, вата,
Почему эту лилию нежат проточной водой?
Ах, свербига, наверное, в чем-то и впрямь виновата,
Что подпилком прошлись и удар нанесли ножевой.
И когда человек, уязвленный тоской, вдоль канавок,
По задворкам бредет, по шершавым, колючим, сухим, —
Что б ему постоять – пригодился бы, может быть, навык —
Постоять, помолчать, приглядеться внимательней к ним!
Вы, облако и сад,
Я только что из ада,
Истерзан и разъят.
Мне так нужна прохлада,
Так бегает мой взгляд.
Споткнусь, чуть не упав.
Как страшно человеком
Быть! В саже мой рукав.
Смущен своим я бегом
Средь рытвин и канав.
Вам жаловался Лир,
Вы Гамлету внимали.
Неужто есть ранжир?
Те – из дворцов сбегали
В слезах, мы – из квартир.
Разбитых вдрызг корыт
Не счесть, сердечных капель.
Двор вечно перерыт:
То теплосеть, то кабель.
Трясет меня, знобит.
И что всего больней —
Прекрасен мир огромный.
Смертельный стыд. Скорей
В тени укрыться темной
Кипящих тополей.
Облизан языком
Огня, дождем обрызган,
О, в горестном каком
Я занят жанре низком
И с ужасом знаком!
И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, —
Под утюгом так высохла, на солнце? —
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.
Нет, не вы всех счастливей, а этот, в вагонном окне
На пустынной платформе сидящий, от всех в стороне,
К станционной решетке прижавшись ребристой, сквозной,
Моторист или сцепщик, и куст у него за спиной.
Все куда-то спешат, он один никуда не спешит,
Белым войлоком куст, облюбованный ветром, подшит,
Нет, не вы всех счастливей; просторно, пустынно, свежо,
Все мы едем куда-то, ему же и здесь хорошо.
Неподвижен; а куст, всё зеленое внутрь подобрав,
Ослепительно-бел, утомительно-буен, кудряв.
Ах, и встал бы – упал, потому что, куда ни взгляни,
Шага сделать нельзя по такой торопливой тени.
Сколько раз я видал, как кусты обгоняли людей,
Те бежали на поезд, а куст из последних дверей,
Из захлопнутых, им отразившейся ветвью махал.
Нет, не вы всех счастливей; мелькнул – и за далью пропал.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры…
На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,
Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой… еще сказать хочу…
Не помню, что хочу… неважно.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была
К знакомым гостья, – стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, – и жизнь вернулась.
Жизнь кончилась, а смерть еще не знает
Об этом. Паузу на что употребим?
На строки горькие, в которых западает
Смысл, словно клавиши, – не уследить за ним.
Шумите, круглые, узорные, резные,
Продолговатые, в прожилках и тенях!
Уже отчетливо видны края иные,
Как берег в трещинах, провалах и камнях,
Изрытый бурями, и видишь: не приткнуться.
Мне жизнь привиделась страшней, чем страшный сон,
Я охнул, дернулся – и некуда проснуться:
Всё та же комната, всё тот же телефон.
И всё же в радости ее назвать прекрасной
Неосмотрительно, и гибельной – в беде.
Как всё изменчиво! И тополь, то ненастный,
То ослепительный, клубится в высоте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































