Текст книги "Таврический сад: Избранное"
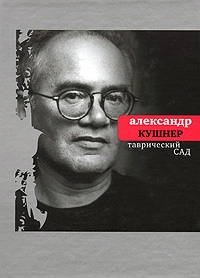
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
«Шли дорогой заросшей…»
– Это песенка Шуберта, – ты сказала.
Я всегда ее пел, но не знал откуда.
С нею, кажется, можно начать сначала
Жизнь, уж очень похожа она на чудо!
Что-то про соловья и унылый в роще
Звук, немецкая роща – и звук унылый.
Песня тем нам милей, чем слова в ней проще,
А без слов еще лучше, – с нездешней силой!
Я всегда ее пел, обходясь без смысла
И слова безнадежно перевирая.
Тьма ночная немецкая в ней нависла,
А печаль в ней воистину неземная.
А потом забывал ее лет на десять.
А потом вновь откуда-то возникала,
Умудряясь дубовую тень развесить
Надо мной, соблазняя начать сначала.
«Смысл постичь небесный…»
Шли дорогой заросшей,
А когда-то проезжей,
И скользили подошвы
По траве запотевшей,
И две бабочки рядом
С нами, нам подражая,
Вились, шелком крылатым
Долго нас провожая.
О, какая глухая
И забытая всеми;
Сонно благоухая
И дымясь, как в эдеме,
До чего ж она густо
Заросла, лежебока!
Неужели искусство
Зарастет, как дорога?
Может быть! Почему бы
И не стать ему лишним?
Заговаривать зубы
Сколько можно? Всевышний
Даст нам лучшие игры
И другие услады:
Вот ведь Криты и Кипры
Рухнули, и Эллады.
И кино не похоже
На себя: приуныло.
Да и живопись тоже
В тупике, и чернила
Стихотворные блёклы.
Тем приятней и слаще
Нам брести одиноко
По заросшей и спящей.
«За землетрясенье отвечает…»
Смысл постичь небесный, сущность бледную
Райских рощ, мерцания зеркал…
Камеру сменить велосипедную
В десять раз трудней, но я – менял!
Перепачкав руки, плоский гаечный
Ключ просунув между колесом
И резиной, – так что вздох упадочный
Мне смешон, мистический излом.
Боже мой, дорога поселковая
С бабочкой, привыкшей падать ниц,
Как листок, плашмя, дымно-пунцовая,
Пыльная, не различая спиц.
Вот чего не будет там, наверное, —
Это гайки, тормоза, цепи,
Контргайки и ключа резервного,
Черт бы их побрал, но… потерпи.
«Я сам свой создал век…»
За землетрясенье отвечает
В Турции Аллах – не Саваоф.
Суток семь душа не отлетает,
Если молод узник и здоров.
Поисковая собака лает
От него за тысячу шагов.
Он, звериной жаждою замучен,
Подыхает в каменном гробу
В испражненьях, в крошеве колючем,
Тьме бетонной, с ссадиной на лбу.
Дольше взрослых мучаются дети
На предсмертной, страшной той стезе.
Помолчите в церкви и мечети,
На газетной вздорной полосе
И на богословском факультете,
Хоть на день, на два заткнитесь все.
«В Италии, на вилле, ночью зимней…»
Я сам свой создал век – так он сказал, и в этом
Согласны были с ним и звездный наш поэт,
И тысячи солдат, за ним встававших следом
Из гроба по ночам, кователи побед.
Но сердцу всё равно понятнее прозаик,
Поставивший его на место в мировой
Сумятице, творец эпических мозаик, —
И слово-то ему не нравилось: герой.
Поэзия несет убытки, да какие!
Упрямец, вижу их на собственных стихах.
Но звезды ни при чем, осколки золотые,
И жизнь не для того дана, чтоб жить в веках!
И кипарисной рощей заслонясь…
Тютчев
«Над картой Венеции…»
В Италии, на вилле, ночью зимней,
Бесснежной и нестрашной, на дворец
Смотрел я. Бог поэтов, расскажи мне,
В чем жизни смысл и счастье, наконец,
И бог, а он, действительно, на крыше
Стоял средь статуй, предводитель муз,
И всматривался в парк, где жили мыши
И еж шуршал, – и бог, войдя во вкус,
Мне кое-что поведал: счастье – это
Незнание о будущем, при всем
Доверии к нему; не надо света,
Еще раз луг во мраке обойдем
И удивимся сумрачному чуду
Прогулки здесь, за тридевять земель
От дома, листьев пасмурную груду
Приняв на грудь, как русскую метель.
Всё может быть! Наш путь непредсказуем,
Считай своей миланскую листву.
Мы и слова, наверное, рифмуем,
Чтоб легче было сбыться волшебству,
Найти узор – спасенье от недуга
Топорных фраз и гибельных идей, —
То не твоя, то русских рифм заслуга,
Подсказка живших прежде нас теней,
Судьба петляет, если не стремиться
Речь выпрямлять, как проза ей велит,
И с нами Бог: на юге он, как птица,
Живет, вдали от северных обид.
«Мавританский стиль хорош в Европе…»
Над картой Венеции, пристальным планом ее,
Как шмель на шиповнике, в долгое впасть забытье,
Как будто два зверя друг друга хотят проглотить.
А может быть, это и значит друг друга любить?
Тогда мы Венеция, господи, именно так!
Нельзя отойти, друг от друга отстать ни на шаг,
Мерцанье канала, сверкающий влажный пробел.
Мне кажется, ты меня съела. – Нет, ты меня съел.
Две пасти, две страсти, разящих друг друга клешни.
Сверкни позолотой и сердце волной увлажни.
– Заглянем в пиццерию. – Я бы хотела в кафе.
– Чем плохо в пиццерии?
– Плохо? Да там, как в Москве.
Мое ты сокровище! Катер прополз под мостом.
Чудовище машет чудовищу длинным хвостом
И яркое счастье скрывает, как темный позор.
А что на хвосте у него? Неужели собор?
И в маленький садик с обшарпанной красной стеной
Зайдем постоять над зеленой, как плесень, волной,
Сквозь мирты и лавры увидеть позволено тут,
Как два минотавра в одном лабиринте живут.
«Придется святому, когда воскресенье…»
Мавританский стиль хорош в Европе,
Где-нибудь в Венеции сырой,
Эти дуги, круглые надбровья,
Розоватый камень кружевной.
Вплоть до кресла гнутого и стула:
В тесной спинке дырочка сквозит,
Словно вдруг из Африки подуло,
Намело весь этот реквизит.
Весь декор прищуренно-стрелковый,
Весь гаремно-сводчатый уют,
Сердцевидный и трехлепестковый,
Будто пики с трефами сдают.
На Canale Grande в самом деле
Есть под синим флагом казино, —
Если б мы с тобой разбогатели,
Мы б сидели, пили там вино.
Что ты, что ты, страшно, не умею
Ни сказать, как надо, ни ступить, —
Лучше эту странную затею
До загробной жизни отложить.
Альпы
Придется святому, когда воскресенье
Телесное будет объявлено, кости
Свои собирать по церквям, в отдаленье
Стоящим, аббатствам, как шляпы и трости:
Колено – в Перудже на бархатной ткани,
Расшитой серебряной нитью, ключица —
На пухлой подушке парчовой в Милане,
Усыпана розами; кто поручится,
Что не потерялись бедро или голень,
Которую видели в пышной укладке
Лежащею с перстнем Крестителя вровень,
Кто, сведущий, скажет: теперь всё в порядке?
Кто всё это, как инструмент музыкальный,
Собрав, дорогие чехлы и футляры
Отбросив, вдохнет в него жизнь, погребальный
Отвергнув мотив, отменяя кошмары,
Кто сложит опять Вифлеемские ясли
По щепкам разбросанным, втайне хранимым,
Кто предусмотрителен так и запаслив,
Ни тленом души не запачкав, ни дымом?
«Со Смоленского кладбища ехали мы…»
Над Альпами я пролетал лепными,
Похожими на завитки-волюты,
И, снежными, я любовался ими,
Античные я вспоминал причуды:
Антаблемент, все эти ухищренья
Несущих балок, фриза, архитрава,
Казалось, там клубятся в запустенье
Былая доблесть и чужая слава.
И думал я о римских легионах,
В снегу идущих через перевалы
Лугах альпийских, храмах и колоннах,
Германцы мне мерещились и галлы,
Ущелья мне являлись и стремнины,
Перебирал века я и народы,
И ледники мерцали, как павлины,
И водопад шумел рыжебородый.
В попонах шли внимательные кони,
В лучах сверкали снежные карнизы,
И папский двор в узорном Авиньоне
Подарков ждал из Падуи и Пизы,
А впрочем, я и карту знаю плохо,
И не в ладах с историей лоскутной,
И мысль моя пугается подвоха
И собственной своей природы смутной.
Не демон я, не дух-экзаменатор,
Чтоб так летать над грешною землею,
Не ястреб, я гляжу в иллюминатор,
А надоест – щитком его прикрою,
И если там, внизу, Наполеона
Я различаю синие дружины,
Сползающие с пушками со склона,
То это сон, волшебные картины!
И я себя одергиваю: мысли,
Похожие на облачные клочья,
Летят сквозь нас, поди их перечисли!
Но всё казалось: взгляд сосредоточь я
И задержи – проступит из тумана
То, что назвал Волшебною горою
Дотошный автор старого романа,
Который мне так нравился, не скрою.
Теперь его, наверное, не стал бы
Читать, – такой занудно-философский, —
Но до чего же нравились мне Альпы
И доктора и Беренс, и Кроковский,
Каких надежд на век ни возлагали!
Как был он бодр, по-юношески влюбчив!
И пенилось шампанское в бокале,
И к вере в разум прибавляли случай.
Теперь иллюзий нет: тысячелетье
Нас не заставит лучше быть и жарче;
Предпочитаю, сумрачный, лететь я,
Смотреть на Альпы сверху, как на ларчик,
Не открывая лаковую крышку,
Не увлекаясь ярким содержимым,
Не веря в разум – только в передышку,
Считая доблесть словом, славу – дымом…
Еще раз…
Со Смоленского кладбища ехали мы
В полегчавшем автобусе – прочь,
На поминки, в апреле, остатки зимы
Как руины лежали точь-в-точь,
По обочинам – залежи снега и тьмы.
Жаль нам было жену его, дочь.
А весенний огонь разгорался, текло
С крыш, автобус бежал, дребезжал,
Плохо знал я места эти, – их развезло,
Грязь дымилась и лед оплывал.
Тормозил наш конек и дышал тяжело,
Натыкался квартал на квартал.
Вдруг увидел я улицу: шла под углом,
Вся в слезах, незнакомая мне,
В безмятежном небесном сиянье дневном
И каком-то младенческом сне,
Пощаженная горем, забытая злом,
От несчастий и бед в стороне.
Только в детстве я видел такой, на подбор,
Тесно сомкнутый каменный ряд,
Защищающий жизнь, ослепляющий взор,
Обещающий счастье и лад,
Солнцем залитый, стройный, дымящийся хор,
Непрерывную милость громад.
Что? Еще раз родиться? Всему вопреки.
И попробовать жизнь еще раз!
О, как нравятся мальчикам грузовики
И автобусы ЗИЛ или ГАЗ,
Тайны взрослых, – у страха глаза велики,
Тайны статуй, – железный каркас,
Великанш под карнизом глазные белки,
Чудо рук их лепных и гримас…
Это всё только подступы, черновики —
И бессмертного счастья запас!
«Увидев тот коттедж…»
О, если бы при нас какой-нибудь еще раз
Привлек сердца роман, как «Вертер» или «Дар»,
О, если бы к груди прижать счастливый образ,
Неважно, пусть он юн, а ты угрюм и стар.
О, если бы еще один Онегин, что ли,
Пусть Генри-лейтенант, пусть гамсуновский Глан…
Неужто навсегда разобраны все роли,
Подсохли слезы все, развеян весь туман?
Ведь это как любовь! Неужто ни в Европе,
Ни в Африке слова никто не сцепит так,
Чтоб мир себя узнал в смущенье и в ознобе,
Вздохнул, помолодел, вспылил, ускорил шаг!
«Если бы всё, что прочесть о себе…»
Увидев тот коттедж, где жили мы с тобой
Лет семь назад, зайти хотел в него, но струсил.
Я там моложе был, и ты была другой:
Не так боялась зла, и жизнь свой крепкий узел
Полегче, послабей старалась затянуть,
Не грубо, как сейчас, а вежливо, вполсилы,
И живы были те, с кем встречу как-нибудь
Нам ветер обещал морской, прозрачнокрылый.
Увидев тот коттедж под кедрами, в тени
Раскидисто-густой, медвежьей, бурой хвои,
Подумал я, что мы, точней сказать, они
Смутились бы меня сегодняшнего, – сбои
Такие в ленте дней, обрывы и рывки
Простительны в кино, а в жизни были б жутки:
Умолкли б голоса, притихли бы смешки,
Замедлились шаги, не состоялись шутки.
Живите там без нас, целуйтесь в темноте,
А в полдень за буйки смелее заплывайте…
Увидев тот коттедж, я понял страхи те,
Что призраки внушить способны: не питайте
Иллюзий, нет, как раз питайте, повкусней,
Послаще, – может быть, тогда, как на Итаке,
Увидев тот коттедж, я справлюсь со своей
Сегодняшней тоской и улыбнусь во мраке.
«Чем повторять стихи про кобылицу…»
Если бы всё, что прочесть о себе
Мне посчастливилось, принял я близко
К сердцу, – на обе ноги при ходьбе
Я бы хромал и страшней василиска
Был бы, – и мытаря так не стыдят,
Вора и взломщика так не бичуют.
Как же в стихах своих я виноват!
Как их не любят! И как негодуют!
Кто ж их читать заставляет? Не я.
Мимо пройдите, найдите другую —
Занята, видите, эта скамья!
Нет же, поближе садятся, вплотную:
Что я читаю? Не сыро ль в саду?
Мох этот, правда, как бархат, на камне?
К черту послать бы их! Да на беду
Вежливость в детстве была внушена мне..
«Дети в поезде топают по коридору…»
Чем повторять стихи про кобылицу
И вечный бой,
Разумней было б вспомнить про Фелицу:
Она милей, чем скачка и разбой.
Но русский стих устроен так надрывно…
Ум отодвинут в сторону опять.
Душа моя, как все-таки наивна
Ты, как тебя нетрудно раскачать!
Стой! Мне совсем не нравится раскачка!
Закат над степью мрачен и пунцов,
Из века в век то спячка, то горячка.
Фелица лучше! Хуже Пугачев!
В колодки взять разбойника и в цепи!
И стих зажать не то чтобы в тиски,
Но помешать ему податься в степи.
Не знал Державин лени и тоски!
Карандашом три птички над стихами
Когда-то я поставил: ночь темна,
Озарена кровавыми кострами…
А над «Фелицей» – скромная, одна.
Два стихотворения
Дети в поезде топают по коридору,
Или входят в чужие купе без разбору,
Или, с полки упав, слава богу, что с нижней,
Не проснувшись, полночи на коврике спят;
Плачут; просят купить абрикосы им, вишни;
Лижут скобы, крючки, все железки подряд;
Пятилетняя девочка в клетчатой юбке
Мне старалась понравиться, вся извелась,
Извиваясь, но дядя не шел на уступки,
Книгой от приставаний ее заслонясь,
А поддался бы, дрогнул – и всё: до Тамбова,
Где на дождь, наконец, выходила семья,
Должен был бы подмигивать снова и снова…
Там, в Тамбове, будь умницей, радость моя!
Дети в поезде хнычут, смеются, томятся,
Знать не знают, куда и зачем их везут;
Блики, отблески, пыльные протуберанцы,
Свет, и тень, и еловый в окне изумруд;
Но какой-нибудь мальчик не хнычет, не скачет,
Не елозит, не виснет на ручках, как все,
Только смотрит, к стеклу прижимая горячий
Лоб, на хо́ лмы и долы в их жаркой красе!
1. В отеле
В вестибюле прохладном отеля,
В вертикальных его зеркалах,
Шли, стояли, сновали, сидели
Незнакомцы на разных ролях
Европейцев, приехавших к морю,
Кто с любовницей, кто без нее,
Кто с женой и детьми, кто в задоре
И расчете налечь на питье,
Бильярдисты, любители спорта,
Преферанса, что, впрочем, старо,
И прислуга, и разного сорта
Групповоды, агенты бюро,
Снимок смазан, зато моментален:
Немцы, шведы – особая стать,
И, конечно, наш брат россиянин, —
Как его среди всех не узнать?
Неуверенность в каждом движенье,
Неулыбчивость, пасмурный вид,
Зависть, трусость, и хамство, и жженье
Настоящих и мнимых обид, —
Эй, не бойся, попавший впервые
В рассекреченный ихний эдем:
Кто дает, не скупясь, чаевые,
У того не бывает проблем!
Между тем в Вавилоне зеркальном
Я арабов еще не назвал
И в цивильном, и в национальном
Оформленье природных начал,
То есть царственной скуки и лени,
Общеюжной тоски вековой,
Лесбиянок: одна на колене
У присевшей на кресло другой,
А еще полицейских, швейцаров,
Молодых, в униформе, портье
И кого-то в больших шароварах,
Ослепительных по красоте;
И когда у цветной оттоманки
Я увидел тебя – не узнал:
Никогда бы к такой англичанке
Подойти не рискнул, сплоховал,
А себя я и вовсе не сразу
Обнаружил, – вот этот, увы,
Рядом с ней, мрачноватый, гримасу
Скорчив, ниже на полголовы.
2. В номере
"До свиданья, Кавказ…''
По-моему, это Курбе.
Расплавлено море, белёсо.
Баркас волокут на себе
Из моря четыре матроса.
А может быть, наоборот,
Хотят его с берега в море
Стащить? Золотой эпизод
В слепящем арабском декоре.
Курбе или кто-то другой?
К кому мою радость примерю?
Когда из Египта домой
Вернемся, я это проверю.
В чалмах, и понятно, что сплин
Оставлен на родине ими.
Все в белом – сказал бы Кузмин,
Зубами сверкнув золотыми.
Я пятым бы к ним не пошел,
Хоть манит их лодка, их шлюпка:
Мне, видишь ли, нужен подол,
Твоя полинявшая юбка.
Но с нами они заодно
В мерцанье песка и суглинка,
И на море смотрит в окно
Из номера эта картинка.
«Старость тем хороша…»
До свиданья, Кавказ, мы тебя любили
Больше, чем Кострому или Вятку, в гору
Поднималась арба в туче белой пыли,
И живому поэту погибший фору
В восемь лет баснословных давал, – в рогожу,
Очевидно, завернут, или холстину? —
«В Эриване чума». – «В Ахалцике тоже».
Мертвый в гору, а всадник, смутясь, в долину.
И когда мне бывает тоскливо, с полки
Не бутылку шампанского, (нет бутылки),
Не «Женитьбу» беру «Фигаро», а долгий
Этот путь вспоминаю и полдень пылкий,
Пост казачий, раскинутые палатки,
Горы, словно их плавили и гранили,
Горький дым, запах смерти и воздух сладкий,
И столичный журнал, где его бранили.
Дрозд
Старость тем хороша, что не надо ходить к гадалке:
Жизни мало осталось, и эти остатки жалки,
А насчет белой лошади, белых мужчин, голов —
Я не знаю, как нам относиться к мадам Кирхгоф.
Нагадала-таки эта немка в слепом усердье
Смерть ему в тридцать семь: если же не случится смерти,
Проживешь еще долго, – был выбор, был выход, был!
Да не вынес, не выдержал, – жаркая кровь – вспылил!
Что-то есть, друг Горацио, что мудрецам не ясно.
Жизнь ужасна, прекрасна, а смерть небесам причастна
И просматривается гадалкой в окрестной мгле.
Небеса что-то знают заранее о земле.
Что-то знают. Как пламенный полог, горят над нею,
Опекают свою задачу, следят затею,
Снисходительны к немке, смешной проводнице зла,
Ей подбрасывая крошки со своего стола.
Мне смириться с такой постановкой вопроса трудно.
Жить воистину страшно, печально на свете, чудно,
Гаснут зимние звезды, и в девять часов утра
Суеверье томит – веры сумрачная сестра.
Там едут в геную…
Дрозд – это не только английская птица,
Которую так полюбили поэты,
Живущие там, где туман сребролицый
Ложится на вереск, и виден в просветы
Кусочек площадки для гольфа, и парус,
Как перышко воткнутый в волны, белеет, —
Дрозд – это и наше смиренье, и старость,
И радость, вот только он петь не умеет.
Дрозд – это и наше везенье, и горе,
Находка для мрачно блестящего взгляда,
Вот только ни замка не видно, ни моря,
И он безголосый, такая досада,
Коричнево-пасмурный чаще, чем черный,
И все-таки родину я не покину,
Да, без музыкального слуха, и вздорный,
И так черноплодную любит рябину.
«Что-то более важное в жизни…»
Там едут в Геную, допустим, из Парижа,
допустим, в случае любовной катастрофы,
бредут куда глаза глядят: когда обижен,
чужие улицы милей своих; готовы
чужие лестницы тебе помочь, аркады,
да, да, те самые, сплошные галереи,
сырые, сводчатые (здесь мы вспомнить рады
Гостиный двор у нас, а кто рискнул затеи
к нам итальянские перенести, – не знаю),
итак, под сводами и мимо стен зубчатых
бредут (кремлевские зубцы идут по краю,
такие ж парные), бредут без провожатых
и указателей, воображая сцену
ее свидания с другим, – колись, булавка
жестокой ревности, – плечу ее, колену
чужая нравится рука, – ты дрянь, мерзавка,
есть слово точное, он вспомнил: потаскуха!
Зачем он в Генуе? Ему противна башня
такая ж древняя, как встречная старуха, —
чему тут нравиться? Что это, слабость, шашня,
любовь, распущенность? И чем нежней залива
черта, тем тягостнее любоваться этим,
и плачет нехотя, стыдясь, самолюбиво.
(Когда у нас беда, мы никуда не едем.)
О, если б без слова…
Фет
В горах
Что-то более важное в жизни, чем разум…
Только слов не ищи, не подыскивай: слово
За слово – и, увидишь, сведется всё к фразам
И не тем, чем казалось, окажется снова.
И поэтому только родное дыханье,
И пронзительно-влажной весны дуновенье,
Как последнее счастье, туманят сознанье,
Да заведомо слабое стихотворенье
Доверявшего смутному чувству поэта,
Обманувшего структуралистов: без слова
Он сказаться сумел… Боже мой, только это
Мне еще интересно, и важно, и ново…
Сети
Вытряхнуть камешек из башмака
Ленишься: надо бы вытряхнуть, надо,
Ленишься, надо, – блестят облака,
Вьется тропинка в обход камнепада,
Радость, и бодрость, и зной, и прохлада,
И неудобство из-за пустяка.
Пчелы жужжат, угрожая виску
Потному; ставишь стопу неуклюже,
Пробуя с пятки поближе к носку
Переместить его, – нет, еще хуже!
Вот мы к дубовому вышли леску.
Хватит прихрамывать. Вытряхни, ну же!
Вытряхни камешек – с каменных стен
Требуют корни, с сыпучих откосов.
Господи, как далеко цикламен
В горы забрался и, шелковый, розов!
Сделаю им одолженье. С колен
Их, камнерезов, поднять, камнетесов
Мне бы хотелось, чтоб им предъявить
Замысел общий и эту свободу.
Вытряхну камешек я, так и быть,
Цепким на радость, ползучим в угоду,
Чтоб никогда этот миг не забыть
Им, подневольным, и мне, пешеходу.
«Гряда, которую с тех пор…»
Сети на берегу.
Взгляд от них отвести не могу.
На просушку поставлены серые, как паутина.
Ветер их надувает, частично лежат на боку.
В их ячейках чешуйки мерцают и треплется тина.
Не для рыб, не для птиц.
Что-то в них от расчерченных графиков есть и таблиц,
Театральное, странное что-то.
Мышеловку, наверное, вспомнил бы загнанный принц,
Замечтавшийся взгляд оторвав от гребного швертбота.
Преступленье на миг,
Неизвестно какое, почудится; солнечный блик
На песке отразится, отброшенный зыбью морскою.
Рюмку с полки не взять и нельзя дотянуться до книг:
Дом с балконом, где сняли мы комнату, скрыт за горою.
Постоять, помрачнеть,
Неуверенно руку просунуть в ячейку сырую.
Не зайти ли нам в сеть?
И оттуда на жизнь, обступившую нас, посмотреть,
Безнадежную жизнь, золотую, земную, родную…
Я согласна – вдвоем!
Говоришь: если хочешь, сейчас отогнем и зайдем,
Здесь как раз провисает – и лишних не надо усилий.
Отдадимся живьем,
В чешуе перемажемся, в соли, и в глине, и в иле.
И берешься за край
Остро пахнущей, сохнущей, дышащей смертью, провисшей.
Всё равно нет надежды на рай,
А на встречу – тем более. Сам предложил – так решай!
Даже лучше своей, чем, замешкавшись, волей Всевышней.
Гряда, которую с тех пор назвать летучей
Мы рады, в сумерках редеет ради нас,
Стихи запомнивших, и стать не смеет тучей.
Струится свет колючий
Звезд, мироздания расцветивших каркас.
Стихи воздействуют примерно той же силой
И то же значат для меня,
Что для молящегося «Господи, помилуй».
Огонь и есть огонь, и вряд ли за могилой
Отличен тот огонь от этого огня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































