Текст книги "Таврический сад: Избранное"
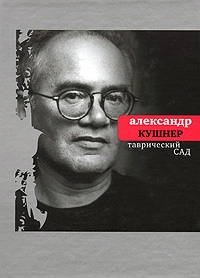
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Будем думать, что смерть – это подвиг такой в конце
Жизни, с мокрою простыней и посудиной под кроватью.
В Петербурге, Париже, Лондоне, Нижневартовске,
Череповце —
Всё равно, где отдаться этому горестному мероприятию.
Даже ближе в России, может быть, к идеальному образцу.
Съели всех ездовых собак, начиналась цинга, гангрена.
Ради этого рвались к полюсу и писали: «Прощай!» – отцу —
«Ты меня понимал всегда… как я счастлив… болит колено».
Что касается римских авторов, будем думать, что их не зря
Издавали для нас в таком твердокаменном переплете,
Книжный памятник воздвигая им, чтобы высились, говоря:
«Как желаете умереть?» А не: «Как хорошо живете!»
Я любил вас, пустые улицы, выбегающие к Неве,
В полуночном такси, с окошечком, вниз приспущенным
на два пальца.
Холодок забирался в волосы на лысеющей голове
Верхогляда, гуляки, бабника, европейца, неандертальца.
И еще одно замечание: так как подвигам место есть
В жизни, только оно всегда заставлялось не то диваном,
Не то шкафом, то хоть под занавес надо место
расчистить, честь
Как бы требует наша этого в отречении покаянном.
Неотразимый строй
Страшно жить, а не жить как раз
И не страшно. Счастливый сон —
Вечный, ровный, глубокий, нас
Устраняющий, – выйти вон
Из навязанных комнат, ниш,
Улиц, дружб, языка, дверей…
В детстве, помнится: «Всё проспишь, —
Говорили, – вставай скорей!»
Всё проспать! Беззаботней нет
Участи. Я проспал уже
Трою, дягилевский балет
И Олимпию в неглиже,
Выезд Ирода из дворца,
Выход Пушкина на крыльцо…
Что ж вздыхать, горевать, конца
Избегать, закрывать лицо?
Под шкафом, блюдечком, под ложечкой, под спудом,
Под небом Африки, под креслом, под судом,
Под страхом смерти злой, чудачествам, причудам
Не веря, под вечер, одной звездой ведом,
Под небом голубым страны своей, под гнетом
Обид, под насыпью, под бурею судеб,
Под длинной скатертью столов, под переплетом,
Под снегом, под руку, под шапкой снега – Феб,
Под зноем флорентийской, если помнишь, лени, —
Строка растянута – и сразу не узнать,
Тоска, друзья мои! Спасибо, куст сирени,
Под ней, персидскою, мы встретимся опять,
Под гневным лозунгом, любуясь под грозою
Уснувшим воином, под влажный шум листвы,
Под ветром, выяснив, что под его рукою
Не бьется сердце, – жаль, в ее стихах, увы,
Под солнцем вечности, творительным предлогом
Всё это вырастив вокруг и сотворив,
Под мраком, если бы я мог сказать: под Богом!
Так подбирается и сам ведет мотив.
Ты, душа, энтелехия, как говорил
Не Платон, а строптивый его ученик,
Ты устала, потратив так много чернил,
Столько строк сочинив, повлияв на язык
Поэтический, только! – в обиду не дав,
Как дитя, на растленье семье воровской,
Не покинув его, но держа за рукав,
Да не вырвется, не соблазнится тоской
Трехкопеечной, помня и в черные дни
О еще не разгаданном нами родстве,
Но счастливом, лишь руку во тьме протяни,
Со звездой в облаках и дыханьем в листве.
Тает, тает, в лучах выгорая,
За предел отступает земной
То, что бабочка может ночная
Рассказать по секрету дневной,
Захоти она вдруг, засыпая,
Выдать радужной нас, золотой.
Но бесхитростен день благосклонный
И разумен, как честный чертеж.
Кто ж поверит ей, серенькой, сонной:
Слишком правда похожа на ложь!
Блещут стекла, сверкают флаконы,
И занятья осмысленны сплошь.
Среди ярких таких декораций
Заподозрить ни в чем нас нельзя.
Что вы! Мало ли как улыбаться
Можно, в комнату чайник внося…
И сама бы могла догадаться —
Недогадлива! В золоте вся.
Я не ценю балет и не люблю парад,
Их крепостной сюжет, самодержавный лад.
Пусть ножка ножку бьет, под козырек берут, —
Подозреваю гнет и подневольный труд.
А я люблю, когда по комнате, мой друг,
Смеясь, балдой балда, ты закружишься вдруг.
И я люблю стихов неотразимый строй,
Что умереть готов, как полк, за нас с тобой.
Смог насчитать всего одиннадцать
Счастливых дней великий немец.
Как мы в сравненье с ним продвинулись
Вперед, какой же он младенец!
Восьмидесятилетний, с орденом,
Советник в мире самый тайный
Всего одиннадцать на пройденном
Пути отметил дней, – печальный
Итог и малоутешительный.
Иль требовательность такая,
Что нам не снилась? Вопросительный
Знак ставлю, точки избегая.
А море? А стихотворение?
А взгляд счастливый и блестящий?
Я б останавливал мгновение
Раз десять на день или чаще!
В двадцатом веке надо гибельном
Жить, смертоносном, массовидном,
Чтоб дело счастья было прибыльным
И чувство радости – завидным.
Сапоги твои стоят в прихожей,
Словно я живу с кавалеристом.
Здравствуй, день весенний, тонкокожий,
С влажным блеском, с талым аметистом.
На мальчишек женщины похожи,
И короткая идет им стрижка.
Все мы братья, сестры все мы тоже,
Пауза у нас и передышка.
Никого никто не будет мучить
Больше; вшиты солнечные клинья
В сумрак; ах, весною даже тучи
Не внушают мрака и унынья.
Я список кораблей прочел до середины…
Мандельштам
Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!
И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.
Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофер
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковер.
Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешел ручей.
Но сверх счетчика фунт я давал на чай —
И шофер говорил: «О’кей!»
Потому что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертия нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.
Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошел…
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочел?
Перебои смысла
Нечто вроде прустовского романа,
Только на языке другом и не в прозе,
А в стихах, – вот чем занят я был, Ориана,
Альбертина, Одетта, и на морозе,
А не в благословенном Комбре, Бальбеке,
Не в Париже, с сиренью его, бензином,
И хотя в том же самом железном веке,
Но железа прибавилось в нем, в интимном,
Но с поправкой на общие беды, плане,
То есть после Освенцима и на фоне
Стариков, засыпанных в Магадане
Снегом, звездами, тучами… «встали кони».
Нечто вроде прустовского романа
По количеству мыслей в одеждах ярких,
Только пил из граненого я стакана
Чаще, чем из бокала, и та, с кем в парке
На скамье целовался, носила платье
От советской портнихи по два-три года,
И готовились загодя мероприятия
Юбилейные, громкие, в честь Нимрода,
И не поощрялся любовный шепот,
Потому что ценился гражданский пафос,
Но я знал и тогда: это опыт, опыт,
А не просто ошибка и скверный ляпсус.
Т. Венцлове
«Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, —
Сказал приятель, – с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика…» Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, – и я притих, не скрою.
«Поверишь ли, вся Троя – с этот дворик,
Вся Троя – с эту детскую площадку…»
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
Нету сил у меня на листву эту мелкую,
Эту майскую, детскую, липкую, клейкую,
Умозрительно воспринимаю ее,
Соблазнившись укромной садовой скамейкою,
Подозрительный, и как бы сквозь забытье.
О бесчувственность! Сумрачная необщительность!
Мне мерещится в радости обременительность
И насильственность: я не просил зеленеть,
Расцветать, так сказать, заслоняя действительность,
Утешать, расставлять для меня эту сеть!
Это склочный старик с бородой клочковатою
Пел любую весну, даже семидесятую,
Упивался, как первой весной на земле,
Не считаясь в душе ни с какою затратою
И сочувствуя каждой пролетной пчеле.
Даже как-то обидно, что стерпится – слюбится:
Оплетет, обовьет, обезволит причудница
И еще подрастет, – и поверю опять,
Не смешно ли? что всё состоится и сбудется.
Что? – не знаю, и в точности трудно сказать.
В отчаянье или в беде, беде,
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.
Чтоб не увидели, я отводил глаза.
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса
Уже испытаны на хриплый крик безгласный.
Не отзываются. Но видишь давний след?
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?
Вожусь с тобой, самолюбивым…
Названья хочешь знать несчастий? Утаю
Их; куст клубится толстокожий.
Как там, у Пушкина: «всё на главу мою…»
Что всё? Не спрашивай: у всех одно и то же.
О, кто бы ни был ты, тебе уже не так
Мучительно и одиноко?
Пройдись по комнате иль на диван приляг.
Жизнь оправдается, нежна и синеока.
Чья-то нежность, и наша гримаса…
«Потерпи еще, – просят, – постой!»
Этот мир, как соринку из глаза,
Вынут нам с набежавшей слезой.
Лишь бы в этой слепой проволочке
Доверяли мы легкой руке, —
И покажут его на платочке,
На крахмальном его уголке!
Манекенщицы и манекенщики в светлых плащах,
Одинаково длинных, дорожных, все вместе и разом
Расходились, сходились, как будто почувствовав страх
Или новость узнав, – ум, казалось, заходит за разум.
Словно грозный какой-то объявлен указ или весть
Разнеслась, напугав их, о ком-то знакомом, лихая,
Или поезда ждали – и поезд опаздывал: шесть,
Шесть двенадцать, шесть двадцать, расчеты и планы сметая.
Неужели беда у изысканно-модных таких,
Элегантно-безгрешных случается тоже, нарядных,
В их хлопчатобумажных, ворсистых краях шерстяных
И велюрово-фетровых? Может быть, чья-нибудь в пятнах
Оказалась накидка? И мечутся: где ацетон?
И подстегивать музыке велено поиски эти.
Вьюга. Вечная женственность. Может быть, спальный вагон.
И мужского дендизма железнодорожные сети.
– Ну что за похороны – две всего гондолы! —
Сказал слуга-венецианец. Гулко
Слова его звучали в зале голой:
– Так, маленькая, жалкая прогулка,
Un piccolo passeggio… Ей-богу,
Ее, бедняжку, жаль мне. Poveretta! —
Другой он видеть скорбную дорогу
Хотел… Ну что сказать ему на это?
– Дурак! Спустись в тратторию и ужин
Мне принеси, проси – погорячее… —
Он думает, что похороны служат
К увеселенью близких… На плече я
В тот миг ночную бабочку заметил,
Вцепившуюся в ткань, она сидела
Так, словно свет свечи был слишком светел.
– Убавь его. Вот так, другое дело!
«Жизнь серьезна, серьезней, чем думаем мы, потому
Что кончается вечностью», – строгие эти слова
В дневнике императорской фрейлины вряд ли к уму
Обращались, но к сердцу, – и думать хотелось: права
Написавшая их – никаких доказательств, одно
Утвержденье… Да здравствует воздух Ливадии, зной,
Вист вечерний за столиком, сплетни, глядящий в окно
Кипарис, – если все они к мысли склоняют такой!
День расписан, и времени нет на себя, ритуал
И на отдыхе строг ежедневный, придворный, смягчен
Разве что летним платьем и скромной прогулкой у скал…
Тем значительней вывод, а если бы, пламенный, он
Исходил от священника, – вряд ли бы тронул меня,
Не задел бы ничуть: так по службе положено им
Говорить, то есть здесь мне как раз и не надо огня,
Нужно теплое чувство с его сожаленьем земным.
Мне, видевшему Гефсиманский сад,
Мне, гладившему ту листву рукою,
Мне, прятавшему в этой жизни взгляд
От истины, взирающей с тоскою
На нас, – за что такой подарок мне,
Евангельских стихов у Пастернака
Не любящему, как бы не вполне
Им верящему, как бы сделать шага
Не смеющему в направленье слез,
Струившихся в ту ночь, – иллюстративны
Все, все стихи на эту тему, – гроз
Ночных спонтанны вспышки и наивны!
Мне, видевшему в том саду цветы:
Тюльпаны, маки, розы, маргаритки,
Мне, может быть, ступавшему в следы
Те самые при входе у калитки,
Влекомому толпой туристской, – мне,
Про Мастера роман и Маргариту
Не ценящему: ведь о Сатане
Слишком легко писать, в его защиту
И к славе, упрощается сюжет,
Разбитый изначально на два плана, —
За что мне эта зелень, этот свет?
А ни за что! Как ты сказал: спонтанно?
О стихах разговор отдельный
Лишайничек серый, пушистый, на дачном заборе,
Такой бархатистый, – свидетелем будь в нашем споре.
Жизнь – чудо, по-моему, чудо. Нет, горечь и горе.
Да, горечь и горе, а вовсе не счастье и чудо.
На дачном заборе, слоистый, не знаю откуда.
Такой неказистый, пусть видит, какой ты зануда.
Какие лишенья на мненье твое повлияли,
Что вот утешенья не хочешь, – кружки и спирали
Под пальцами мелкие, пуговки, скобки, детали.
Всего лишь лишайничек, мягкою сыпью, и то лишь
Забывшись, руке потрепать его быстро позволишь,
И вымолишь вдруг то, о чем столько времени молишь.
Затем что и сверху, и снизу, и сбоку – Всевышний,
Поэтому дальний от нас, выясняется, – ближний,
Спешащий на помощь, как этот лишайничек лишний.
Я не прав, говоря, что стихи важнее
Биографии, что остается слово,
А не образ поэта; пример Орфея
Посрамляет мою правоту: сурово
С ним судьба обошлась – и его обида
Драгоценней, чем если бы две-три строчки
Из него выучивали для вида
Маменькины сынки, папенькины дочки.
Ни одной не дошло – и не надо! Висли
Сталактиты, как слезы, тоска, прохлада…
То есть, если ты хочешь остаться в мыслях
И сердцах, оглянись, выходя из ада,
Упади, уронив пистолет дуэльный
В снег иль сам застрелись, – пусть живут хористы.
А стихи… о стихах разговор отдельный,
Профессиональный и бескорыстный.
Тот вечер под эпиграфом «Последний
Из царскосельских лебедей», с афишей
Невзрачной, – впрочем, будь она заметней,
Народу б не прибавилось, – всех тише
Прошел, наполовину музыкальный,
В Аничковом дворце, – внимали дети
С учителями повести печальной
Об окружном инспекторе-поэте.
Что делать? Ашимбаева болела,
Уехал Кац, а Мец не смог приехать,
Ведущий извинялся то и дело
И спрашивал в большом смущенье: «Где хоть
Подольская?» – «Должно быть, за границей».
К упадку всё идет и разобщенью.
Но я пришел! я выступил! И мнится,
Расслышан был обиженною тенью.
Обиженной? Ничуть. Стихи, звучите,
И, детская, играй, фальшивя, скрипка!
И если нас и связывают нити,
То редкие. Какая ж тут ошибка?
Бывает так: стоит над морем туча,
Развившиеся распустив волокна,
Суха, в продольных молниях, колюча,
А кажется, она от слез намокла.
Человек узнает о себе, что маньяк он и вор.
Что в автографе гения он преднамеренно строчку
Исказил, – как он жить будет с этих, подумаешь, пор?
А никак! То есть так, как и прежде,
с грехом в одиночку.
Потому что в эпоху разомкнутых связей и скреп
Никому ничего объяснить не дано – и не надо.
Кислой правды назавтра черствеет подмоченный хлеб.
Если правду сказать, и строка та была сыровата.
И не трогал ее, а дотронулся только слегка.
Совершенного вида стесняется несовершенный.
Спи, не плачь. Ты старик. Ну, стихи, ну, строфа,
ну, строка.
Твой поступок – пустяк в равнодушной,
как старость, Вселенной.
Ай! Не слышат. Ой-ой! Ни одна не сойдет, не кричи,
С ненавистной орбиты ревущая зверем громада,
Серный газ волоча. О, возить бы на ней кирпичи,
Как на грузовике, что несется в пыли мимо сада.
– Ах, вы вот как, вы так? Обещая полнейшую тьму,
Беспросветную ночь, безразличную мглу, переплавку…
Он сказал бы, зачем это сделал, певцу одному,
Если б очную им вдруг устроили звездную ставку!
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! – звезды мне из мрака
Говорят, – вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона – клей и позолота, —
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка – это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта.
1
Зимней ласточкой с визгом железным
Семимильной походкой стальной
Он проносится небом беззвездным,
Как сказал бы поэт ледяной,
Но растаял одический холод,
И летит конькобежец, воспет
Кое-как, на десятки расколот
Положений, углов и примет.
2
Геометрии в полном объеме
Им прочитанный курс для зевак
Не уложится в маленьком томе,
Как бы мы ни старались, – никак!
Посмотри: вылезают колени
И выбрасывается рука,
Как ненужная вещь на арене
Золотого, как небо, катка.
3
Реже, реже ступай, конькобежец…
Век прошел – и чужую строку,
Как перчатку, под шорох и скрежет
Поднимаю на скользком бегу:
Вызов брошен – и должен же кто-то
Постоять за бесславный конец:
Вся набрякла от снега и пота
И, смотри, тяжела, как свинец.
4
Что касается чоканья с твердой
Голубою поверхностью льда, —
Это слово в стихах о проворной
Смерти нас впечатлило, туда,
Между прочим, – и это открытье
Веселит, – из чужого стиха
Забежав с конькобежною прытью:
Все в родстве-воровстве, нет греха!
5
Не споткнись! Если что и задержит,
То неловкость – и сам виноват.
Реже, реже ступай, конькобежец,
Твой размашистый почерк крылат,
Рифмы острые искрами брызжут,
Приглядимся к тебе и поймем
То, что ласточки в воздухе пишут
Или ветви рисуют на нем.
6
Не расстаться с тобой мне, – пари же,
Вековые бодая снега.
И живи он в Москве – не в Париже,
Жизнь тебе посвятил бы Дега,
Он своих балерин и лошадок
Променял бы, в тулупчик одет,
На стремительный этот припадок
Длинноногого бега от бед.
Там, где весна, весна, всегда весна, где склон
Покат, и ласков куст, и черных нет наветов,
Какую премию мне Аполлон
Присудит, вымышленный бог поэтов!
А ствол у тополя густой листвой оброс,
Весь, снизу доверху, – клубится, львиногривый.
За то, что ракурс свой я в этот мир принес
И не похожие ни на кого мотивы.
За то, что в век идей, гулявших по земле,
Как хищники во мраке,
Я скатерть белую прославил на столе
С узором призрачным, как водяные знаки.
Поэт для критиков что мальчик для битья.
Но не плясал под их я дудку.
За то, что этих строк в душе стесняюсь я,
И откажусь от них, и превращу их в шутку.
За то, что музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.
О. Чухонцеву
Мне приснилось, что все мы сидим за столом,
В полублеск облачась, в полумрак,
И накрыт он в саду, и бутыли с вином,
И цветы, и прохлада в обнимку с теплом,
И читает стихи Пастернак.
С выраженьем, по-детски, старательней, чем
Это принято, чуть захмелев,
И смеемся, и так это нравится всем,
Только Лермонтов: «Чур, – говорит, – без поэм!
Без поэм и вступления в Леф!»
А туда, где сидит Председатель, взглянуть…
Но, свалившись на стол с лепестка,
Жук пускается в долгий по скатерти путь…
Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь,
Кто-то бедного ловит жука.
И так хочется мне посмотреть хоть разок
На того, кто… Но тень всякий раз
Заслоняет его или чей-то висок,
И последняя ласточка наискосок
Пронеслась, чуть не врезавшись в нас…
Оно шумит перед скалой Левкада…
Баратынский
Что ни поэт – то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний,
Что поднимается на волнолом
Вал, как бы прятавшийся за соседний,
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.
Стой! Не бросайся с Левкадской скалы.
Взгляд задержи на какой-нибудь вещи:
Стулья есть гнутые, книги, столы,
Буря дохнет – и листочек трепещет,
Нашей ища на ветру похвалы.
Больше в присыпанной снегом стране
Нечего делать певцу с инструментом
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне
Сумрачном: будем с партнером, с агентом
Курс обсуждать, говорить о зерне.
Я не гожусь для железных забот.
Он не годится. Мы все не подходим.
То-то ни с места наш парусный флот
В век, обнаруживший смысл в пароходе:
Крым за полдня, закипев, обогнет.
На конференции по мировой
Лирике, к Темзе припавшей и Тибру,
Я, вспоминая огни над Невой
Парные, сопротивлялся верлибру.
О, со скалы не бросайся, постой!
Кроме живой, что змеится, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь – прочная связь:
«Я», – говорю на вопрос: «Кто последний?»
Друг, не печалься, за мной становясь.
Тысячелистник (1998)
I
Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем… быть камнем нельзя, лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,
Простоквашей спасавшийся, – не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.
Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры… Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов… Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унизившись до вранья…
Привилегия, да, и как всякая льгота, жжется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































