Текст книги "Таврический сад: Избранное"
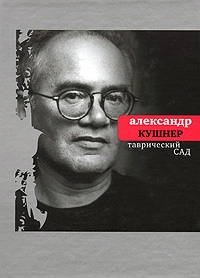
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Ты не права – тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, – ничто не в помощь ей.
Неутолимое страданье
В глазах и логика, тем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.
Постройка шаткая возведена тоской
И болью – высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всём, проси забыть, – так надо.
Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием – добиться
Прощенья можем мы. О, дщери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла б страница
Помочь волшебная, всё знающая, – жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековою.
Как писал Катулл, пропадает голос,
Отлетает слух, изменяет зренье
Рядом с той, чья речь и волшебный образ
Так и этак тешат нас в отдаленье.
Помню, помню томление это, склонность
Видеть всё в искаженном, слепящем свете.
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность.
Наш поэт даже книгу назвал так: «Сети».
Лет до тридцати пяти повторяем формы
Головастиков-греков и римлян-рыбок.
Помню, помню, из рук получаем корм мы,
Примеряем к себе беглый блеск улыбок.
Ненавидим и любим. Как это больно!
И прекрасных чудовищ в уме рисуем.
О, дожить до любви! Видеть всё. Невольно
Слышать всё, мешая речь с поцелуем.
«Звон и шум, – писал ты, – в ушах заглохших,
И затмились очи ночною тенью…»
О, дожить до любви! До великих новшеств!
Пищу слуху давать и работу – зренью.
Видов рая больше, чем вы думаете.
Забредя на теннисные корты,
Вы ни с чем, ни с чем его не спутаете:
Хлесткий звук и глаженые шорты.
И ползут, ползут по сетке проволочной
Краснощеких зрительниц гирлянды,
Чтобы вдруг врезался мячик войлочный
В их шипы и огненные банты.
Ах, умей и я играть, наверное,
Был бы жизнерадостней и гибче.
Или внес бы рвенье слишком нервное
В развлеченье это полуптичье?
Может быть, вся жизнь была ошибкою
И прожить бы мог ее иначе,
Посылая мячик кистью гибкою
В левый угол с бешеной подачи?
Как подвоха ждал бы, как разгадывал
Все удары, хищные приемы…
Вот куда ни разу не заглядывал
Флорентиец, за руку ведомый!
Стрижи-разбойники и ласточки-малютки
Весь день летают здесь.
На спинке пятнышко, нет, кажется, на грудке.
А стриж коричневый, кофейно-черный весь.
Я спал. Дневного сна страшны разоблаченья.
Проснешься – смята жизнь, как эта простыня.
Мне вдруг последние мученья
Сквозь жар привиделись, кто выручит меня?
Я, мне, меня, со мной… Неужто с вами тоже?
Привстал, пошатываясь, вышел на балкон:
Зной подозрительный, и воздух смуглокожий,
И мглистый небосклон.
Стрижам-разбойникам и ласточкам-малюткам,
Снующим здесь и там,
Их милым колкостям, их острокрылым шуткам
Спасибо, грудкам их, раздвоенным хвостам.
Спасибо девушкам, любившим нас, спасибо
Объятьям, с пятнышком родимым на спине,
Их смеху, ибо
Всё это сгинуло; и было как во сне.
За то еще люблю я черный кипарис,
За то еще люблю, за то еще, что, черный,
Он всех темнее здесь, и сверху смотрит вниз
Один повисший клок, безвольный, беспризорный.
Я черный кипарис за то еще люблю,
Что жесткие наверх зачесывает прядки,
Что вспомню про ларец и запах уловлю
Бессонных тех стихов, разбитых на тройчатки.
Бумажные листы в смолистой духоте.
С бессонницей всю жизнь бороться, задыхаться.
Что видит кипарис? Кораблик на воде,
Как пенится волна и гребни золотятся.
Нам вечность на земле при жизни суждена,
Как если бы в одну вместилось жизней десять.
Но как ни привыкай, когда-нибудь она
Кончается, себя дав ночи перевесить.
Я черный кипарис за то еще люблю,
Что, сделав из него скрипучие носилки,
Несут на них во тьме уснувших к кораблю,
И черная земля, как сон, горит в затылке.
Прощай! В другой стране таинственной очнись,
Где хвоя никогда сухой не будет, пыльной.
За то еще люблю я черный кипарис,
Что лучший обелиск он мертвым надмогильный.
Сколько веков пронеслось и еще после нас пронесется…
Римского автора я неизвестного вспомню в Крыму.
«Ежели в этом саду ты поставишь ведро из колодца
Наземь, то негде стоять будет тебе самому».
Ну что с того, что ноги ледяная касается дужка?
Важен зато и тенист широколистый инжир.
Я и в стране бы такой не скучал – хорошо, раскладушка
Прячется в тень, а с нее видно море, и горы… весь мир.
В юности нравится нам бесконечность пространств…
Замечаю,
Что, подрастая, душа к почвам возделанным льнет,
Труд начинает ценить, культиватор, прижатый к сараю,
Розу махровую, мысль и овец тонкорунных пород.
Тешат меня две строки позабытого автора… Страшно
Вспомнить, как низко цена падает вдруг на людей
Там, где не считан простор, где метель завывает протяжно…
Зарифмовать бы, обжить, ублажить эту глину скорей!
В стихах сверкает смысл…
Размашистый совхоз Темрюкского района,
Пшеничные поля да пыльный виноград.
Кто б думал, что найдут при вспашке Аполлона?
Кто жил здесь двадцать пять веков тому назад?
Надгробие – солдат в коринфском шлеме чудном,
Сначала тракторист решил, что это клад…
Азовская жара с отливом изумрудным,
Кто б думал, что и ты в волшебный встанешь ряд?
………………………………………………………………………
Однажды я сидел в гостях у старой тетки
Моей жены, пил чай из чашки голубой,
Старушечья слеза и слабый голос кроткий,
Но выяснилось вдруг из реплики сухой,
Что это про нее, про девочку в зеленом,
Представьте, кушаке написано в стихах
У Анненского… Как! Мы рядом с «Аполлоном»,
Вблизи шарманки той, от скрипки в двух шагах!
Та мысль, те образы, что отгоняем днем,
Приходят ночью к нам – и мы их узнаем
Переодетыми, в одеждах сна туманных,
По черной лестнице снуют, прокравшись в дом,
И Фрейда путают с Шекспиром, ищут в ванных,
В прихожих, скорчившись, – под шкафом, под столом.
Что нужно, тень, тебе? Но тень не говорит.
То дверцей хлопает, то к полке приникает
И в мыслях роется, храня невинный вид,
И сердце бедное, как ящик, выдвигает.
Весь, весь я выпотрошен. Утром головы
Нет сил поднять к лучу, разбитость и усталость.
Стихов не надо мне, ни утра, ни листвы!
Смерть – это, может быть, подавленность и вялость?
А вы надеетесь и после смерти, вы
Жить собираетесь и там… имейте жалость!
Увидеть то, чего не видел никогда, —
Креветок, например, на топком мелководье.
Ты, жизнь, полна чудес, как мелкая вода,
Жирны твои пески, густы твои угодья.
От гибких этих тел, похожих на письмо
Китайское, в шипах и прутиках, есть прок ли?
Не стоит унывать. Проходит всё само.
Креветка, странный знак, почти что иероглиф.
Какие-то усы, как удочки; клешни,
Как веточки; бог весть, что делать с этим хламом!
Не стоит унывать. Забудь, рукой махни.
И жизнь не придает значенья нашим драмам.
Ей, плещущейся, ей, текущей через край,
Так весело рачков качать на скользком ложе,
И мало ли что ты не веришь в вечный май:
Креветок до сих пор ведь ты не видел тоже!
Как цепкий Ци Байши с железной бородой
В ползучих завитках, как проволока грубой,
Стоять бы целый день над мелкою водой,
Готовой, как беда, совсем сойти на убыль.
О весна, не спеши, подожди,
Ведь еще не зачитан приказ
Императорский, значит, в пути
Он еще, не добрался до нас,
И глицинии, как зацвести
Ни хотят, а должны подождать,
Пусть придержат цветочки в горсти.
Где же свиток: столбцы и печать?
Вот когда мы получим его,
Вот тогда зацветет бальзамин.
Почему все мы ждем одного?
Потому что у нас он один!
Он расшитым махнет рукавом,
Благодатью повеет на нас, —
И поздравим себя с мотыльком,
Прихотливо ласкающим глаз.
Святой Иоахим, конечно, сладко спит,
В то время как к нему слетает ангел с вестью.
Весь день в моем окне рыдает дождь навзрыд,
Да как и не стенать, имея дело с жестью?
А козочки даны, овечки и цветы
Затем, чтоб мы с тобой не усомнились в чуде:
Ведь если видит скот, уже не станешь ты
Оспаривать всё то, чего не видят люди.
Еще бы! Надо жить в рассветные века,
Где если дождь идет, то теплый и нестрашный.
Как громко дождь стучит, угрюмей кулака,
Пронзительней ножа, визгливый, рукопашный!
В такие дни молчит настольный календарь,
И хочет быть листок скорее перекинут.
Где радуги привет, как в детстве было, встарь?
Сплошной железный дождь, как занавес, задвинут.
То жалуясь тебе, то требуя с тебя
Какой-то давний долг, за вечностью забытый.
А радуга не здесь, пленяя и слепя,
Дрожит, а там, где спит пастух, плащом накрытый…
Поехать железнодорожным, морским и воздушным путем,
Увидеть «Олимпию» в Лувре и «Краснобородку с угрем»,
Потом «Натюрморт» в Авиньоне и в Цюрихе – «Гавань в Бордо»,
А в Кливленде, в частном собранье, «Пионы» не видел никто!
Потом оказаться в Нью-Йорке, – истратить ему на билет
Не жаль подотчетную сумму – за черный и розовый цвет,
За даму в костюме эспады и охрой намеченный рот.
Как он обогнал наши взгляды на жизнь и добычу щедрот!
Он где-то на новой странице и чуть ли уже не в Нанси,
Чтоб к девушке розоволицей нежней присмотреться вблизи
Каких-то случайных цветочков, зовут ее Мери Лоран,
А в Лондоне розовой мочкой пленяет она англичан,
Истлела та беличья шубка, но вечно живет полотно.
Что гонит по белому свету? Да так, увлеченье одно.
Ведет в галереи причуда, заводит каприз во дворцы.
Достаточно знать, что кому-то доступны такие концы.
Он в ухо художнику дышит, за ним поспевая для нас,
Он жаркую книгу напишет про зорко прищуренный глаз,
Его дорогие скитанья, его золотые права —
Всей жизни его оправданье, и кругом идет голова!
Ад, – я жил в нем, я бедствовал в нем,
И обедал, и ужинал, черным
Пожираем незримым огнем,
Но поэзия огнеупорным
Оставалась занятьем, в огне
Говорила о счастье, вводила
В заблужденье, мирволила мне,
Ублажала и благоволила.
Цвел шиповник, соря на ветру
Раскрасневшимися углями.
Тот, кому только мрак по нутру,
Недоволен моими стихами Справедливо считая, что в них
Не хватает трагической коды.
Но не хочет, упорствуя, стих
От своей отказаться природы.
Он, как эти кусты во дворе
На ветру, обречен на цветенье,
Он готов и на смертном одре
Продолжать безоглядное пенье,
Там, внутри его, в тканях живых,
Там, в живительных соках и звуках,
Только радость в потемках густых,
Только счастье рождается в муках.
Ну, музыка, счастливая сестра
Поэзии, как сладкий дух сирени,
До сердца пробираешь, до нутра,
Сквозь сумерки и через все ступени.
Везде цветешь, на лучшем говоришь
Разнежившемся языке всемирном,
Любой пустырь тобой украшен, лишь
Пахнет из окон рокотом клавирным.
И мне в тени, и мне в беде моей,
Средь луж дворовых, непереводимой,
Не чающей добраться до зыбей
Иных и круч и лишь в земле любимой
Надеющейся обрести привет
Сочувственный и заслужить вниманье, —
Ты, музыка, и подаешь нет-нет
Живую мысль и новое дыханье.
На череп Моцарта, с газетной полосы
На нас смотревшего, мы с ужасом взглянули.
Зачем он выкопан? Глазницы и пазы
Зияют мрачные – во сне ли, наяву ли?
Как! В этой башенке, в шкатулке черепной,
В коробке треснувшей с неровными краями
Сверкала музыка с подсветкой неземной,
С восьмыми, яркими, как птичий свист, долями!
Мне человечество не полюбить, печаль,
Как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей.
Мне человечности, мне человека жаль!
Чела не выручить, обид не перечислить.
Марш – в яму с известью, в колымский мрак, в мешок,
В лед, «Свадьбу Фигаро» забыв и всю браваду.
О, приступ скромности, ее сплошной урок!
Всех лучших спрятали по третьему разряду.
Тсс… Где-то музыка играет… Где? В саду.
Где? В ссылке, может быть… Где? В комнате, в трактире,
На плечи детские свои взвалив беду,
И парки венские, и хвойный лес Сибири.
Грубый запах садовой крапивы.
Обожглись? Ничего. Терпеливы
Все мы в северном нашем краю.
Как султаны ее прихотливы!
Как колышутся в пешем строю!
Помню садик тенистый, лицейский,
Сладкий запах, как будто летейский,
Неужели крапива? Увы.
Острый, жгучий, горячий, злодейский,
Пыльный дух подзаборной травы.
Вот она, наша память и слава.
Не хотите ее? Вам – направо,
Нам – налево. Ползучий налет,
Непролазная боль и отрава.
Лавр, простите, у нас не растет.
Непреклонна, угрюма, пушиста.
Что там розы у ног лицеиста?
Принесли их – они и лежат…
Как труба за спиною флейтиста:
Гуще, жарче ее аромат.
Колоннада в снегу. Аполлон
В белой шапке, накрывшей венок,
Желтоватой синицей пленен
И сугробом, лежащим у ног.
Этот блеск, эта жесткая резь
От серебряной пыли в глазах!
Он продрог, в пятнах сырости весь,
В мелких трещинах, льдистых буграх.
Неподвижность застывших ветвей
И не снилась прилипшим к холмам,
Средь олив, у лазурных морей
Средиземным его двойникам.
Здесь, под сенью покинутых гнезд,
Где и снег словно гипс или мел,
Его самый продвинутый пост
И влиянья последний предел.
Здесь, на фоне огромной страны,
На затянутом льдом берегу
Замерзают, почти не слышны,
Стоны лиры и гаснут в снегу,
И как будто они ничему
Не послужат ни нынче, ни впредь,
Но, должно быть, и нам, и ему,
Чем больнее, тем сладостней петь.
В белых иглах мерцает душа,
В ее трещинах сумрак и лед.
Небожитель, морозом дыша,
Пальму первенства нам отдает,
Эта пальма, наверное, ель,
Обметенная инеем сплошь.
Это – мужество, это – метель,
Это – песня, одетая в дрожь.
Январь 1975
Луны затмение мы долго наблюдали:
Весь мрак земли, сгустясь, ложился на нее,
Все огорчения, несметные печали,
Все наши дикости, все сны, всё забытье.
На яснолицую – все наши предрассудки,
На тонкокожую – вся тяжесть, вся тоска,
Все наши выверты, сомнительные шутки
С вращеньем вымученным пальца у виска.
Луны затмение… Какой на недотроге
След отвратительный, багрово-черный дым!
Какие грязные мы вытираем ноги
О коврик желтенький с рисунком неземным!
Луны затмение… Вся в копоти и саже.
Затменье разума, затмение любви:
Никто не выйдет в ночь, не будет ждать на пляже
Средь лунных отсветов с волнением в крови.
Так вот что значит жить, так вот что значит к людям
Принадлежать, увы… прости мне этот стыд,
Теперь, как думаешь, быть может, чище будем,
Светлее, искренней?.. Опять луна блестит.
В стихах сверкает смысл, как будто перестрелка
В горах, – и нелегко нам уследить за ним.
Вот так еще, обняв ствол, радуется белка:
Она уже не там, куда еще глядим.
Неуловимый взгляд и яркий мех опрятный.
А сидя, чем она так странно занята?
Как будто инструмент какой-то непонятный
Всё время удержать старается у рта.
Ты к ней не подходи в своей широкой шубке.
Я вспомнить шкурки две в чужих стихах могу:
Две радости, два сна, две маленьких зарубки.
Мы третью проведем, чтоб нам не быть в долгу.
Я знаю, что сказать под занавес, шуршащий,
Сползающий в конце столетья, шелестя:
Нам все-таки связать с вчерашним настоящий
День рифмой удалось, по ельнику бродя.
Суровый выпал век, но белочка как дома
В нем чувствует себя: наверное, чутье
Подсказывает ей, что место перелома
Залечено, в когтях не флейта ль у нее?
Живая изгородь, ветвей переплетенье,
Ползи, клубись,
Как дым, скрывай от глаз волшебное виденье —
Чужую жизнь, цвети, выталкивая ввысь
Побеги новые, – мне этот бег на месте
Сумбурный нравится сырой, —
Живая изгородь, кто посадил все вместе
Кусты, тот жив хотя бы летнею порой,
Когда вот так шумят вертлявые листочки.
О нет, не умер он,
Живая изгородь, я встану на носочки,
Как ты, на цыпочки… туманный, чудный сон!
С каким смущением мы каждый раз заходим
В чужие комнаты, нам мил чужой уют,
Живая изгородь… глядим, глаза отводим,
Быть может, веточку нам ветры в ней пригнут?
И вдруг увидим жизнь чужую:
Ребенка нянчат, гладят пса.
К стене клубящейся я подойду вплотную —
Густая, пенная, сплошная полоса.
И море вспомнится в шторм сильный, семибалльный.
Кипит и катится, лохматее руна,
С дремучей живостью печальной,
Живая изгородь, падучая волна.
Мы не купались в нем в те дни, лишь подходили
К нему с волнением в груди…
От зла, от ужаса, от распаленной пыли,
Живая изгородь, от горя защити!
Как будто высажены, выращены строки —
Такой у них надежный вид.
Сны перепутаны, слова неодиноки,
Ночь дышит, колется, на месте не стоит.
Сучки и прутики, цветы, в их бледном зеве
Дрожит холодный пот, —
Так в мирном шествии на мраморном рельефе
Бредет какой-нибудь забытый царский род,
Шипы, и ниточки, и клочья паутины…
Мы тоже движемся… мы так же зарастем…
Обиды, радости, морщины.
Живая изгородь, ты видишь: мы живем!
Девяностые
Ночная музыка (1991)
«Я, как помытчик при тишайшем…»«Это шведы, наверное, шведы…»
Я, как помытчик при тишайшем
Царе, курить не буду, пить,
А буду сокола всё дальше,
Всё выше в небо заводить:
О, как он бел и как он страшен!
Привязан, скажешь? Где же нить?
Смотри, смотри, мой царь, мой кроткий,
Да не заметят гнев и страсть,
Как сокол, крик издав короткий,
На цаплю в небе рад упасть.
Пускай глядят, задрав бородки,
Дай насладиться боем всласть.
Ты видишь мысль мою в работе.
Она находит свой предмет,
Как сокол белый на охоте:
Он тоже ритмом разогрет.
Мой друг, на этой верхней ноте
Прощай! Кто скажет: счастья нет?
«Слава – это солнце мертвых…»
Это шведы, наверное, шведы, французы в двадцатом
Жили благоустроенном веке, чуть-чуть горьковатом,
Романтических роз аромат променяв на бензин,
На ученый доклад, на безумье абстрактных картин,
Ничего, ничего не имеющих общего с домом
Сумасшедшим, ни с деревом, к доктору в гости влекомым,
Это финны, наверное, финны, швейцарцы в таком
Жили веке домашнем, и кофе у них с молоком.
Это венгры, наверное, венгры, голландцы, датчане…
А у нас царь Иван, царь Борис в темноте за плечами,
Словно хищники, в мягких гуляют сапожках, не спят.
Завтра, тушинский вор, состоится воздушный парад!
Полетит громозвучное, многомоторное имя
Над трибуной с боярами, краешком глаза за ними
Он следит, как им нравится этот фигурный полет…
Я родился в шестнадцатом веке, и дрожь меня бьет.
«От жизни той, ах, и от этой тоже…»
«Слава – это солнце мертвых».
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.
Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.
Фивы рядом с нами, Троя.
Непохож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.
Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил, любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.
Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман —
Нам он был как обещанье
Незакатных волн и стран.
Городские расстоянья,
Разбежавшиеся мысли…
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.
От жизни той, что бушевала здесь…
Тютчев
«Не так ли мы стихов не чувствуем порой…»
От жизни той, ах, и от этой тоже,
На разные шумящей голоса,
Пугающей, смущающей, по коже
Царапающей, жалящей, то строже,
То мягче говорящей, – полоса
Стеснительная выдалась такая,
Надолго ли? – от гула, что страна,
Трудясь, производить принуждена,
Ворочаясь в снегах и утопая, —
Поэзия останется одна!
И скажем прямо, это ль не удача?
Всех пережить могло бы что-нибудь
И менее заветное… Но плача
И трепеща, на свой переинача
Звучащий лад всю эту тьму и жуть,
Всех, всех речей, всей прозы, всех романов
Прочней под небом этим ледяным,
Всех роковых соблазнов и обманов,
Она одна – подруга тех курганов,
Двух-трех дубов, в стихах воспетых им.
«Как ночью берегом крутым…»
Не так ли мы стихов не чувствуем порой,
Как запаха цветов не чувствуем? Сознанье
Притуплено у нас полдневною жарой,
Заботами… Мы спим… В нас дремлет обонянье…
Мы бодрствуем… Увы, оно заслонено
То спешкой деловой, то новостью, то зреньем.
Нам прозу подавай: всё просто в ней, умно,
Лишь скована душа каким-то сожаленьем.
Но вдруг… как будто в сад распахнуто окно, —
А это Бог вошел к нам со стихотвореньем!
Ночная музыка
Как ночью берегом крутым
Ступая робко каменистым.
Шаг, еще шаг… За кем? За ним.
За спотыкающимся смыслом.
Густая ночь и лунный дым.
Как за слепым контрабандистом.
Стихи не пишутся – идут,
Раскинув руки, над обрывом,
И камешек то там, то тут
Несется с шорохом счастливым
Вниз: не пугайся! Темный труд
Оправдан будничным мотивом.
Я не отдам тебя, печаль,
Тебя, судьба, тебя, обида,
Я тоже вслушиваюсь в даль,
Товар – в узле, всё шито-крыто.
Я тоже чернь, я тоже шваль,
Мне ночь – подмога и защита.
Не стал бы жить в чужой стране
Не потому, что жить в ней странно,
А потому, что снится мне
Сюжет из старого романа:
Прогулка в лодке при луне,
Улыбка, полная обмана.
Где жизнь? Прокралась, не догнать.
Забудет нас, расставшись с нами.
Не плачь, как мальчик. Ей под стать
Пространство с черными волнами.
С земли не станем поднимать
Монетку, помнишь, как в Тамани?
Ночная музыка сама себе играет,
Сама любуется собой.
Где чуткий слушатель? Он спит. Он засыпает.
Он ищет музыку руками, как слепой.
Ночная музыка резвится, как наяда
В ручье мерцающем, не видима никем.
Ночная музыка, не надо!
Не долетай до нас, забудь о нас совсем.
Мы двери заперли и окна затворили.
Жить осмотрительно, без счастья и страстей —
О, чем не заповедь! Ты где, в автомобиле?
На кухне у чужих людей?
Но те, кто слушают, скорей всего не слышат.
Я знаю, как это бывает: кофе пьют,
Узор, что музыкою вышит,
Не отличим для них от нитей всех и пут.
И только тот, кто ловит звуки
За десять стен от них и множество дверей,
Тот задыхается от счастья, полный муки:
Он диких в комнату впустил к себе зверей.
Любовь на кресло
С размаха прыгает, и Радость – на кровать,
И Гнев – на тумбочку, – всё ожило, воскресло,
Очнулось, вспомнилось, прихлынуло опять.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































