Текст книги "Таврический сад: Избранное"
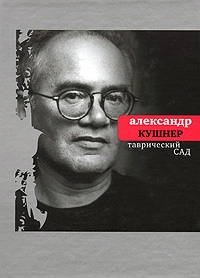
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
За старым столиком… слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком… почти развоплощенье…
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.
В саду за столиком… А дело в том, что слишком
Душа привязчива… и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.
В объятьях августа, увы, на склоне лета
В тени так холодно, на солнце так тепло!
Как в узел, стянуты два разных края света:
Обдало холодом и зноем обожгло.
Весь день колышутся еловые макушки.
Нам лень завещана, не только вечный труд.
Я счастлив, Дельвиг, был, я спал на раскладушке
Средь века хвойного и темнокрылых смут,
Как будто по двору меня на ней таскали:
То я на солнце был, то я лежал в тени,
С сухими иглами на жестком одеяле.
То ели хмурились, то снились наши дни.
Казалось вызовом, казалось то лежанье
Безмерной смелостью, и ветер низовой
Как бы подхватывал дремотное дыханье,
К нему примешивая вздох тяжелый свой.
В лазурные глядятся озера́…
Тютчев
В лазурные глядятся озера́
Швейцарские вершины, – ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На хо́лмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгну́ ть, так словно шевели́тся.
Пока еще язык не затвердел,
В нем ре́звятся, уча пенью' и вздохам.
Резе́ да и жасмин… Я б не хотел
Исправить всё, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачко́,
Из племени духо́в, – ее смутивший
Рассеется призра́к, – и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей.
Двум поэтам в комнате одной
Трудно находиться,
Потому что музы за спиной
Ссорятся, мечтая помириться.
Остроумен этот, тот – угрюм,
И не клеится беседа.
А союз сердец и общность дум —
Вымысел литературоведа.
Как две птицы, пойманные в сеть, —
Ласточка и чайка.
Им на снимке порознь бы сидеть,
Да свела в гостях судьба-хозяйка.
Пестрый галстук, вязаная шаль.
Не склонить свой слух к чужому слову.
Только веку, может быть, не жаль
Их обоих, птицелову.
И элизиум, увы,
Не прельщает их: какая скука
Там, в тени невянущей листвы,
Парами гулять, читать друг друга.
Голубой оправдывают фон,
Ни дымка табачного, ни хмеля,
Только Аристотель и Платон
В станцах Рафаэля.
В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то всё дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.
Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Всё благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.
За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы я честно: не знаю, – да мне доверяют, увы.
Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд —
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.
Живая изгородь (1988)
Большие числа
Как любит памятники маленький народ!
Все скверы бронзою уставлены, гранитом.
Как благодарен он! Какую воздает
Он честь ботаникам своим незнаменитым,
Микробиологам, писателям, врачам!
Зато у нас в садах, под сенью их широкой,
Лишь ветры тешатся да звезды по ночам
Сверкают в прорезях с надеждой и тревогой.
И мне не кажется, что здесь была бы медь
Уместна громкая и цоколь глянцевитый.
Всем не воздать в веках и всех не разглядеть,
Сплошной не выказать заботы домовитой.
Что может, с фалдами, при медленной ходьбе
Чуть расходящимися, тень внушить, в металле?
Не ту ли тяжкую уверенность в себе,
С которой, может быть, мы б душу потеряли?
Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эсер, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Сопротивленье),
нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало…
1979
История не учит ничему,
Но, как сказал историк, – и ему
Не верить нет причины, – за незнанье
Истории наказывает нас.
Не учит, а наказывает. Глаз
Да глаз за нами нужен да вниманье.
Скорее воспитательница, чем
Учительница. Сколько страшных тем
В учебниках ее, в ее анналах…
Но мы, известно, тоже хороши.
«Хоть кол на голове у нас теши» —
Вот присказка учительниц усталых.
Подумай. Сядь. Не ерзай. Запиши.
Как двоечник, о трех мечтаем баллах.
Как дома хорошо, – вернувшись из больницы,
Где друга навещал иль сам лежал с тоской
На пару, ощутишь по-новому; так птицы,
Наверное, к черте летят береговой.
Иначе надо жить, счастливей, энергичней,
Пронзительней в сто крат, опасней, горячей,
Привычный видеть мир в подсветке пограничной
И трепетных тенях больничных тех ночей, —
Какой на всем лежит волшебный отблеск медный!
В опавшую листву завернуты ежи,
Многоразлучный мир древесный, многодетный.
Иначе надо жить, не знаю как, – скажи!
Летит на яркий свет мучительное слово,
Добытое в огне и горечи земной.
Жить надо… – в дневнике есть запись у Толстого, —
Как если б умирал ребенок за стеной.
Жить надо на краю… чего? Беды, обрыва,
Отчаянья, любви, всё время этот край
Держа перед собой, мучительно, пытливо,
Жить надо… не могу так жить, не принуждай!
К римской цифре двенадцать, пометив письмо декабрем,
Третью, лишнюю палочку я приписал по ошибке.
Что с ней делать теперь? Даже если ее зачеркнем —
Всё равно избежать нам чужой не удастся улыбки.
Вышло странное что-то. И жаль переписывать лист.
Жук какой-то теперь под арабским числом нарисован.
О, тринадцатый месяц! Ты, видимо, слишком лучист,
Слишком высвечен, влажен, должно быть, случайно дарован.
В навесных твоих рощах просторно, безлюдно, свежо.
Как аркадский ландшафт живописный, – за что мне такое?
Прибедниться – противно, и хвастаться – нехорошо!
Жук сидит под рукой; я бы выбрал, пожалуй, второе.
Кто получит письмо, что, однако, подумает он?
Что со временем мы не в ладу, что у нас покровитель
Наверху, что, должно быть, распахнута дверь на балкон —
И светлей, чем у всех, словно шнур у нас есть удлинитель.
Он письмо перечтет и подумает плохо о нас.
Обо всём написали, а самое главное – скрыли:
Блещет солнце в лицо, шелестит и топорщится вяз,
И несет ветерок шелковистое облако пыли.
Н. Крыщуку
Смотрю на девушек, на молодых людей,
Как на залетных птиц, как на кусты в цвету, —
Их беспричинный смех, клянусь, ума умней.
А вы хотите их пригнуть к добру, к труду.
Они склоняются к добру, к труду, но так,
Как ветви клонятся; грядущих бед печать
Не заклеймила их, упруг их легкий шаг,
Зеленый смех упрям, – зачем же гнуть, ломать?
В метро заслушаюсь: «Смотрите, наш Витек
Уснул». – «Витек, очнись». – «Да он у нас сова».
«Хочу в дупло, – басит Витек, – а что, залег
И спишь…» – «С Ватениной?» – «Пусть сдаст зачет сперва».
Забыл, когда я был так весел, как они.
Я не завидую, но, видишь, весь в плодах
Стою, в коробочках, – лишь руки протяни —
И тяжесть опыта окажется в руках.
Им жутко, может быть, но в стайке им легко,
Дроздам и пеночкам, галдящим и во сне.
Как превосходство их над нами велико!
Пускай их учатся… всё ж их учить не мне.
А лучший довод в тексте, под рукой.
Когда бы мы внимательней читали!
Нас поощряет опыт стиховой
Любить с особой нежностью детали.
«Или́! Или́! лама́ савахвани́?»
Он Бога звал: «Зачем меня оставил?»
«Илью зовет», – не поняли они.
Евангелист, ты видишь, не лукавил,
Но записал всё точно, сердцем чист,
Хотя берег бумагу и чернила.
Подробность, что в ней? Он не беллетрист,
И сух, и разве слог его цветист?
Но значит, это было, было, было!
«Встань, и возьми постель, и в дом иди, и встал,
И взял свою постель, и в дом пошел…» Отрадно
Мне вспомнить южный Крым, как я под небом спал
На шатком топчане во дворике квадратном.
Полночная теплынь, и шорохи в саду,
И сладкий запах роз, подмешанный к дыханью
Морскому… Дождь пойдет – я встану и войду
С постелью в дом… О жизнь, ты жжешься, по преданью!
И снишься, и горчишь… И вырваться из рук
Всё так же норовит неловкая перина.
Мир скроен из забот и соткан из разлук,
Но есть в нем мягкий плед, и скользкая холстина,
И плоский камень тот, что тридцать лет назад
Под ножку топчана подкладывал я, – тоже
Есть, боже мой, смотри, на что ни бросишь взгляд —
Всё к жаркой тайне льнет и в мире чудо множит.
Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, – над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом,
И в море под звездой, тем более – в тени
Клинических палат с их бредом и бинтами.
И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, – ведь он менялся с нами.
Бог – это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас, и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И, может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, – не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.
Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиленье.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.
Трагедия легка: убьют или погубят —
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой.
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят,
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой,
Безвыходные сны, бесстыдные невзгоды,
Бессмертная латынь рецептов и микстур,
Придет грузотакси, разъезды и разводы,
Потупится сосед, остряк и балагур.
Гуляет во дворе старик с больным ребенком,
И жимолость им вслед пушистая шумит.
Что ж, лучше б алкашом он был или подонком?
Всех бед не перечесть, не высказать обид.
Есть ужасы, что нам, должно быть, и не снились.
Под шторку на окне просунутся лучи.
Ты спишь? Не за тебя ль в соседней расплатились
Квартире толчеей и криками в ночи?
Так бывает: еще не уснул
И на звук откликаешься чутко,
Но уже отпустил караул
Золотого ума и рассудка
И, сползая в целительный сон,
Растворяясь в затишье глубоком,
Словно страхом, внезапно пронзен
Судорогой, сильнее, чем током.
Словно кто-то ударил тебя.
Эта дрожь от макушки до пяток
Унизительна. Ангел, трубя,
Пролетел? Или лучше догадок
Не высказывать? Видел, как пес
Вздрагивает на тощей подстилке?
Рябь речная струится, берез
Содрогаются ветви и жилки.
Ты – оттуда, из темной семьи,
Из трепещущей, грубой, бессчетной,
Ненадежны потуги твои
Встать над массой их, влажной и потной:
Всё равно ты вернешься туда,
В их объятья и переплетенья,
И дрожит в черном небе звезда,
Тоже темного происхожденья.
Спать, как рыбы морские, во тьме,
Шевеля плавниками,
Ничего не держа на уме,
Ластясь сплющенными боками
К донным травам, а нету травы —
В пустоте, ни к чему не приникнув,
Спать, свои серебристые швы
Натянув, словно нить, или выгнув.
Спать, как рыбы морские, когда
Их, безропотных, сносит теченьем.
Спать, как будто густая вода
Желтоватым прошита свеченьем,
Спать, чтоб беды твои не в тебе
Размещались, а может быть, рядом.
Спать, доверившись темной судьбе.
Да никто не смутит тебя взглядом!
Да вздохнет с облегченьем и тот,
Кто нас держит в смятенье и страхе,
Словно пуговицу отстегнет
На своей домотканой рубахе.
Спать, как рыбы морские, уйдя
И от самой могучей опеки,
Плавниками чуть-чуть поводя,
Опустив розоватые веки.
Надгробие. Пирующий этруск.
Под локтем две тяжелые подушки,
Две плоские, как если бы моллюск
Из плотных створок выполз для просушки
И с чашею вина застыл в руке,
Задумавшись над жизнью, полуголый…
Что видит он, печальный, вдалеке:
Дом, детство, затененный дворик школы?
Иль смотрит он в грядущее, но там
Не видит нас, внимательных, – еще бы! —
Доступно человеческим глазам
Лишь прошлое, и всё же, крутолобый,
Он чувствует, что смотрят на него
Из будущего, и, отставив чашу,
Как звездный свет, соседа своего
Не слушая, вбирает жалость нашу.
Помню, в детстве на улицах было не много людей.
Никого не задев, по Большому пройти было можно,
Как на Крите, наверное, в пору микенских царей.
Жизнь с тех пор не узнать: многолюдна, густа, суматошна.
Я кажусь себе чуть ли не тем, кому друг – Менелай,
Кто едва ли не Федру запомнил в гостях или сквере.
А еще по проспекту ходил в эти годы трамвай, —
Как он в этом ущелье тогда помещался, в пещере?
Как же всё изменилось с тех пор, ничего не узнать!
А хотим, чтоб о нас говорили, чтоб знали нас, – дико
Это наше желанье, минувшей эпохе под стать
Малолюдной… Пестра безразмерная жизнь, многолика.
Многонога, быстра, никогда, никогда не была
Многоглазой такой, многорукой и многоголовой.
Поощренья просить у такого большого числа?
Быть любимым листком в этой тьме тополиной, кленовой?
На каком основанье? В клубящейся этой толпе
Быть отмеченным сверх общепринятой меры неловко.
Где младенческий век, о необщей мечтавший судьбе?
Оглянись: где тот сквер? где трамвайная та остановка?
А, здравствуйте… Да ничего. Живу.
А вы как?.. Замерзаете?.. Морозы
Проклятые… Как съездили в Москву?
Неплохо… Это что-нибудь из прозы?..
Нет, не читал… Наверное… А нам
Понравился Флоренский… «О природе».
В «Лит. Грузии»… Как вам сказать? Цветам,
Скорей, и горным рекам… Что-то вроде,
Но тоньше и умнее… Нет, Кавказ.
Батумские окрестности. Ребенку
Подмигивает бархатистый глаз
Фиалки, отводя его в сторонку
И дымчатый приподнимая край
Завесы… Очень пристально и густо…
Без мистики… Ну, разве невзначай.
Зато, как показалось, не без Пруста…
Я думаю, как раз тогда прочли…
У Белого и в прозе Пастернака…
Мы не были… Нет, просто не могли…
Не вышел? И не вспомнил? Вот собака!..
Не думаю… Не думаю… Не ду…
А вы ему напомните, как в Ялте
Захаживал… Вот именно… Зайду…
Вот именно… В апреле или в марте…
Надеемся… Вы тоже… Устает…
И дома и на службе… Разве слышно?
Десятая… Сейчас как раз начнет.
Труба, труба и флейта… Неподвижно,
Бесчувственно, как бы топчась, едва
Заметная… Как будто из-под палки…
Звоните нам… И мы… Как все слова.
Как все слова в сравненье с нею жалки!
Потом не спишь, перебирая
Всех, кого видел на собранье.
Бобров пришел, уселся с края,
Весь – возмущенье и вниманье.
– Докладчик правильно отметил…
– Как здесь сказал Арам Гурамыч… —
Билялетдинова в берете,
Спит в нем или снимает на ночь?
– Что секционная работа
Могла быть лучше, спора нету,
В ней не хватает нам чего-то,
Мы приготовили анкету…
Спи. Сколько можно в самом деле
Переворачивать подушку?
Боровикова пожалели,
А с Полякова сняли стружку.
– Нас беспокоит наша смена
И средний возраст коллектива… —
Отметит, как обыкновенно?
Скороговоркой, торопливо?
Неужто выделит из списка?
Скорей всего, по алфавиту…
Карманов, Копасов… уж близко…
Как нелегко глотать обиду!
А эта дура Бодрякова
С ее сочувствием горячим…
Горфункель… Где он это слово
Усвоил жуткое: тем паче?
Ну, невозможно!.. Неужели
Ты ни о чем другом не в силах
Подумать… Веки тяжелели —
Опять очнулись, чуть закрыл их.
А всё же тургеневский низкий диван либеральный,
На нем разговор полуночный, слегка завиральный,
Мне ближе, умеренный, чем фанатизм записной —
Напор радикальный,
И бред ретроградный или, того хуже, квасной.
«Конечно, конечно, напыщены немцы и грубы,
Мы предпочитаем дубленые наши тулупы,
Луи Бонапарт отвратителен, но подождем
Прощаться с Европой, ее паровозы и трубы
Дымят под дождем.
О, чем отпевать ее, нам бы набраться терпенья
И земству содействовать… Ох, соловьиное пенье…
Не справа, а слева… не в ельнике, а в бузине!
Ах, стихотворенье
Любого трактата милее и спора, по мне».
Ни с теми, ни с этими… И, потирая колено
Ладонью, твердит: «Постепенно, мой друг, постепенно…»
Он негениален – и значит, не трогает нас,
Хотя и глядит обаятельно, проникновенно.
А мы бы хотели – сейчас.
Во всей Европе плачут в эту ночь
О человеке, где-то на Востоке
Умершем так давно… что ни помочь,
Ни защитить… о мертвом плачут Боге,
Который видит плачущих о нем
С ночных небес… И, смерть его оплакав,
Жалеют всех, скорбят о всех – в одном,
Пред смертью каждый наг и одинаков.
И снег с дождем стекает в эту ночь
Со статуи апостола на паперть.
Но мысль о знойной мгле не превозмочь:
В двухтысячный раз будут скоро плакать.
А на Востоке зимний жар таков,
Что от жары лицо в ладони прячут.
Не выжать слез из жалких облаков,
Ни капельки… когда в Европе плачут.
Во всей Европе плачут в эту ночь.
Сугроб окрашен фарами машины
В багровый цвет… Прощай, мы едем прочь,
Сквозь шелк дождя и снежные гардины.
Уборист дождь, и снег тяжеловат.
И больше всех томится и жалеет
Тот, кто сейчас заплакать был бы рад,
Что он со всеми плакать не умеет.
Есть два чуда, мой друг:
Это нравственный стержень и звездное небо, по Канту.
Средь смертей и разлук
Мы проносим в стихи неприметно их, как контрабанду,
Под шумок, подавляя испуг.
Не обида – вина
Жжет, в сравнении с ней хороша и желанна обида.
Набегает волна,
Крабы, камни, медузы – ее торопливая свита.
На кого так похожа она?
Пролетает, пища,
В небе ласточка, крик ее жалобный память взъерошит.
Тень беды и плаща
Вижу; снова никак застегнуть его кто-то не может,
Трепеща и застежку ища.
Кто построил шатер
Этот звездный и сердце отчаяньем нам разрывает?
Ночь – не видит никто наш позор.
Говорун и позер
Сам себе ужасается: совесть его умиляет.
Иглокожая дрожь.
Нет прощенья и нет пониманья.
Но, расплакавшись, легче уснешь.
Кто нам жалость внушил, тот и вызвездил мрак мирозданья,
Раззолоченный сплошь.
Жаркий опыт
Он, о себе говоривший, что крупного плана
Видеть не может без слез на экране, – шутя
Это сказал, – всё равно, даже хвостик барана
Маленький, толстый, тем более – струи дождя,
В фильме как будто бегущие вскачь, и малина,
Белые, острые, цепкие листья ее,
Взгляд человеческий, женское платье, овчина
Желтая, жесткая, жаркая, просто тряпье
Или репейник, тем более – цепкая дверца
Автомобильная, кто обращается с ней
Так осмотрительно? – щелкнула – екнуло сердце, —
К псковскому поезду! – потные лица детей,
Он, замороченный лефовскими остряками,
С ними не спевшийся, хоть и пристегнутый к ним, —
Как на экране глаза голубеют белками!
Нет, кроме шуток, и Бог, если есть, – нелюдим,
Полка вагонная, плащ, на крючок аккуратно
Кем-то повешенный, кажется, нет ничего
Будничней, господи, жилки венозные, пятна
Старческих рук, это счастье смертельно, громадно,
Весь он в слезах – и не надо смотреть на него!
Я знал, что не сухой, а нервной и чуть влажной
Окажется рука, когда протянешь мне.
Неровный разговор, стремительный. Неважно
О чем. Мы в первый раз с тобой наедине.
О жизни. Чтобы так любить ее, бояться,
Так вспыхивать, когда о море говорят,
О Крыме, о весне, так в людях разбираться,
Сквозь рай какой пройти пришлось тебе и ад!
А в призрачных стихах про ласточку слепую
Беспамятство, как тень, бредет в стране теней,
И слово вновь в строку вернуться стиховую
Мечтает… нежный смысл – ему награда в ней.
Я тоже их люблю едва ли не сильнее,
Чем все другие… Мысль в стихе растворена,
Как сахар. Пили чай. Не юность всех нежнее,
А зрелость горяча, и опытность нежна!
И разве этот блик не знак, не обещанье?
Он свой парчовый клин в простую скатерть вшил.
И, руку протянув в прихожей на прощанье,
Ты знала: и простясь, расстаться нету сил.
Вторая жизнь моя лет в сорок началась.
Была дарована мне ласковая встреча.
Так вот чего я ждал, так вот что я, томясь,
Всю жизнь в виду имел, весенним дням переча,
Изнемогая в их дыханье: чем влажней
Оно и сладостней, тем нестерпимей мука.
Так вот подтаявший о чем мне меж корней
Снежок докладывал, о чем мне пела скука.
Так вот что льдистые хотели мне бруски
Сказать, по желобу скатившись жестяному!
Что я когда-нибудь избавлюсь от тоски,
Что друга встречу я, что смутную истому
На новый взгляд сменю и полнокровный стих.
И благодетелю на станции почтовой
Слов не найти таких… А ты, ты знала их;
В тот миг, обняв тебя, я вышел к жизни новой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































