Текст книги "Таврический сад: Избранное"
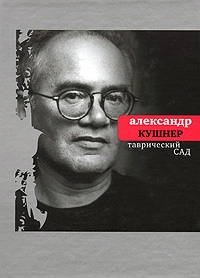
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Кустарник (2002)
Прощание с векомА. Арьеву
Уходя, уходи, – это веку
Было сказано, как человеку:
Слишком сумрачен был и тяжел.
В нишу. В справочник. В библиотеку.
Потоптался чуть-чуть – и ушел.
Мы расстались спокойно и сухо.
Так, как будто ни слуха ни духа
От него нам не надо: зачем?
Ожила прошлогодняя муха
И летает, довольная всем.
Девятнадцатый был благосклонным
К кабинетным мечтам полусонным
И менял, как перчатки, мечты.
Восемнадцатый был просвещенным,
Верил в разум хотя бы, а ты?
Посмотри на себя, на плохого,
Коммуниста, фашиста сплошного,
В лучшем случае – авангардист.
Разве мама любила такого?
Прошлогодний коричневый лист.
Всё же мне его жаль, с его шагом
Твердокаменным, светом и мраком.
Разве я в нем не жил, не любил?
Разве он не явился под знаком
Огнедышащих версий и сил?
С Шостаковичем и Пастернаком
И припухлостью братских могил…
Я пришел с портфелем и сел в фойе,
На банкетке пристроился – и молчок:
Сладко к струнной прислушиваться струе,
Из-под двери текущей, как сквознячок.
Но служительница, недовольна мной,
Подлетела ко мне, как осенний лист:
Почему я уселся здесь, как больной,
На коленях портфель, вдруг я террорист?
Пригрозила охранником сгоряча,
Пригляделась: при галстуке я, в очках.
Уж не нужно ли вызвать сюда врача?
Страх и строгость светились в ее зрачках.
Мир особенно грустен на склоне дня:
Отмирает обида, сникает честь.
Ах, напрасно боится она меня,
Я как раз бы оставил в нем всё как есть.
Раньше так я не думал: «…и вечный бой!»
Но бездельники знают и старики,
Что всё лучшее в мире само собой
Происходит, стараниям вопреки.
Даже горе оставил бы, даже зло
Под расчисленным блеском ночных светил.
И к чему бы вмешательство привело?
Музыканта уж точно бы с толку сбил.
Посчастливилось плыть по Оке, Оке
На речном пароходе сквозь ночь, сквозь ночь,
И, представь себе, пели по всей реке
Соловьи, как в любимых стихах точь-в-точь.
Я не знал, что такое возможно, – мне
Представлялся фантазией до тех пор,
Поэтическим вымыслом, не вполне
Адекватным реальности, птичий хор.
До тех пор, но, наверное, с той поры,
Испытав потрясенье, поверил я,
Что иные, нездешние, есть миры,
Что иные, загробные, есть края.
И, сказать ли, еще из густых кустов
Ивняка, окаймлявших речной песок,
Долетали до слуха обрывки слов,
Женский смех, приглушенный мужской басок.
То есть голос мужской был, как мрак, басист,
И таинственней был женский смех, чем днем,
И, по здешнему счастью специалист,
Лучше ангелов я разбирался в нем.
А какой это был, я не помню, год,
И кого я в разлуке хотел забыть?
Назывался ли как-нибудь пароход,
«Композитором Скрябиным», может быть?
И на палубе, верно, была скамья,
И попутчики были, – не помню их,
Только путь этот странный от соловья
К соловью, и сверканье зарниц ночных!
Жил однажды я в рижской гостинице,
в ее номере угловом
и огромном, готовом прикинуться
чуть не площадью, но со столом
и кроватью; мерцала латиница
вывески за январским окном.
Не пойму, почему мне так хочется
рассказать, как трамвай огибал
с двух сторон этот номер, – волочится,
дребезжит, нарастает обвал!
От космического одиночества
я в гостинице той погибал.
Что-то мрачное, бесчеловечное
было в том, как, единственный гость,
шел трамвай тот из сумрака млечного —
трехвагонная, длинная злость.
Видишь, собственно, больше и нечего
рассказать мне, – железный, как гвоздь.
Ржавый гвоздь, да еще неумелою
искривленный дрожащей рукой,
не входил он в ту комнату белую —
объезжал ее вдоль, по кривой.
Я и сам не пойму, что я делаю
и кого соблазняю тоской?
А с другой стороны, для читателя
удовольствия большего нет,
чем скептический взгляд по касательной
на осмеянный мир, как предмет
подозрительный и нежелательный
и подсунутый нам, как пакет.
Жизнь бывает такой отвратительной,
что об этом умней промолчать.
И без нас есть большие любители
черной краской ее рисовать;
словно в детстве их чем-то обидели,
не любили отец их и мать.
И она-то им, точно, гостиницей
с диким номером тем угловым
представляется, – радость, любимица!
Надо ездить не в Ригу, а в Крым!
Лязг уляжется, ужас подвинется,
вспыхнут звезды над морем ночным.
В павильоне у моря был свет погашен
И на столиках ножками кверху стулья
Неприглядно висели. Был воздух влажен,
Было холодно, как в разоренном улье.
Бар затянут был занавесом железным.
Неужели в купальниках здесь сидели?
Тяга к пропастям в сердце, стремленье к безднам
Существуют, пожалуй, и в самом деле.
Символисты испортили эти вещи
Беспредметным стенаньем по трафарету,
Но осенние звезды во тьме трепещут,
Искупая громоздкую пошлость эту, —
Он вошел в павильон, поднял стул за спинку
И, поставив его на краю площадки,
Сел над морем, с полночною тьмой в обнимку,
Словно с кем-то, как в детстве, играя в прятки.
– Проигрался? – спросил его тихий голос.
Казино золотыми, как сноп, лучами
За спиной полыхало, звезда кололась.
– В переносном значенье? – Пожал плечами.
– Знаю, ты не игрок. Но перила, сходни,
Берег, лестницы – всё здесь ведет к обрыву…
– Лучше я тебя, голос, спрошу сегодня:
Смерть сулит нам какую-нибудь поживу?
И смутился, услышав: – Еще какую! —
Тень цеплялась за тень, среди их сплетений
Чайку он разглядел, а за ней – другую.
Там не будет обыденных отношений.
То есть там, если нам назначают встречи,
Эти встречи такую же дарят радость,
Как звучащая здесь в стихотворной речи
Окрыленность, – так можно сказать? Крылатость.
Подсела в вагоне. «Вы Кушнер?» – «Он самый».
«Мы с вами учились в одном институте».
Что общее я с пожилой этой дамой
Имею? (Как страшно меняются люди
Согласно с какой-то печальной программой,
Рассчитанной на проявленье их сути.)
Природная живость с ошибкой в расчете
На завоеванье сердец и удачи,
И, господи, сколько же школьной работе
Сил отдано женских и грядкам на даче!
«Я Аня Чуднова, теперь узнаете?»
«Конечно, Чуднова, а как же иначе!»
«Я сразу узнала вас. Вы-то, мужчины,
Меняетесь меньше, чем женщины» – «Разве?»
(Мне грустно. Я как-то не вижу причины
Для радости – в старости, скуке и язве.)
«А помните мостик? Ну, мостик! Ну, львиный!»
(Не помню, как будто я точно в маразме.)
«Не помните… Я бы вам всё разрешила,
Да вы не решились. Такая минута…»
И что-то прелестное в ней проступило,
И даже повеяло чем-то оттуда…
В Антропшине вышла… О, что это было?
Какое тоскливое, жалкое чудо.
Дослушайте!
Ведь если с наволочки отутюженной,
слезой прожженной (снился страшный сон),
я, звезды, к вам тянусь, – быть может, это нужно
хотя б одной из вас, пронзившей небосклон!
Вы гаснете,
поблекшие, выходите из зала,
невежливые! – я ж еще не все
сказал слова: не я сказал – сказала
душа,
сверкнув и вымывшись в слезе.
Бывает так, что сердцу в тягость солнце,
и пусть бы не вставало вообще!
Я знаю, звезды, нет таких, кому легко живется.
Одна – в пальто,
Другая – в синем, кажется, плаще.
Одна другую спрашивает:
– Ну как тебе сегодняшняя драма?
Могла бы ты вдруг полюбить его?
– Не знаю. Про катарсис что-то мне рассказывала мама.
Ты что-нибудь почувствовала? Я – так ничего!
Всю жизнь писал для них, а защищают плохо.
Помочь ничем не могут
или не хотят?
А я-то, до последнего им верен в жизни вздоха,
искал глазами их
и выходил в шуршащий сад!
Вы, звезды, тоже трудитесь, в других мирах вы служите;
смотрите, сколько фантиков, бумажной шелухи
в буфете и под креслами…
И все-таки дослушайте
стихи!
Не слушают, бледнеют. Но одна, одна при выходе
замешкалась и смотрит на меня
задумчиво,
в слезах,
пускай из прихоти,
из жалости,
при ярком свете дня!
Поднимаясь вверх по теченью реки времен,
Ты увидишь Державина, как бы ни славил он
В своей оде предсмертной прожорливое теченье,
Ужасаясь ему, обрывая стихотворенье
И готовясь руиной стать, вроде террас, колонн.
Ты увидишь, как царства, короны плывут, венки,
Огибая воронки, цепляясь за топляки,
Ты увидишь цевницы, свирели, увидишь лиры
И щиты, на которых, спасаясь, сидят зверьки:
Зайцы, мыши-полевки, увидишь клочки порфиры.
Твердо, вверх по теченью, стремясь за земную грань,
Как Семенов-Тян-Шанский, взбиравшийся на Тянь-Шань,
Ты увидишь хоть Сарданапала, кого захочешь,
И кого не захочешь; души своей не порань,
Оцарапаешь руки, и ноги в ручье промочишь.
Ты запишешь смешки и ругательства солдатни,
Как своих полководцев честят почем зря они,
Ты подслушаешь чью-то молитву в священной роще.
А Гавриле Романовичу под шумок шепни,
Что мы любим его, из судьбы извлекая общей.
Есть галстук: служит мне лет тридцать, темно-синий.
Смелее был бы я, так черный бы завел.
Печальный компромисс. Горгон боюсь, эриний
Ввиду грядущих драм и безнадежных зол,
И в ящик каждый раз убрать его подальше,
Поглубже норовлю, чтоб он мне на глаза
Не попадался. Есть, есть что-то здесь от фальши
И слабости души: все видят небеса.
Да, раза два в году, а то и три, четыре —
Чем дольше я живу, тем чаще нужен мне
Он, жалкий, – страшно жить и скользко в этом мире.
Не надо объяснять, не правда ли, вполне
Понятно и без слов, что прочен старый узел,
Что, в петлю головой ныряя, как в хомут,
Иду туда, где рок всё к яме свел и сузил,
Туда, куда и все, потупившись, идут.
Да что ж бояться так загробной пустоты?
Кто жили – умерли, и чем же лучше ты?
Неразрешимая давно не жжет загадка,
И если спрашиваю что-то у звезды,
То не от пылкости, а только для порядка.
Тоска не мучает, ну разве что печаль,
И та от времени сносилась и поблёкла.
Хоть бы один фрагмент, хотя б одна деталь!
Толстой не высмотрел, не разглядел Паскаль.
А то, что поняли, то знала баба Фекла.
Он снимает здесь дачу, знакомы
Мы недавно. Приятный старик,
Тихий, смирный, не мечущий громы
В демократов, заведших в тупик
Нашу бедную, но дорогую,
Что недавно великой была.
Он заводит беседу другую,
Про житейские больше дела,
У него двое внуков и дети:
Сын в Москве и в Америке – дочь.
«Облепиха, – прочел он в газете, —
От давления может помочь».
Облака золотого оттенка
Громоздятся над нами, как Рим.
На зеленом углу Осипенко
И Урицкого мы говорим.
Здешних улиц остались названья
От двадцатых-тридцатых годов.
Ель шумит, переводит дыханье.
Хорошо бы и вовсе без слов
Обойтись. Постояли – и тихо
Разошлись: он к себе, я к себе.
И зачем мне его облепиха?
Мысли лучше идут при ходьбе.
Кто обыденность эту на плечи
Нам взвалил и земные дожди?..
Ты хотел бы осмысленной встречи
На нездешнем, волшебном пути?
Ты хотел бы пернатого шлема,
Как безумец один говорил?
Впрочем, это особая тема.
Ты хотел бы сверкающих крыл,
Ты вопроса хотел бы, ответа,
Как полуночный гром, на него?
Не мила тебе будничность эта
И загадочность, странность всего?
Я вспомню, улыбнусь, под тучей дымнобровой
Ведя велосипед средь рытвин и коряг,
Что Тютчев называл дубравой и дубровой
Под рифму – лес любой, быть может, березняк.
И вряд ли в лес зашел когда-нибудь он, что вы! —
На мох поставил свой сверкающий башмак.
Насколько ж чужд сырой он, топкой волоките,
При всей его любви к России, спору нет!
И в этом он поэт немецкий, как хотите,
Шеллингианец он, – не то, что, скажем, Фет.
Осинник, шелести, и вы, кусты, шумите
Сильней перед дождем, скрипи, велосипед.
Посмотри на кустарник,
Обнимающий склон.
Вот мой лучший напарник!
Я разросся, как он.
Не спросив разрешенья,
Избавляя пейзаж
От головокруженья,
Созерцатель и страж.
Последи за ветвями:
Неприметно для глаз
Разгорается пламя
В нем в полуденный час.
Есть на что опереться
Небесам на земле.
Он бы мог разгореться
У меня на столе.
Всё он помнит, всё видит.
С самой жаркой из книг,
Я не знаю, кто выйдет
Из него через миг.
Не спрашивай с Бога: Его в этом мире нет.
Небесное царство, небесный, нездешний свет!
Лишь отблески этого света даны земле.
Поэтому мир и лежит, в основном, во зле.
Поэтому зря окропляют святой водой
Стволы орудийные, детский гвардейский строй,
В приветствии дружно, по-птичьи раскрывший рты.
Большие сомненья по части святой воды.
Большие сомненья по поводу правых дел
И левых, лишь те, что нацелены за предел
Земной, а таких очень мало, имеют смысл.
В бинокль разглядеть так случается дальний мыс,
Облизанный солнцем, укутанный в пену сплошь.
А всё остальное – безумие или ложь,
И ты в полумраке, и я в темноте живу.
Лишь луч что-то значит, скользнувший по рукаву.
В декабре я приехал проведать дачу.
Никого. Тишина. Потоптался в доме.
Наши тени застал я с тоской в придачу
На диване, в какой-то глухой истоме.
Я сейчас заплачу.
Словно вечность в нездешнем нашел альбоме.
Эти двое избегли сентябрьской склоки
И октябрьской обиды, ноябрьской драмы;
Отменяются подлости и наскоки,
Господа веселеют, добреют дамы,
И дождя потоки
Не с таким озлоблением лижут рамы.
Дверь тихонько прикрыл, а входную запер
И спустился во двор, пламеневший ало:
Это зимний закат в дождевом накрапе
Обреченно стоял во дворе, устало.
Сел за столик дощатый в суконной шляпе,
Шляпу снял – и ворона меня узнала.
Помаши мне рукою, тень
Сегодня странно мы утешены:
Среди февральской тишины
Стволы древесные заснежены
С одной волшебной стороны.
С одной – все, все, без исключения.
Как будто в этой стороне
Чему-то придают значение,
Что нам понятно не вполне.
Но мы, влиянию подвержены,
Глядим, чуть-чуть удивлены,
Так хорошо они заснежены
С одной волшебной стороны.
Гадаем: с южной или западной?
Без солнца не определить.
День не морозный и не слякотный,
Во сне такой и должен быть.
Но мы не спим, – в полузабвении
По снежной улице идем
С тобой в волшебном направлении,
Как будто правда спим вдвоем.
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Но так, чтобы тебя не забывали дома,
И чтобы по твоим дымящимся следам
Тянулась чья-то мысль, как в старину солома,
И чтобы чей-то взгляд искал тебя вдали
И сердце чье-нибудь, как облако, летело,
Чтобы сказать тебе среди чужой земли
Всё, что сказать оно боялось и хотело.
Скитаться здесь и там по прихоти своей,
Но так, чтоб чья-то тень была с тобою рядом
И ты ей показать мог стаю кораблей,
Плывущих вдалеке, в бинокль, большим
форматом,
Иль, в каменный театр спустясь, где Ипполит
Бежал из дома прочь – и вдруг вздымались кони,
Присесть с ней на скамью, где ящерица спит,
И уточнить судьбу, читая по ладони.
Обратясь к романтической ветке,
Поэтической ветке родной,
Столько раз ради трезвости меткой
Из упрямства отвергнутой мной,
Я сказал бы им, братьям горячим,
Как мне пусто и холодно тут!
Я не лью свои слезы, я прячу.
Дайте плащ поносить! Не дадут.
– Надо вовремя было из комнат
На корабль трехмачтовый взбегать,
Незаметною ролью и скромной
Не пленяться, обид не глотать,
Надо было не чашку и блюдце
И не скатерть любить на столе,
Надо было уйти, отвернуться
От всего, что любил на земле.
– Дорогие мои, не судите
Так же быстро, как я вас судил,
Восхищаясь безумством отплытий,
Бегств и яркостью ваших чернил, —
Мне казалось, что мальчик в Сургуте
Или Вятке, где мглист небосвод,
Пусть он мной восхищаться не будет,
Повзрослеет – быть может, поймет.
– Надо было, высокого пыла
Не стесняясь, порвать эту сеть,
Выйти в ночь, где пылают светила,
Просиять в этой тьме и сгореть.
Ты же выбрал земные соцветья
И огонь белокрылый, дневной,
Так сиди ж, оставайся в ответе
За все слезы, весь ужас земной.
Поскольку я завел мобильный телефон, —
Не надо кабеля и проводов не надо, —
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,
Что был, не правда ли, горячий голос брата.
По музе, городу, пускай не по судьбам,
Зато по времени, по отношенью к слову.
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там,
Или не скучно там, и, отметя полову,
Точнее видят смысл, сочувствуют слезам.
Подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?
Тогда мне незачем стараться: ты и так
Всё знаешь в точности как есть, без искажений, —
И недруг вздорный мой смешон тебе – дурак
С его нескладицей примет и подозрений, —
И шепчешь издали мне: обмани, приляг,
Как я, на век, на два, на несколько мгновений.
Есть сад, ему снится, на острове в монастыре:
Над морем стоит монастырь на высокой горе,
А в этом саду – белостенное здание школы,
И слышно в открытые окна, как ученики
Уроки свои перед сном повторяют, глаголы
Латинские: детям даются легко языки.
И снится ему: если б он туда с детства попал,
Уж он бы на всех языках понимал и болтал,
Ведь вот на армянском беседует Кароль Войтыла,
И католикос с восхищеньем кивает ему.
Тут важно, чтоб море всю ночь кулаком колотило
В скалу, помогая и чтенью во сне, и письму.
Но не было в детстве ни сада, ни монастыря,
Ни моря – советская ярко пылала заря.
Все выучат русский: на нем разговаривал Ленин.
А главное, музе так нравится русская речь,
Все чудные тонкости этих спряжений, склонений,
И сколько еще из нее можно взять и извлечь!
Со скалы открывалась такая даль,
И утесник карабкался меж камней,
Изможденного, было его нам жаль:
Не хватало земли для его корней.
Но завидно упрямство его – смотри,
Что он видит отсюда перед собой:
От зари видит море и до зари,
Корабли видит, скалы, морской прибой.
Счастье – вот что он чувствует каждый миг,
Озирая распахнутый небосклон;
Этой прелести мира слепящий лик,
Непонятно, как выдержать может он.
Я хотел бы карабкаться на скалу,
Видеть призраки маленьких кораблей
И висеть, уцепившись за эту мглу,
Эту жизнь, как утесник. Уйдем скорей!
Алексею Машевскому
В двадцатом веке лишь отрыли, вслед за Троей,
Красноколонный Кносс – и странного покроя
Предстали платья нам на фресках и цветы.
Но был и Минотавр, а значит – паранойя,
Горящие глаза средь полной темноты.
Приятель привезти просил меня отсюда
Какой-нибудь пустяк, хоть камешек – и груда
Камней лежала здесь, и, мешкать не любя,
Два пыльных подобрал, – опасная причуда! —
Побольше – для него, поменьше – для себя.
Люди, кем-то замечено, делятся также на тех,
Кто кидается мяч, перепрыгнувший через ограду,
Игрокам перебросить за прутья, сквозь пихтовый мех,
Нетерпение их разделяя вполне и досаду,
И на тех, кто не станет за вещью бросаться чужой:
За перчаткой, упавшей из рук незнакомца, за шляпой…
Я не знаю, кто лучше, второй ли, с закрытой душой,
Погруженный в себя, или первый, готовый с растяпой
Разделить его промах: у первого, может быть, нет
Настоятельных мыслей, к себе приковавших вниманье,
Между тем как второй… Впрочем, кто его знает… На свет
Не рассмотришь ни ум, ни тоску, ни изъян в воспитанье.
По одному поводу
Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришел,
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да еще при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети
Да мельканье порывистых птиц.
А с другой стороны, неужели
Ни Овидий Его, ни Катулл
Не заметили б, не разглядели,
Если б Он к ним навстречу шагнул?
Не заметили б, не разглядели,
Не пошли, спотыкаясь, за Ним, —
Слишком громко им, может быть, пели
Музы, слава мешала, как дым.
С какой-нибудь самой нелепой
Фамилией новый поэт
Приходит, уж лучше б Мазепой
Он звался, чем Блок или Фет,
Но стерпится – слюбится… Музе
Не хочется баловать нас:
Она в своем праве и вкусе
Земной не расслышать заказ.
Она подбирает иначе
Созвучья, а может быть, ей
Решать непростые задачи
Отраднее и веселей, —
И вот никого, кроме Фета,
Представить уже не могу
На месте такого поэта
Ни в майскую ночь, ни в снегу.
Приглушенный, бесцветный, одной октавой
Обходящийся голос, всегда в миноре,
Ни за счастьем не рвущийся, ни за славой,
Вообще ни за чем, побеждает в споре,
Не приняв во вниманье ни блеск наружный
За окном, ни дубовую в зале мебель,
Потому что ему ничего не нужно
На земле, а прислушаться – и на небе,
Это самая верная установка,
И позиции выигрышнее нету.
И за голос свой делается неловко:
В интонацию он не влезает эту, —
Как же без вопросительной фразы строить
Речь, условное вычеркнуть наклоненье?
Так и вычеркнуть. Просят не беспокоить.
Смолкни, музыка. Стихни, стихотворенье.
«С свинцом в груди и жаждой мести»
Иль «с страстной женскою душой»…
Не верь, что звук дороже чести,
Важнее горечи земной,
Нет, есть такая боль, что звуки
Как бы немеют перед ней, —
Так трут виски, сжимают руки,
Огня пылают горячей.
Есть неуступчивая косность,
Неустранимая тоска…
Что перед нею виртуозность?
Кому нужна она? Строка
В бугры сбивается и складки,
Вся, как в запекшейся крови,
И не стыдятся, как в припадке,
Ни слабой рифмы, ни любви.
Дмитрию Притуле
Потому что больше никто не читает прозу,
Потому что наскучил вымысел: смысла нет
Представлять, как робеет герой, выбирая позу
Поскромней, потому что смущает его сюжет,
Потому что еще Толстой в дневнике заметил,
Что постыло писать, как такой-то придвинул стул
И присел. Потому что с компьютером дружат дети
И уныл за стеной телевизора мерный гул.
Потому что права тетя Люба: лишившись мужа
И томясь, говорила: к чему это чтенье ей,
Если всё это можно из жизни узнать не хуже.
Что? Спроси у нее. Одиночество, мрак ночей…
Потому что когда за окном завывает ветер…
Потому что по пальцам количество важных тем
Можно пересчитать… Потому что темно на свете.
А стихи вообще никому не нужны – зачем?
Потому что всего интереснее комментарий
К комментарию и примечания. Потому
Что при Ахеменидах, вы знаете, Ксеркс и Дарий —
Не читали, читали, – неважно – сошли во тьму,
Потому что так чудно под ветром вспухает штора
И в широкую щель пробивается звездный свет,
Потому что мы, кажется, сможем проверить скоро,
Рухнет мир без романов и вымысла или нет?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































