Текст книги "Таврический сад: Избранное"
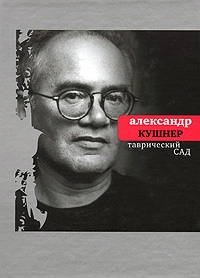
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Через сад с его кленами старыми,
Мимо жимолости и сирени
В одиночку идите и парами,
Дорогие, любимые тени.
Распушились листочки весенние,
Словно по Достоевскому, клейки.
Пусть один из вас сердцебиение
Переждет на садовой скамейке.
А другой, соблазнившись прохладою,
Пусть в аллею свернет боковую
И строку свою вспомнит крылатую
Про хмельную мечту молодую.
Отодвинуты беды и ужасы.
На виду у притихшей Вселенной
Перешагивайте через лужицы
С желтовато-коричневой пеной.
Знаю, знаю, куда вы торопитесь,
По какой заготовке домашней,
Соответственно списку и описи
Сладкопевца, глядящего с башни.
Мизантропы, провидцы, причудники,
Предсказавшие ночь мировую,
Увязался б за вами, да в спутники
Вам себя предложить не рискую.
Да и было бы странно донашивать
Баснословное ваше наследство
И печальные тайны выспрашивать,
Оттого что живу по соседству.
Да и сколько бы ни было кинуто
Жадных взоров в промчавшийся поезд,
То лишь ново, что в сторону сдвинуто
И живет, в новом веке по пояс.
Где богатства, где ваши сокровища?
Ни себя не жалея, ни близких,
Вы прекрасны, хоть вы и чудовища,
Преуспевшие в жертвах и риске.
Никаких полумер, осторожности,
Компромиссов и паллиативов!
Сочетанье противоположностей,
Прославленье безумств и порывов.
Вы пройдете – и вихрь поднимается —
Сор весенний, стручки и метелки.
Приотставшая тень озирается
На меня из-под шляпки и челки.
От Потемкинской прямо к Таврической
Через сад проходя, пробегая,
Увлекаете тягой лирической
И весной без конца и без края.
Новые стихи
«Боже, ты показываешь зиму…»«Афанасий, Евстафий, Зосима, Ефим, Феоктист…»
Боже, ты показываешь зиму
Мне, чехлы и валики ее,
Тишину, монашескую схиму,
Белый снег, смиренье, забытьё,
И, организуя эту встречу,
Проверяешь десять раз на дню:
Неужели так и не замечу,
Чудных свойств ее не оценю?
Оценю, но словно против воли,
Еще как! – желанью вопреки —
Все ее чуланы, антресоли,
Где лежат платки, пуховики,
Все сады, парадные палаты
И застенок заднего двора…
Есть безумье в этом сборе ваты,
Меха, пуха, птичьего пера.
Боже, ты считаешь: я утешен
Рыхлой этой грудой, тишиной.
Мы имеем дело с сумасшедшей!
Приглядись к ней пристальней со мной:
Сколько белых полочек и полок,
Всё взлетит, закружится, чуть тронь.
Я боюсь усердья богомолок
И таких неистовых тихонь.
«На вашей стороне – провидцев многословный…»
Афанасий, Евстафий, Зосима, Ефим, Феоктист —
Вот что нам предлагает семнадцатое января!
Я в окно посмотрел: снег роскошен, наряден, пушист,
Так же бел, как листок из настольного календаря.
С именами такими попробовал вспомнить родных
И знакомых – не вспомнил: воистину редки они
И не в моде, а сколько снежинок блестит кружевных, —
Золотые на солнце и с синим отливом в тени!
Подрастают сугробы, как белые сфинксы и львы,
Словно их из пустыни пригнали сюда на прокорм!
Фима, Сима, Афоня… Евстафию хуже, увы,
Феоктисту – для них не нашлось уменьшительных форм.
Афанасий – поэт, и художник, должно быть, Ефим,
А Зосима – отшельник, скорее всего, и монах.
Феоктисту с Евстафием только прислуживать им,
Разгребать этот снег остается да ездить в санях.
«Испугался: неужто и город…»
На вашей стороне – провидцев многословный
Рассказ, и мудрецы – на вашей стороне,
И Бог, и весь обряд ликующий, церковный,
И в облаке – святой, и мученик – в огне,
И вечная весна, и станцы Рафаэля,
И, физику предав забвению, Паскаль,
Страстная и еще Пасхальная неделя
На вашей стороне, органная педаль
И многослойный хор, поющий по бумажке,
А то и без нее, победно, наизусть,
И с крестиком бандит раскормленный в тельняшке,
Спецназовец – вчера убил кого-нибудь,
Как скептик говорил один яйцеголовый,
На вашей стороне и армия и флот,
На вашей стороне Завет, во-первых, Новый,
И Ветхий, во-вторых, и ангелов полет,
На вашей стороне и дальняя дорога,
И лучшие стихи, и нотная тетрадь,
И облако в окне, и я, – устав немного
Всё это, глядя вам в глаза, перечислять.
«Люблю невзрачные сады…»
Испугался: неужто и город,
Где так долго живу, разлюбил?
И к деревьям почувствовал холод?
И к холмам, где стоял и курил?
Неужели и облаку в небе
Я не рад, и проточной воде:
Ни иллюзий, ни великолепий
Мне не надо ни в чем и нигде?
Испугался: неужто случилось
То, что так удивляло в других?
Жизнелюбие – высшая милость.
Как же так? Помрачнел и притих.
Неужели душа совершила
Подвиг свой, как угрюмый поэт
Объявил – сколько лет ему было?
Я в стихи заглянул – сорок лет.
Рановато, по нынешним меркам.
Я и в двадцать их знал наизусть,
Но сказать: отцвело и померкло
И, вздохнув, согласиться: и пусть —
Умозрительно мог лишь, из чувства
Сострадательной общности с ним.
Ах, не мрачно, не голо, не пусто!
И какой из меня нелюдим?
Испугался. И мрачную книгу
Стал читать, торопливо, взахлеб!
С благодарностью каждому мигу:
Ночь так ночь, смерть так смерть, сноп так сноп
И бесплодная жатва – так жатва,
И тщета так тщета, и звезда —
Так звезда, что летит безвозвратно,
Нам на радость летит в никуда!
Дикий голубь
Люблю невзрачные сады
На скучных улицах убогих,
Их запыленные кусты,
Их беспризорные чертоги,
Где отпрыск царственных кровей,
Дуб полунищий, обветшалый
Раскинул ржавый свод ветвей,
Царей потомок захудалый.
Люблю запущенность аллей,
И не аллеей – двух-трех дорожек,
Люблю отсутствие скамей,
Люблю глухих пять-шесть окошек
Несимметрично, кое-как
В слепой стене пробитых, – кто-то
Владеет роскошью, бедняк:
С ним эта тень и позолота!
Куда ходили мы с тобой,
Где ждал тебя я, у химчистки?
Валялся желудь под ногой,
Торчал замшелый камень склизкий,
Я тоже в сырости погряз,
Я тоже залит бледным светом.
Где настигает счастье нас?
Кто позаботился об этом?
«Первым узнал Одиссея охотничий пес…»
В Крыму дикий голубь кричит на три такта,
Он выбрал размер для себя – амфибрахий —
И нам веселее от этого факта,
Хотя он в унынье как будто и страхе.
Его что-то мучает, что-то печалит,
У греков какая-то драма в Тавриде
Случилась; на самой заре и в начале
Уже о несчастьях шла речь и обиде.
И южное солнце ее не смягчало,
И синее море ее не гасило,
И горлинка грустное это начало
Запомнила, крохотна и легкокрыла.
Такая субтильная, нервная птичка,
Кофейно-молочного, светлого цвета,
И длится с Эсхилом ее перекличка,
А мы отошли и забыли про это.
«Когда на жизнь смотрю чужую…»
Первым узнал Одиссея охотничий пес,
А не жена и не сын. Приласкайте собаку.
Жизнь – это радость, при том что без горя и слез
Жизнь не обходится, к смерти склоняясь и мраку.
Жизнь – это море, с его белогривой волной,
Жизнь – это дом, где в шкафу размещаются книги,
Жизнь – это жизнь, назови ее лучше женой.
Смерть – это кем-то обобранный куст ежевики.
Кроме колючек, рассчитывать не на что, весь
Будешь исколот, поэтому лучше смириться
С исчезновеньем. В дремучие дебри не лезь
И метафизику: нечем нам в ней поживиться.
И. Роднянской
«Отнимать у Бога столько времени…»
Когда на жизнь смотрю чужую,
Такую страшную, такую
Однообразную, когда
К себе примериваю злую
Смерть в тридцать лет, когда впустую
Уходит время, как вода,
Когда лишь множатся потери,
Утраты в ней, когда живут
До девяноста, в пыльном сквере
Сидят, когда детей пасут,
Когда один идет под суд,
Другой на лестнице расстрелян,
Когда с цветами на премьере
К любимцу публики бегут —
И важен он, самоуверен,
Когда въезжает в Рим Тиберий,
Томлюсь и в Бога я не верю —
Печальный смысл, напрасный труд.
Когда на жизнь смотрю свою,
На этот коврик у порога,
На тех, кого хотя б немного
Любил, на ту, кого люблю,
На эти строки, на скамью
Над морем: шатка, колченога,
На ту лесную колею,
На смерть, что в очи глянет строго,
На всю тщету и толчею,
Судьбу, – бедна она, убога,
Но в ней узор распознаю
Поверх печального итога
И вижу смысл, и верю в Бога,
Молчу, скрываюсь и таю.
«Задумчиво, один, широкими шагами…»
Отнимать у Бога столько времени,
Каждый день, во всех церквях – зачем?
И, придя домой, в вечерней темени,
Не спросив: а вдруг я надоем?
Боже мой, как мне, лентяю, хочется,
Чтобы Ты немного отдохнул,
Посмотрел, как сад во мраке топчется,
На веранду вынес старый стул!
Почитал кого-нибудь, хоть Тютчева,
Как его сейчас читаю я…
Неужели ничего нет лучшего
Чем молитва бедная моя?
Архилох
Задумчиво, один, широкими шагами
Державин мерил путь по влажному песку.
И Батюшков, пленясь чужими берегами,
Задумчив и один, забыл на миг тоску.
При этом не забыв сказать нам простодушно,
Что ехал на коне, покинув ратный строй.
И Тютчев на камин, дымившийся недужно,
Задумчив и один, смотрел едва живой.
Задумчивость! Идешь – и кажется, три тени
В рассеянье с тобой идут. Пылай, камин;
Блести, река; клубись, холодный куст сирени…
Задумчив и один… и всё же не один!
Большая восьмерка
Кто сказал, что тускнеет земное житье?
Архилох еще пьет, опершись на копье,
Воин должен всегда на чеку
Быть, поэтому рядом копье и питье,
И спасибо, что не на бегу!
Чтобы лучше его разглядеть вдалеке,
Надо вспомнить себя молодым.
Впрочем, жизнь без копья проведя, налегке,
Я изнежен в сравнении с ним.
И века ни на шаг оттеснить не смогли
Его с жесткой, холмистой фракийской земли:
Где он пил, там он пьет и сейчас,
Опершись на копье, плащ походный в пыли;
Пьет вино за стихи и за нас!
Вот он, первый лирический в мире поэт,
Каково ему! Сам сознает,
Что есть греческий эпос, а лириков нет:
Не Гомер он и не Гесиод.
За короткую вещь я поэму отдам,
За двенадцать стремительных строк!
Он не знает об этом, но тверд и упрям.
Или знает, что не одинок?
И, склонясь, очищает свой плащ от репья,
И в волненье любуюсь им издали я,
И, кто знает, в блокноте моем
Иногда, может быть, в полусне забытья
Он царапает что-то копьем.
«Художник женщину в мужской напишет шляпе…»
Мне приснилось, что я с госпожой Бернадет Ширак
Говорю о Набокове, Вырице и Париже
И какое-то слово хочу – не могу никак
Вспомнить и заменяю другим, что лежит поближе,
А по левую руку, притихнув, сидит жена
Президента Канады – мечтательная блондинка
Лорин Харпер – и ей подливают в бокал вина,
Сон есть сон, и мы чокнулись с нею, и тут – заминка,
Потому что не знаю английского языка.
Переводчик мне хочет помочь, да я плохо слышу.
Лора Буш обаятельна; Флавия чуть строга —
Итальянка, как статуя, прячущаяся в нишу;
Шери Блэр, англичанка, беседует с Москвиной,
Нашим тренером, – дарит фигурное им катанье
Тему; Фрейндлих, актриса, бок о бок сидит с женой
Президента России: Людмила – само вниманье
И благорасположенность. Нам подают десерт.
И ни слова о противоречиях. В каждой фразе
Мог бы только любовь засвидетельствовать эксперт.
Кто придумал мой сон, комитет по культурным связям?
И ни слова, клянусь, о политике: кто ж во сне
Говорит о политике? Наш разговор цыгане
Пеньем перебивают. И вдруг показалась мне
Чудной эта картинка, как желтый костер в тумане.
Эти скрипки, и юбки, и таборная метель!
Как таинственна жизнь, как легко, через все заслоны,
Мифологией веет и медом со всех земель.
Президенты не так бы понравились мне, как жены.
«Всё кажется, что Тютчев расплатился…»
Художник женщину в мужской напишет шляпе,
В полузастегнутом прямом мужском пальто
На дебаркадере стоящую, на трапе,
На сходнях с сумочкой в руке. А вам то что?
Она бы, думаю, понравилась Рембрандту,
Он тоже странности и вольности любил,
Чалму турецкую, неравнодушен к банту,
К халату, помнится, к стальному шлему был.
Продрогла, может быть, и шляпу одолжила,
Пальто у спутника, неузнанной взойти
На борт задумала, хватаясь за перила,
Прощайте, близкие, и родина – прости!
Ее, наверное, пленяет перспектива
Иных возможностей, сновидческим под стать.
И что-то в этом есть еще от детектива:
Иначе кто бы стал теперь роман читать?
Неважно всё это, не ясно – и не надо!
Она на мальчика чуть-чуть похожа так.
И что-то в этом есть еще от маскарада.
Томи, загадочность, притягивай, пустяк!
«Заходили мы к даче с дремучей, лесной стороны…»
Всё кажется, что Тютчев расплатился
За нас своим страданьем и тоской —
И вот к плечу, как лист ольхи, прибился
Его листок со строчкой стиховой,
Всё кажется, что мы чуть-чуть умнее
Его, благодаря его беде,
Его тоске смертельной и затее
Жить на два дома: здесь и на звезде.
А. Пурину
«На фотоснимке с тенями сквозными…»
Заходили мы к даче с дремучей, лесной стороны,
Сквозь кусты, через вырубку с дикой и грубой травой,
Справедливо считавшей, что здесь мы ходить не должны,
Иван-чай, да кипрей, да крапивы рубеж огневой.
Здесь ходить бы и впрямь ни к чему, и тропа заросла,
Но компания наша подвыпила, – как не свернуть
В эти дачные дебри, где меры уже и числа
Нет, лишь ельник, да кочки, да буйные травы по грудь.
О, как весело было, как вольно и странно идти,
И волшебным мотивом повеяло вдруг, и гостям
Показалось уже, что хозяин не знает пути
Или сбился с него, да не хочет признаться, упрям.
Золотое молчанье и душные волны тепла,
Ни стихов на ходу, ни решенья проблем мировых…
Вот тигрица сейчас, – или это пантера была
В флорентийском лесу? – напугает нас, всех пятерых.
И подумал я, зная, что скоро увидим в упор
Мы калитку и сад, а не тьмой наказуемый грех,
Что у каждого свой сожалений и страхов набор,
Но одно предзакатное, позднее солнце на всех.
Впятером, но я старше их всех и в приватную суть
Этой жизни проник чуть поглубже, хотя бы на шаг.
И подумал я: кто-нибудь вспомнит когда-нибудь путь
Через заросли эти и мне улыбнется сквозь мрак.
И, действительно, вот показался дощатый сарай,
И терраса в решетчатых рамах блеснула стеклом.
Разумеется, временный, как же земной этот рай
Ослепительно высвечен, если пойти напролом!
«И стол, и стул, и шкаф – свидетели…»
На фотоснимке с тенями сквозными
Два гондольера и я между ними,
Ты попросила их сняться со мной,
Веет прохладой и вечной весной.
Майки в полоску и круглые шляпы.
Я вроде дедушки им или папы,
Впрочем, неплохо смотрюсь, моложав, —
Мне помогает отходчивый нрав.
Я и на жизнь посержусь – и забуду,
Я и твою выполняю причуду:
Скажешь, чтоб встал с гондольерами в ряд, —
Встану, согласен на рай и на ад.
И стол, и стул, и шкаф – свидетели,
И на столе – листок бумаги.
Они всё поняли, заметили —
И пусть приводят их к присяге.
Они расскажут всё, что видели,
И посрамят любого Холмса,
И там, в заоблачной обители
Мы их свидетельством спасемся.
И куст, и ель, и дуб – свидетели,
И пышный плющ на жестком ложе.
Они всё поняли, заметили —
И ветвь на Библию положат.
Нас чайка видела на палубе:
У нас в глазах стояли слезы,
И это будет наше алиби,
Прямой ответ на все вопросы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































