Текст книги "Таврический сад: Избранное"
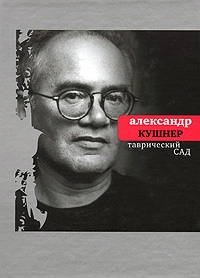
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
«Какая разница…»
Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.
В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик – моль,
Зачем глаза его намокли?
И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.
Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,
Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.
Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.
«Среди знакомых ни одна…»
Какая разница,
Чем мы развлечены:
Стихов нескладицей?
Невнятицей волны?
Снежком, нелепицей?
Или, совсем как встарь,
Стеклянной пепельницей,
Желтой, как янтарь?
Мерцаньем полнится
И тянется к лучам…
Имел я, помнится,
Внимание к вещам.
И критик шелковый
Обозначал мой крен:
Ларец с защелками
И Жан Батист Шарден.
Всё это схлынуло.
Стакан, графин с водой
Жизнь отодвинула
Как бы рукой одной.
Смахнула слезы с глаз,
Облокотясь на стол.
И разговор у нас
Совсем иной пошел.
Разговор
Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впав в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.
Я так и думал бы, что бред —
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.
«Он встал в ленинградской квартире…»
Мне звонят, говорят: – Как живете?
– Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.
А у вас что? Содом? Суматоха?
– И у нас, – отвечает, – неплохо.
Муж уехал. – Куда? – На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок.
– Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?
Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня.
– И на нас, – отвечает, – находит.
То ли жизнь, в самом деле, проходит,
То ли что… Я б зашла… да потом
Будет плохо. – Спасибо на том.
«Когда тот польский педагог…»
Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.
Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.
– Смотри, ты разбудишь ребенка! —
Я чудному гостю сказал.
Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей…
Но, кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.
Поклонение волхвов
Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами Бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?
Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.
Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы Бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.
«Пусть кто-то в ней жизнь узнает…»
В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.
И что-то, словно ореол,
Поблёскивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.
Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, щурились в углу
Теленок и корова.
Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал всё это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.
И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.
Весь ужас мира, испокон
Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заворожен,
Подался на мгновенье.
Под стать библейской старине
В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.
Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.
Два голоса
Пусть кто-то в ней жизнь узнает.
Как сыщик, за ней примечает,
А музыка тем и живет,
Что нас к забытью приучает.
И стынешь, за кресло схватясь,
В тот час, как даруется ею
Не с этими залами связь,
А с будущей жизнью твоею.
Картин не рисует, не лги!
Знакомая, всё незнакома —
Так мысли ее далеки
От женщин, и счастья, и дома.
О, вся забытье, благодать!
Укор для тоски и неверья.
И совестно к ней приплетать
Дороги, поля и деревья.
В поезде
Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой синей
не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.
– Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,
я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.
– Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью вместе,
не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.
– Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чащей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне вроде жилки височной,
не погасшей во мне.
– Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью – свеченье,
днем – сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.
«Жить в городе другом – как бы не жить…»
Не в силах мне помочь,
летя за мною следом,
пронизывая ночь
дождя холодным светом,
он плачет надо мной,
дымясь среди обочин,
и стекол ряд двойной,
как стеганка, прострочен.
Так плачет только он
в сырой ночи без края,
цепляясь за вагон,
с запинкой, призывая
на помощь небеса,
листая наш словарик,
и каждая слеза —
как маленький фонарик.
Он плачет надо мной,
блестящий дождь глотая,
любовь мою бедой,
виной своей считая,
твердя: «Прости, не плачь», —
и сам в пылу внушенья,
как сердобольный врач,
нуждаясь в утешенье.
Он плачет потому,
что нет конца мученью,
что я кажусь ему
безжизненною тенью;
как с этой стороны
стекла, где ссохлась муха,
глаза мои темны,
в них холодно и сухо.
«Вижу, вижу спозаранку…»
Жить в городе другом – как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется – расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!
Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече – оживаешь.
Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.
На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?
Венеция
Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.
И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки
Ускользающую нить.
Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.
Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.
«Четко вижу двенадцатый век…»
Венеция, когда ты так блестишь,
Как будто я тебя и вправду вижу,
И дохлую в твоем канале мышь,
И статую, упрятанную в нишу, —
Мне кажется, во дворик захожу.
Свисает с галереи коврик. Лето.
Стоит монах. К второму этажу
С тряпьем веревку поднял Каналетто.
Нет, Тютчев это мне тебя напел,
Наплел. Нет, это Блок тебя навеял.
Нет, это сам я фильм такой смотрел:
Француз вояж в Италию затеял,
Дурак-француз, в двубортном пиджачке.
Плеск голубей. Собор Святого Марка.
О, как светло! Крутись на каблучке.
О, как светло, о, смилуйся, как ярко!
Сирень
Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь – там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?
Стог
Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.
Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но вглядись в эти вспышки и блестки:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и щурил глаза.
Тем сильней у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависающий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.
Б. Я. Бухштабу
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал…
Фет
«Еще чего, гитара…»
Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.
Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но Бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.
Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!
«Жизнь чужую прожив до конца…»
Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.
«Казалось бы, две тьмы…»
Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.
Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.
Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.
Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.
«На Мойке жил один старик…»
Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.
Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, —
Меня в нем только нет».
Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.
Путешествие
На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но все равно не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.
А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
– Вы б столковались в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!
Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?
«Читая шинельную оду…»
Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, ластятся, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.
Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.
Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: «Себя ты не мучай
Детские страхи откинь».
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.
Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.
Буквы
Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до Китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед —
Всё то, что зовется «от Кушки
До Карских студеных Ворот».
Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной Губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит в затылок, как зверь,
Когда ледяными ночами
Не спишь и косишься на дверь.
Большая удача – родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину, есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа над тесным столом.
Приметы
В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.
Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман —
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.
А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщичок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.
А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!
Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй… Ну что ты? Что ты?
«В саду ли, в сыром перелеске…»
Еще клубился полумрак,
Шли складки по белью,
Был рай обставлен кое-как,
Похож на жизнь мою.
Был стул с одеждой под рукой,
Дрожала ветвь в окне,
И кто-то шелковой щекой
В плечо уткнулся мне.
Немного их, струящих свет
На мировом ветру
Опознавательных примет
Твоей судьбы в миру!
Но всё – стола потертый лак
И стула черный сук —
Шептало мне: не нужно так
Отчаиваться, друг.
Не потому, что есть намек
Иль тайный знак уму,
А так, всем смыслам поперек.
Никак, нипочему.
«Когда ты в Павловском дворце…»
В саду ли, в сыром перелеске,
На улице, гулкой, как жесть,
Нетрудно, в сиянье и блеске,
Казаться печальней, чем есть.
И, в сторону глядя, в два счета,
У тусклого стоя пруда,
Пленить незаметно кого-то
Трагической складкой у рта.
Так действует эта морщинка!
Но с возрастом как-то ясней
Ты видишь: не стоит овчинка
Той выделки хитрой, бог с ней!
Всё чаще с растерянным, жарким
И незащищенным лицом
Стоишь перед светлым подарком:
Опушкою, парком, дворцом.
«И если в ад я попаду…»
Когда ты в Павловском дворце
Искала в зеркале барочном,
Роскошном, царственном, порочном,
Себя – как в тусклом озерце
Иль где-нибудь в пруду полночном, —
Рябь набегала, и в конце
Той залы нам с лицом отечным
Являлась фурия в чепце.
Потом зеркальная вода
Светлела. В ней не без труда
Всплывала ты, с песком проточным
И пузырьками пополам.
Но долго жизнь казалась нам
Туманным делом и непрочным!
«Вот сижу на шатком стуле…»
И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.
Всё счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море…
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.
«Друг, наудачу…»
Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино напареули,
Что осталось от гостей.
Мы печальны – что причиной?
Нас не любят – кто так строг?
Всей спиною за гардиной
Белый чувствую снежок.
На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом всё прекрасней
Снег и запах легких вин.
И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья, и терпенья,
И немыслимых вещей.
«Скатерть, радость, благодать…»
Друг, наудачу
рифму твержу,
взгляда не прячу,
прямо гляжу.
Далей не вижу,
вижу, как все,
дерево, крышу,
дождь на шоссе.
Видишь ли, осень
вроде лото:
может быть, восемь,
может быть, сто.
Может быть, почта.
Может быть, друг.
Может быть, то, что
выпадет вдруг.
Кто нам помашет?
Кто позвонит?
Кто нам расскажет,
что нам грозит?
Мне и стихи-то
дороги тем,
что не раскрыто
всё в них и всем,
что через строчку
можно попасть
в Суйду, в Опочку,
в летную часть.
Может быть, тем и
жизнь хороша,
что не система
в ней, а душа.
Нынче придавит,
завтра прильнет,
а послезавтра
к сердцу прижмет.
Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Боже мой! Еще живу!
Всё могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!
Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!
Семидесятые
Письмо (1974)
«Эти вечные счеты, расчеты, долги…»«Снег подлетает к ночному окну…»
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал, и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.
Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам, —
И не будет пощады.
Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
«У меня зазвонил телефон…»
Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!
Вьюжная. Ватная. Снежная вся.
Давит на плечи.
Но и представить другую нельзя
Шубу, полегче.
Гоголь из Рима нам пишет письмо,
Как виноватый.
Бритвой почтовое смотрит клеймо
Продолговатой.
Но и представить другое нельзя
Поле, поуже.
Доблести, подлости, горе, семья,
Зимы и дружбы.
И англичанин, что к нам заходил,
Строгий, как вымпел,
Не понимал ничего, говорил
Глупости, выпив.
Как на дитя, мы тогда на него
С грустью смотрели.
И доставали плеча твоего
Крылья метели.
«Неромантичны наши вкусы…»
У меня зазвонил телефон.
То не слон говорил. Что за стон!
Что за буря и плач? И гудки?
И щелчки, и звонки. Что за тон!
Я сказал: «Ничего не слыхать».
И в ответ застонало опять,
Загудело опять, и едва
Долетали до слуха слова:
«Вам звонят из Уфы». – Перерыв.
«Плохо слышно, увы». – Перерыв.
«Все архивы Уфы перерыв,
Не нашли мы, а вы?» – Перерыв.
«Все труды таковы, – говорю. —
С кем, простите, сейчас говорю?»
«Нет, простите, с кем мы говорим?
В прошлый раз говорили с другим!»
Кто-то в черную трубку дышал.
Зимний ветер ему подвывал.
Словно зверь, притаясь, выжидал.
Я нажал рычажок – он пропал.
Сон
Неромантичны наши вкусы.
Нам утешаться до конца
Волос начесом светло-русым,
И миловидностью лица
С чуть-чуть размытыми чертами,
И носом, вздернутым слегка.
Где рок, сверкающий очами?
Как исступленность далека!
Угля на брови не хватило
И синей краски – на глаза.
Губа другую прикусила,
Чтобы не вылилась слеза.
Не плачь, пройдет!
Вся жизнь, с пустыми
Мечтами, всё пройдет, вполне.
Какими средствами простыми
Ты надрываешь сердце мне.
Ход жизни
Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской… вид туманный…
Стачек, Трефолева… стой!
Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Всё смешалось… не понять…
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.
Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,
Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.
Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?
Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.
Вид у нас какой-то сирый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.
Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.
Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.
«Кто-то плачет всю ночь…»
Непоправима, невозвратна,
Неуловима, однократна,
Неумолима и томима
Тоской о прошлом, непонятна.
Обиды жгут неизгладимо
И несмываемые пятна.
Почти уже невыносима,
Идет к концу невозмутимо,
Как ровный почерк без нажима,
Неотвратимо, безоглядно.
Никто не выгребет обратно!
Ветрами темными гонима.
В лицо огромное, без грима,
Прощаясь, всматриваюсь жадно.
Необозрима и громадна,
Каким заступником хранима?
Как стих безумный одержима,
Неутолима! Невероятна!
Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.
Вот затих. Вот опять.
«Спи, – ты мне говоришь, – показалось».
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!
Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.
Только дети – и те,
Услыхав: «Как не стыдно?» – смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.
Кто-то плачет вблизи.
«Спи, – ты мне говоришь, – я не слышу».
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.
Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать —
«Подожди, – говоришь, – кто-то плачет!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































