Текст книги "Таврический сад: Избранное"
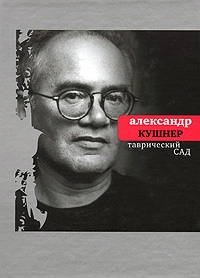
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Отец настоял, чтобы сын-гимназист,
Уж коли он пишет стихи, его Дима,
Пошел к Достоевскому с ними: ершист
И сумрачен мальчик, и сердце ранимо, —
Авось и понравится что-нибудь в них
Писателю.
Мрачно хозяин и злобно
Внимал гимназисту. Тот сбился, затих.
«Бессмысленно. Слабо. Неправдоподобно».
У мальчика слезы вот-вот из-под век
Закапают. Стыд и обида какая!
«Страдать и страдать, молодой человек!
Нельзя ничего написать, не страдая».
А русская жизнь, этой фразе под стать,
Неслась под обрыв обреченно и круто,
И правда, нельзя ничего написать.
И все-таки очень смешно почему-то.
Никому не уйти никуда от слепого рока.
Не дано докричаться с земли до ночных светил!
Всё равно интересно понять, что «Двенадцать» Блока
Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил».
Как он там, в дневнике, записал: «Я сегодня гений»?
А сейчас приведу ряд примеров и совпадений.
Гуляет ветер. Порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Через болота и пески
Идут звериные полки.
И счастлив Ваня, что пред ним
Враги рассеялись, как дым.
Пиф-паф! – и буйвол наутек.
За ним в испуге носорог.
Пиф-паф! – и сам гиппопотам
Бежит за ними по пятам.
Трах-тах-тах! И только эхо
Откликается в домах.
Но где же Ляля? Ляли нет!
От девочки пропал и след.
А Катька где? Мертва, мертва!
Простреленная голова.
Помогите! Спасите! Помилуйте!
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая…
Крокодилам тут гулять воспрещается.
Закрывайте окна, закрывайте двери!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
И больше нет городового.
И вот живой
Городовой
Явился вмиг перед толпой.
Ай, ай!
Тяни, подымай!
Фотография есть, на которой они вдвоем:
Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице?
Блок как будто присыпан золой, опален огнем,
Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый.
Боже мой, не спасти его. Если бы вдруг спасти!
Не в ночных – в медицинских поддержку найти светилах!
Мир, кренись,
Пустота, надвигайся,
Звезда, блести!
Блок глядит на него, но Чуковский помочь не в силах.
Читать Пастернаку – одно удовольствие!
Читал я стихи ему в воображении.
Во-первых, не страшно. В своем разглагольствовании
И сам он – дитя. И широк, как все гении.
И рад неизвестно чему: что забрезжило
Ему, показалось, помнилось…
При случае
Любые слова хороши, даже бежевый.
И сны молодые ему не наскучили.
Неважно, кого называли красавицей,
Была ли умна, не имеет значения.
И здесь, в незакатном краю, ему нравится:
И диспуты есть, и свои огорчения.
И утро по горным отрогам развесило
Мечты, прагматизмом подбитые с краю,
И, что б ни сказал, соглашаться с ним весело.
Я тоже так думаю. Как? Я не знаю.
Не знаю. Но в сбоях стиха спазматических,
Как ни было б грустно и как одиноко,
Не ждет он от вас непременно трагических
Решений и выводов, только – намека.
Перечень побочных действий препарата:
головная боль,
усталость,
тошнота,
сниженье аппетита, —
пробую зарифмовать, но, может быть, не надо? —
беспокойство,
головокруженье,
дрожь,
я чуть не написал: обида,
но обиды нет,
тревога,
изменение походки,
спутанность сознания,
бессонница,
потеря
обонянья,
судороги сухость в носоглотке,
шум в ушах,
депрессия, растущая по мере
излеченья,
мнительность, —
попробуй не раскисни, —
мышечные боли,
невротические состоянья
вплоть до причинения себе ущерба,
отвращенье
к жизни
и галлюцинации, —
тогда к чему старанья? —
хочется спросить, но ведь не спросишь у бумажки;
я боюсь вас, призраки, фантомы, привиденья,
издали ползущие слоноподобные букашки;
и тоска,
и полное потом выздоровленье.
Мне стихи присылают по почте —
Графоманию и ерунду.
Вот что, голову мне не морочьте.
Но сейчас две строки приведу,
Вы оцените искренность злобы
И какой-то некрасовский пыл:
«Покажи мне кого-нибудь, кто бы
Рад успеху чужому бы был».
С той поры я твержу эти строки,
Не нарадуюсь: вложено в них
То, что вряд ли певцы и пророки
В свой захватят обдуманный стих,
Я поэту тогда не ответил,
А ведь мог бы его похвалить,
Правду чувства держа на примет
А не глупость его, может быть.
Омри Ронену
Мандельштам приедет с шубой,
А Кузмин с той самой шапкой,
Фет тяжелый, толстогубый
К нам придет с цветов охапкой.
Старый Вяземский – с халатом,
Кое-кто придет с плакатом.
Пастернак придет со стулом,
И Ахматова с перчаткой,
Блок, отравленный загулом,
Принесет нам плащ украдкой.
Кто с бокалом, кто с кинжалом
Или веткой Палестины.
Сами знаете, пожалуй,
Кто – часы, кто – в кубках вины.
Лишь в безумствах и в угаре
Кое-кто из символистов
Ничего нам не подарит.
Не люблю их, эгоистов.
Кто вам сказал, что стихи я люблю? Не люблю.
А начитавшись плохих, вообще ненавижу.
Лучше стоять над обрывом, махать кораблю,
Скрыться от дождика вместе со статуей в нишу.
Как он шумел и завесой блестящей какой
Даль занавешивал, ямки в песке вырывая!
Яркий, лишенный тщеславия, вне стиховой
Длинной строки – бескорыстная радость живая.
Эй, тереби некрасивый листочек ольхи,
Прыгай по бревен неряшливо сваленной груде.
Я, признаюсь, насмотрелся на тех, кто стихи
Пишет; по-моему, лучше нормальные люди.
Можно из ста в девяноста сказать девяти
Случаях: лучше бы вы ничего не писали,
Лучше бы просто прогулки любили, дожди,
Солнце на веслах и парные кольца в спортзале.
Английским студентам уроки
Давал я за круглым столом, —
То бурные были наскоки
На русской поэзии том.
Подбитый мундирною ватой
Иль в узкий затянутый фрак,
Что Анненский одутловатый,
Что им молодой Пастернак?
Как что? А шоссе на рассвете?
А траурные фонари?
А мелкие четки и сети,
Что требуют лезть в словари?
Всё можно понять! Прислониться
К зеленой ограде густой.
Я гро́ зу разыгрывал в лицах
И пахнул сырой резедой.
И чуть ли не лаял собакой,
По ельнику бьющей хвостом,
Чтоб истинно хвоей и влагой
Стал русской поэзии том.
……………………………………………………………
Английский старик через сорок
Лет, пусть пятьдесят-шестьдесят,
Сквозь ужас предсмертный и морок
Направив бессмысленный взгляд:
«Не жизни, – прошепчет по-русски,
А жаль ему, – скажет, – огня», —
И в дымке, по-лондонски тусклой,
Быть может, увидит меня.
Считай, что я живу в Константинополе,
Куда бежать с семьею Карамзин
Хотел, когда б цензуру вдруг ухлопали
В стране родных мерзавцев и осин.
Мы так ее пинали, ненавидели,
Была позором нашим и стыдом,
Но вот смели – и что же мы увидели?
Хлев, балаган, сортир, публичный дом.
Топорный критик с космами патлатыми,
Сосущий кровь поэзии упырь,
С безумными, как у гиены, взглядами
Сует под нос свой желтый нашатырь.
И нету лжи, которую б не приняли,
И клеветы, которую б на щит
Не вознесли. Скажи, тебе что в имени
Моем? Оно тоскует и болит.
Куда вы мчитесь, Николай Михайлович,
Детей с женой в карету посадив?
На юг, тайком, без слуг, в Одессу, за полночь
И на корабль! – взбешен, чадолюбив.
Гуляют турки, и, как изваяние,
Клубясь, стоит густой шашлычный дым…
Там, под Айя-Софией, нам свидание
Назначил он – и я увижусь с ним.
Я думаю, это деревня Межно,
быть может, Прибытково. Тридцать девятый
год. Ветрено. Солнечно. Взрослым смешно:
детей усадили на холмик покатый.
Фотограф велел улыбаться. Пятно
от облака. Клевером пахнет и мятой.
Из этих шести старомодных детей
(сегодня ни платья такие, ни банты
не носят) один мне знаком. Не робей —
шепнуть ему хочется – есть варианты
судьбы и возможности. Ветер с полей
так сладок, и боги отнюдь не педанты.
И я в злонамеренность их не могу
поверить, скорей – в неумелость и праздность.
Здесь бабочки где-то должны на лугу
быть, пусть их не видно на снимке: неясность,
размытость. Похож горизонт на дугу,
за ним – неизвестность, быть может, опасность.
Из этих шести я бы мог одного
окликнуть по имени, в шапочке блёклой
и мятой матроске, мне жаль не его,
он жив, а другие? Погибла, размокла,
растаяла жизнь их – и нет никого?
Фотограф, получше протри свои стекла!
Три мальчика так себе. Девочки три
прелестны, улыбка им легче дается.
Я трехгодовалый – и вряд ли внутри
горячее чувство пробилось, как солнце.
На девочек, эй, оглянись, посмотри!
Пока не посмотришь, душа не проснется.
Но мальчик смиренно глядит в объектив.
Узнать бы, что думает он, хорошо ли
ему, и внезапного ветра порыв
приятен ему или холодно в поле?
Учти, не проявлен еще негатив,
еще не разобраны судьбы и роли.
У мальчика русская внешность. Светлей,
чем в будущем, волосы. Дети-моллюски
едва проступают из рамок, щелей
и створок ненужной им, лишней нагрузки.
Ты будешь татарка, ты станешь еврей.
Неправда, родившись в России, ты русский.
Мне кажется, колется эта трава
и горбится холм неудобно и жестко.
Как водится, счастье вступает в права
роst factum, а так оно слишком громоздко,
и скучно, и дети знакомы едва,
под мышкой врезается в тело матроска.
В три года от тьмы человек отделен
тремя полуобморочными годами.
Еще на земле не освоился он,
со смертью готов поменяться местами.
Ничем не заставленный мглист небосклон,
вдали кое-как окаймленный кустами.
Хочу, чтобы кто-нибудь, кроме меня,
из маленькой кучки, из этой шестерки
был жив, пощадила его западня
блокады, крутые маршруты и горки,
и, снимок в семейном альбоме храня
такой же, в былое глядел, дальнозоркий.
Она или он, устремляясь на край
той жизни, земли, позабытой планеты,
деревни, на выпуклый, как каравай,
тот холмик, июльским теплом разогретый.
Не снимок, а пропуск в потерянный рай.
Не рай, а наметки его и приметы.
Холодный май (2005)
«Одолжи мне слово, хоть одно…»I
Одолжи мне слово, хоть одно,
Чтобы им назвать хотелось книгу.
Все слова, как старое сукно,
Вытерты: не вспомнить им интригу,
И какое грезилось руно?
Не припасть душой к былому мигу.
«Благодарный гость»? Тоска берет.
Не люблю названия с нажимом.
Может быть, «Звонки под Новый год»?
Неприязнь мешает к долгим зимам.
«Вечер»? – Занят. Помнишь: до ворот
На ветру бежала за любимым.
«Белый флот». А что это? Прощай,
Кучевой, летучий, мимолетный?
Хоть весь день словарь перебирай —
Странный труд, напрасный труд, бесплодный.
– Назови ее «Холодный май».
Всё же май. Неважно, что холодный.
По безлюдной Кирочной, вдоль сада,
Нам навстречу, под руку, втроем
Шли и пели – молодость, отрада! —
И снежок блестел под фонарем,
В поздний час, скульптурная Эллада,
Петербургским черным декабрем.
Плохо мы во тьме их рассмотрели.
Девушки ли, юноши ли мне
Показались девушками? Пели.
Блоку бы понравились вполне!
Дружно, вроде маленькой метели.
Я еще подумал: как во сне.
Им вдогон смотрели мы, как чуду
Неземному, высшему – вослед:
К Демиургу ближе, Абсолюту,
Чем к сцепленью правил и примет.
Шли втроем и пели. На минуту
Показалось: горя в мире нет.
Представляешь, каким бы поэтом —
Достоевский мог быть? Повезло
Нам – и думать боюсь я об этом,
Как во все бы пределы мело!
Как цыганка б его целовала
Или, целясь в костлявый висок,
Револьвером ему угрожала.
Эпигоном бы выглядел Блок!
Вот уж точно измышленный город
В гиблой дымке растаял сплошной
Или молнией был бы расколот
Так, чтоб рана прошла по Сенной.
Как кленовый валился б, разлапист,
Лист, внушая прохожему страх.
Представляешь трехстопный анапест
В его сцепленных жестких руках!
Как евреи, поляки и немцы
Были б в угол метлой сметены,
Православные пели б младенцы,
Навевая нездешние сны.
И в какую бы схватку ввязалась
Совесть – с будничной жизнью людей.
Революция б нам показалась
Ерундой по сравнению с ней.
До свидания, книжная полка,
Ни лесов, ни полей, ни лугов,
От России осталась бы только
Эта страшная книга стихов!
Три стула на витрине
Приставлены к столу,
И лампочка в камине
Зарыта, как в золу,
В помятую пластмассу
И светится под ней,
Напоминая глазу
Пылание углей.
Еще одна витрина —
На ней стоит диван,
Огромный, как скотина,
Овца или баран,
И два широких кресла,
Расположившись там,
Принять готовы чресла
Хоть рубенсовских дам.
А на витрине третьей —
Двуспальная кровать.
Смутить нас не суметь ей,
А только напугать:
Такие выкрутасы
На спинках у нее,
Как будто контрабасы
Поют сквозь забытье.
Напротив магазина
Разбит убогий сквер.
Ворона-Мнемозина
Глядит на интерьер
Живет она лет двести,
Печалям нет конца:
Устроиться бы в кресле
И вывести птенца!
Живут на этом свете,
Всем бедам вопреки,
Герои – наши дети,
Герои – старики
И ночью над обрывом
Своих кошмаров спят
С терпеньем молчаливым
Ворон и воронят.
Раскинул тополь влажный
Свой пасмурный эдем.
Подарок этот страшный
Кто нам всучил, зачем?
Прости мне эту вспышку,
Спи мальчик, засыпай
И плюшевого мишку
Из рук не выпускай.
Поэзия всем торсом
Повернута к мирам
С дремучим звездным ворсом
И стужей пополам,
Она не понимает
И склонна презирать
Того, кто поднимает
На подиум кровать.
Не понимает или
Спасает свой мундир?
Те правы, кто обжили
Ужасный этот мир,
С тоской его, уродством,
Подвохами в судьбе,
И бедствовать с удобством
Позволили себе.
Смерти, помнится, не было в сорок девятом году.
Жданов, кажется, умер, но как-то случайно, досрочно.
Если смерть и была, то в каком-то последнем ряду,
Где никто не сидел; а в поэзии не было, точно.
Созидание – вот чем все заняты были. Леса
Молодые шумели. И вождь поседевший, но вечно
Жить собравшийся, в блёклые взгляд устремлял небеса.
Мы моложе его, значит, мы будем жить бесконечно.
У советской поэзии, – не было в мире такой,
Не затронутой смертью и тленом, завидуй, Египет! —
Цели вечные были и радостный смысл под рукой,
Красный конус Кремля и китайский параллелепипед.
И еще через двадцать подточенных вольностью лет
Поэтесса одна, простодушна и жизнью помята,
Мне сказала, знакомясь со мной: «Вы хороший поэт,
Только, знаете, смерти, пожалуй, в стихах многовато».
Кто стар, пусть пишет мемуары, —
Мы не унизимся до них.
Топорщись, куст, сверкайте, фары,
Клубитесь, гребни волн морских!
Я помню блеск потухших взоров
Всех тех, кому был в жизни рад,
Но я не помню разговоров,
Ни тех подробностей, ни дат.
И, прелесть антиквариата
Лишь умозрительно ценя
(И даром мне его не надо!),
Я – друг сегодняшнего дня.
Я не любил шестидесятых,
Семидесятых, никаких,
А только ласточек – внучатых
Племянниц фетовских, стрельчатых,
И мандельштамовских, слепых.
И жизнь былая – не образчик
Того, как строится успех,
И друг мой умерший – не шкафчик,
Чтоб распахнуть его для всех.
Я раб, я бог, сосредоточась
На смысле жизни, червь и царь,
Но не жучок я древоточец,
Живущий тем, что было встарь.
Ехать в автомобиле
По дороге ночной
В романтическом стиле
Под ущербной луной,
Заходящей за тучу,
И в сверкании фар
Куст выхватывать – штучный,
Золотой экземпляр.
В дождевой пелерине,
В черно-синих тонах,
Проведя по машине
Мокрой веткой впотьмах,
С непонятной отвагой
Потянувшись ко мне,
Он как мальчик со шпагой
На картине Мане.
Полуночница-птица,
Словно тень, промелькнет.
Видно метров на тридцать,
И не дальше, – вперед,
Я не знаю, что будет
Ни с поэзией впредь,
Ни с земным правосудьем,
Ни с ценою на нефть.
Но надеется сердце
На везенье и честь.
Ах, у всех европейцев
Что-то общее есть.
В пепельницу окурком
Ткнусь, приметлив и зряч.
Есть и под Петербургом,
Среди вырицких дач.
Мы любили, страдали,
Разгоралась заря.
Помнишь, в детстве читали
Нам «Лесного царя»?
Туч косматые клочья
И балладный нажим.
Всякий, едущий ночью,
Поспешает за ним.
Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом,
Не люблю арабов с их маслянистым взором и фанатизмом,
Не люблю евреев с их нахальством и самоуверенностью,
Англичан с их снобизмом, скукой и благонамеренностью,
Немцев с их жестокостью и грубостью,
Итальянцев с плутовством и глупостью,
Русских с окаянством, хамством и пьянством,
Не люблю испанцев, с тупостью их и чванством,
Северные не люблю народности
По причине их профессиональной непригодности
И южные, пребывающие в оцепенении…
Переводчик, не переводи это стихотворение!
Барабаны, бубны не люблю, африканские маски,
турецкие сабли, —
Неужели вам нравятся фольклорные ансамбли?
Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу,
Отвечал: ни к какому. Любил природу.
Мир становится лучше – так нам говорит далай-лама.
Постепенно и медленно, еле заметно, упрямо,
Несмотря на все ужасы, как он ни мрачен, ни мглист,
Мир становится лучше, и я в этом смысле – буддист.
И за это меня кое-кто осуждает; не знаю,
Почему я так думаю, – это особенно к маю
Убежденье во мне укрепляется, с первой листвой:
Мир становится лучше, прижми его к сердцу, присвой!
А еще говорит далай-лама (когда собеседник
Спрашивает его, кто преемник его и наследник),
Что какой-нибудь мальчик, родившись в буддийской семье,
Может стать далай-ламой, – всё дело в любви и в уме.
Сам-то он появился на свет в тридцать пятом, в Тибете,
И цветы собирал, и капризничал он, как все дети,
Только в тридцать седьмом (цвел жасмин и гудела пчела)
Поисковая группа его в деревушке нашла.
Скоро, скоро ему предстоит путешествие в скрытой
Форме, смертью устроенной, шелковой тканью подбитой,
Года два проведет он в посмертных блужданьях, пока
Не поселится в мальчике прочно и наверняка.
Обязательно в мальчике? – Нет, почему же? Программа
Отработана так, что и девочкой стать далай-лама
Может в новом своем воплощенье… Вьюнок, горицвет,
Голубой гиацинт… Захотелось увидеть Тибет.
Захотелось, чтоб мирно китайцы ушли из Тибета,
Чтобы смог далай-лама увидеть тибетское лето,
Умереть во дворце своем в легкий предутренний час.
Мир меняется к лучшему, но незаметно для нас.
Незаметно для нас. Незаметно для нас? Почему же?
Далай-лама глядит – и становится ясно, что хуже
Было раньше, чем нынче, – еще бы, ему ли не знать!
А иначе зачем бы рождаться опять и опять…
Тени утра вечерних теней
Легкомысленней и веселей
И в другую направлены сторону,
И рассчитан их сонм на детей,
А не на стариков, и не поровну.
Тени утра так праздно лежат,
Словно счастьем земным дорожат,
И не нужно им потустороннее,
Где мы рай разместили и ад.
Бескорыстней они, благосклоннее.
Даже если не сдержат своих
Обещаний, таких золотых,
Розоватых, как эти соцветия…
И молчу, и чуть совестно их,
И так редко вставал на рассвете я.
В стихах, – сказал он, – ветерок
Быть должен, веющий оттуда, —
И посмотрел куда-то вбок,
Но там стояла лишь посуда
В буфете, столик на троих, —
На четверых – так будет тесно.
Туда, туда, сквозь них, сквозь них!
Оттуда – тайно и чудесно.
Что ж, мне случалось заманить
В стихи оттуда дуновенье,
Но я хотел бы уточнить:
Мое вниманье и волненье,
Я буду честным, только тьму
Находят там, а тьмы мне мало.
Хотя бы скатерть, бахрому,
Хоть спинку стула, для начала.
«Преграды одолев, подъемы и ступени…»
Преграды одолев, подъемы и ступени,
Всё чаще по ночам, как призрачные тени,
Умершие друзья в мои заходят сны,
И я смотрю на них, и залы мне тесны,
И комнаты малы, и манят за собою,
Но что-то, может быть, подушка, простыня
Иль разума клочок смешаться с их толпою
Не позволяют мне и берегут меня.
Так зритель, проходя вдоль фриза или фрески,
Где шествуют жрецы, подобно занавеске
Со складками, или плененные цари,
Иль воины, вот-вот одним из них, смотри,
Сию минуту стать готов, и стал бы, точно,
Когда бы не пиджак, не галстук, что ему,
Топорщась, не дают ступить в их строй проточный
И вечность обрести, гуськом сходя во тьму.
«Не собирай, не копи, потому что придут и возьмут».
Всё отберут, что накоплено, – я понимаю.
Жалко мне стула, стола, разместившихся тут,
И алебастровой вазочки, блещущей с краю.
«А собирайте на небе, копите в другой
Плоскости, мыслимой, но для воров недоступной»,
Что я и делаю, видишь: тетрадь под рукой,
Почерк внимательный, пристальный мой, дружелюбный.
«Там, где имущество спрятано, – сказано нам, —
Там пребывает и сердце горячее наше».
Я потому и склонил свое сердце к стихам,
А не к ларцам, сундукам и серебряной чаше.
Тот, кем обещано нам восполненье утрат,
Он о стихах ни намеренно, ни ненароком
Нам ничего не сказал, но, быть может, им рад.
Лучшие так и написаны, как перед Богом.
«По смерти слава хороша.
Заслуги в гробе созревают».
Державин, мощная душа,
Его всё реже вспоминают,
Он надоел уже чуть-чуть
Еще при Пушкине, – смешную
Построил фразу я, но суть
Рискну шепнуть напропалую.
Он назидателен, нелеп,
Но, удивительное дело,
К его стиху приколот креп
Так соблазнительно и смело,
И среди бархата знамен,
И звезд, и лент – ни на минуту
Не забывал о смерти он.
Такую пестовал причуду.
Такую странность – всё равно
Что заиканье у другого,
Или привычка мять сукно,
Или бессмысленное слово
Тянуть без надобности: э-э-э…
И мне, когда его читаю,
Становится не по себе:
Горю, бледнею, обмираю.
Вот он умер,
сосед наш с третьего этажа.
Слава богу, он умер, жизнью не дорожа.
С той поры, как жена умерла, стал спиваться он
так, как будто за нею, ушедшей, спешил вдогон.
И собачка спешила на лапах кривых за ним,
не успела, отстала,
прибилась теперь к чужим.
В лифте как-то его мы спросили, как он живет?
Шмыгнул носом, заплакал, смутился, сказал: «Ну вот».
Помотал головой. Настоящее горе слов
не имеет.
Недаром так стыдно своих стихов.
И прозванье поэта всегда было дико мне.
И писал всего лучше я о тополях в окне.
На шестом этаже они вровень с душой кипят,
а на третьем
в их толще безвылазно тонет взгляд.
Покровительствуют мимолетным и легким снам.
Их еще не срубили, но срубят – сказали нам.
Эту жизнь я смахнул бы, клянусь, со стола – рукой —
вместе с бронзовым Вакхом в веночке,
да нет другой!
Учинил бы скандал тем решительней, что не ждут
от меня безответственных выходок и причуд.
Уж затихли – и вдруг закипают опять в окне.
Или он, запыхавшись, подходит сейчас к жене?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































