Текст книги "Таврический сад: Избранное"
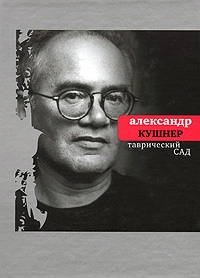
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Памяти Л. Я. Гинзбург
Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим неверна, родной забыла дом.
Иначе было б жаль ее невыносимо.
На ножках четырех подогнутых, с брюшком
Серебряным, – но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.
И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, – попроще, победней, —
Всё так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.
Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,
Тяжелую, как сон. Вернул, и взгляд отвел.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
Так агностик говорит во мраке
С богом, им одолженным у тех,
Кто уснул, – и ветерок с Итаки
Веет из невидимых прорех
В плотной ткани ночи; так чужую
Любящий любимую жену,
К ней в мечтах приблизившись вплотную,
Забредает в райскую страну,
А не любящий, но жаждой славы
Опаленный, роется в чужой
Биографии, венец кровавый
Примеряя с легкою душой;
И еще одно уподобленье:
Так уставший в этом мире бед
Занимает на ночь сновиденье
В тех краях, где этой боли нет.
Знаешь, лучшая в мире дорога —
Это, может быть, скользкая та,
Что к чертогу ведет от чертога,
Под которыми плещет вода
И торчат деревянные сваи,
И на привязи, черные, в ряд
Катафалкоподобные стаи
Так нарядно и праздно стоят.
Мы по ней, златокудрой, проплыли
Мимо скалоподобных руин,
В мавританском построенных стиле,
Но с подсказкою Альп, Апеннин,
И казалось, что эти ступени,
Бархатистый зеленый подбой
Наш мурановский сумрачный гений
Афродитой назвал гробовой.
Разрушайся! Тони! Увяданье —
Это правда. В веках холодей!
Этот путь тем и дорог, что зданья
Повторяют страданья людей
А иначе бы разве пылали
Ипомеи с геранями так
В каждой нише и каждом портале,
На балконах, приветствуя мрак?
И последнее. (Я сокращаю
восхищенье.) Проплывшим вдвоем
Этот путь, как прошедшим по краю
Жизни, жизнь предстает не огнем,
Залетевшим во тьму, но водою,
Ослепленной огнями, – обид
Нет, – волненьем, счастливой бедою.
Всё течет. И при этом горит.
Памяти Иосифа Бродского
Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом,
Потому что и то и другое властью
Называется, и под его нажимом
Мы б и года не прожили – всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише! тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, – и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!
Не только звук, а мнится, каждый пальчик
Нам пианистка дарит и дает
Поцеловать, почувствовать, – и ларчик
Неисчерпаем праздничных щедрот,
Как будто я влюблен, – не знаю только,
В нее, в мазурку, в нотную тетрадь?
Мне всё равно, еврейка или полька,
Ах, лишь бы жить и ручки целовать.
Карга, быть может, мощная старуха
За сотни верст от комнаты моей…
О, наслажденье чистое для слуха!
Так и должно быть только меж людей:
Не цвет волос, не возраст, не манера
Кривить, склонясь над клавишами, рот,
А только сердце, пламя только, вера,
В загробных звездах только небосвод!
Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей —
Другая жизнь и берег дальний…
И спились несколько друзей
Из подражанья, что похвальней,
Чем спиться грубо, без затей.
Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю – только Кафке)
С утра – в любой полуподвал,
По полстакана – для затравки, —
И день дымился и сверкал!
Зато в их прозе дорогой
Был юмор, кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея…
Зато когда на свете том
Сойдетесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрем, умрете,
Да не останусь за бортом,
Меня, непьющего, возьмете
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном!
А. Городницкому
1
И с первых слов влюблялись, и помедля.
И сад был рай, и двор, и подворотня,
А что такое платье для коктейля,
Не знали мы (не знаем и сегодня),
Зато делился мир на тех, кто любит
И кто не любит, скажем, Пастернака,
А с Пастернаком купы были вкупе
И карий стриж, и старая коряга.
И проходила по столу граница,
Можно сказать, по складке и солонке,
И торопился кто-то расплатиться
Скорей, уйти, черт с вами, вы подонки!
Теперь не так, не лучше и не хуже,
А по-другому. Так, как всюду в мире.
Учтивей споры, и доеден ужин,
Скучнее жить, но взгляды стали шире.
2
Мне нравятся чужие мерседесы,
Я, проходя, любуюсь их сверканьем.
А то, что в них сидят головорезы,
Так ведь всегда проблемы с мирозданьем
Есть, и не те, так эти неудобства.
Пожалуй, я предпочитаю эти.
А чувство неудачи и сиротства —
Пусть взрослые в него играют дети.
Разбогатеть – приятное мечтанье.
Уж я бы знал, на что потратить деньги.
Мыс Спиналонга, моря полыханье,
В траве – крито-микенские ступеньки,
Их никуда любил бы не ведущих
И ящериц пугливо-плосколицых…
Но я могу представить это лучше,
Чем въяве, и не страшно разориться.
Всё нам Байрон, Гете, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.
У него в небесном кабинете
Пахнет мятой с сиверских полей.
Он встает, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груду бревен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.
Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: «Этого… того…»
Сколько бед на горьком этом свете!
Загляденье, радость, волшебство!
М. Петрову
Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.
Я понял, что произошло:
За весь обман ее и зло,
За слезы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло…
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!
Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времен, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летящий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!
…тише воды, ниже травы…
Блок
II
Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, – давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло – я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной – и выжить был все-таки шанс у меня.
И я арифметики этой стесняюсь чуть-чуть,
Как выгоды всякой на фоне бесчисленных бед.
Плачь, сердце! Счастливый такой почему б не вернуть
С гербом и печатью районного загса билет
На вход в этот ужас? Но сказано: ниже травы
И тише воды. Средь безумного вихря планет!
И смотрит бесслезно, ответа не зная, увы,
Не самый любимый, но самый бесстрашный поэт.
Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
На даче, белое, и палочки подставил,
Чтоб не захлопнулось, и воздух заходил,
Как Петр, наверное, по комнате и Павел
В своем на радости настоенном краю
И сладкой вечности, вздымая занавеску,
Как бы запахнуты в нее, как бы свою
Припомнив молодость и получив повестку.
Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл
И, что вы думаете, лег лицом в подушку!
Такое смутное томленье, – нету сил
Перенести его, и сну попал в ловушку,
Дождем расставленную, и дневным теплом,
И слабым шелестом, и пасмурным дыханьем,
И спал, и счастлив был, как бы в саду ином.
С невнятным, вкрадчивым и неземным назван
В шезлонге, под кустом, со шляпой на лице
Устроиться, пока на столик ставят чашки,
Тарелки, суетясь и, как при мертвеце,
Стараясь не шуметь; откуда в нем замашки
Столь барские, почти посмертные: смотрел
Фильм? или так лежал в тургеневском романе
Герой, решив вздремнуть и как бы не у дел,
За пазухой у сна, у вечности в кармане?
Шепчитесь. Ставьте чай и крепкий коньячок,
Поглядывайте на лежащего с улыбкой.
Он спит. Он любит вас. Он дремлет – и молчок.
Он, может быть, свою считает жизнь ошибкой.
Ему бы только спать. А эта беготня,
Надежды на успех, забота мировая…
Но, кроткий, он сказал тихонько: без меня.
Как чудно без него, а в кронах тьма какая!
М. Кураеву
Радость – это редкость и, в отличие,
Например, от счастья, – прихотлива.
Что-то в дорогом ее обычае
Есть от музыкального мотива,
Жмущегося к сердцу, дело случая!
Как сказал один любимый мною
Автор: тело зыбкое, текучее —
Радость, а не твердое, сплошное.
Вздутости, холмистости, покатости,
Весело пружинящие сходни…
Извини, что речь идет о радости.
Как бы и не принято сегодня
Говорить о ней; вчера, наверное,
Было можно? Мы не догадались.
Сходней проседанье характерное, —
Шли по ним гуськом и улыбались.
Виноват. Взаимные любезности,
Вежливости. Руку подавали,
Может быть, любовь к открытой местности?
Ветреные, пасмурные дали?
Ласкова земля, необитаема.
Счастье, то есть вечная тревога
За него, еще страшит цена его.
С радости нет спроса: ради бога!
Не вошел, а влетел, не из страха, – скорей, по привычке:
Береженого бог бережет, выгнул спину дугой;
Как две спички,
У безумца пылали глаза. На меня: кто такой? —
Он уставился. Жаль, я подумать успел, что таблички
На груди у меня указательной нет никакой.
С точки зренья
Воспаленной его, я и жив-то, боюсь, не вполне.
Ни в какое сравненье
С бахромой, например, не иду и цветком на окне.
Может быть, я фантом? Или новое вероученье?
Вариант сицилийской защиты? – обидно вдвойне.
Без предвзятости он терпеливо любого ответа
Ожидал, коготком:
Кто же это? —
Зацепить попытался и мордочкой терся потом.
Я и сам не уверен в себе, и немного задето
Самолюбие: выступом сладко ли быть, завитком?
Когда бы град Петров стоял на Черном море,
Когда бы царь в слезах прорвался на Босфор,
Мы б жили без тоски и холода во взоре,
По милости судьбы и к ней попав в фавор.
В каналах бы тогда плескались нереиды,
Не так, как эта тварь в снегу и синяках,
Не снились бы нам сны, не мучили обиды,
И был бы здравый смысл в героях и богах.
Когда бы град Петров с горы, как виноградник,
Шпалерами сбегал к уступчатым волнам,
Не идол бы взлетал над бездной, Медный Всадн
Не мчался б, приземлясь, по трупам, по телам.
Тогда б ни топора под мышкой, ни шинели,
Венеция б в веках подругой нам была,
Лазурные бы сны под веками пестрели,
Геракловы столпы, Икаровы крыла.
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.
Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орел,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.
Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чем не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморенная послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.
Пить вино в таком порядке:
Рислинг кисленький и гладкий,
Херес чуть шероховат,
И портвейн, как столик, шаткий,
И мускат как бы покат.
«Черный доктор» за мускатом
Кажется продолговатым,
И коньяк не пропустить
С лошадиным ароматом.
А шампанским всё запить.
Ну какой я дегустатор!
Жизнь прекрасна, так и быть.
А. Штейнбергу
III
Греческую мифологию
Больше Библии люблю,
Детскость, дерзость, демагогию,
Верность морю, кораблю.
И стесняться многобожия
Ни к чему: что есть, то есть.
Лес дубовый у подножия
Приглашает в гору лезть.
Но и боги сходят запросто
Вниз по ласковой тропе,
Так что можно не карабкаться —
Сами спустятся к тебе.
О, какую ношу сладкую
Перенес через ручей!
Ветвь пробьется под лопаткою,
Плющ прижмется горячей.
И насколько ж ближе внятная
Страсть влюбленного стиха,
Чем идея неопрятная
Первородного греха.
Быть может, эта жизнь – одно стихотворенье
С цветами на столе, любовью и бедой,
И спросят наше мненье
О нем за гранью дней, за сумрачной чертой,
И автором не гнев, не блажь, а вдохновенье
Владело, – просто мы не поняли с тобой.
Прекрасные стихи несчастий не боятся,
Не портят слезы их,
Безумье им идет, как сладкий дух акаций,
Застойный, посреди приморских мостовых,
Чуть-чуть они горчат, – не стоит огорчаться:
Ну, рухнул, ну, поник, ну, умер, ну, затих.
И мы, когда стихи с тобой читали ночью,
С запинкой, наизусть, на помощь приходя
Друг другу, разве мы не чувствовали: точно,
Они сильней дождя,
Шумящего в саду, угрюмее, чем ключья
Туч, теплится заря, их кромку золотя?
И в этом смысле те, кто рано умирали,
Как Шелли или Китс,
В отличие от нас, всё это понимали,
И Лермонтов звездой пронесся, а не скис,
Не тратясь на детали,
Постигнув суть вещей, отвергнув компромисс.
Фету кто бы сказал, что он всем навязал
Это счастье, которое нам не по силам?
Фету кто бы сказал, что цветок его ал
Вызывающе, к прядкам приколотый милым?
Фету кто бы шепнул, что он всех обманул,
А завзятых певцов, так сказать, переплюнул?
Посмотреть бы на письменный стол его, стул,
Прикоснуться бы пальцем к умолкнувшим струнам!
И когда на ветру молодые кусты
Оживут, заслоняя тенями тропинку,
Кто б пылинку смахнул у него с бороды,
С рукава его преданно сдунул соринку?
Всё знанье о стихах – в руках пяти-шести,
Быть может, десяти людей на этом свете:
В ладонях берегут, несут его в горсти.
Вот мафия, и я в подпольном комитете
Как будто состою, а кто бы знал без нас,
Что Батюшков, уйдя под воду, вроде Байи,
Жемчужиной блестит, мерцает, как алмаз,
Живей, чем все льстецы, певцы и краснобаи.
И памятник, глядишь, поставят гордецу,
Ушедшему в себя угрюмцу и страдальцу,
Не зная ни строки, как с бабочки, пыльцу
Стереть с него грозя: прижаты палец к пальцу —
И пестрое крыло, зажатое меж них,
Трепещет, обнажив бесцветные прожилки.
Тверди, но про себя, его лазурный стих,
Не отмыкай ларцы, не раскрывай копилки.
Бок отлежишь, затечет ли рука, —
Памятником сам себе на минуту
Станешь и чувствуешь: честь велика!
О, никогда, слава богу, не буду
Медным! Так вот каково им стоять
В бронзе! Попробовал, звонкий и полый,
Даже не весь, инвалиду под стать,
Только с ногою, как в гипсе, тяжелой.
Нет уж. Пиши, но похуже. Живи,
Пользуясь случаем, жадно и жарко.
Хвойные эти иголки в крови,
Может быть, то же, что мертвым – припарка.
Поступью каменной пару шагов
Сделал – и вижу: величье – увечье.
Если уж брать, то пример с облаков:
Что-то в них, призрачных, есть человечье.
Я старости боюсь: она стихов не хочет,
Стыдится их, брюзжит, а коль сама их пишет,
То сна они бледней и выжимки короче,
И бедный их узор бесцветной ниткой вышит.
И жаждет простоты! Уж лучше б воровала!
Скупа она, скучна и так афористична,
Что все ее стихи как раз для пьедестала.
Смешно на нем стоять! Опомнись: неприлично!
Дождем тебя зальет, плечо изгадит птица.
Когда ослабит жизнь горячее объятье,
Не страшно умереть, а страшно превратиться
В хранилище добра и мудрости исчадье.
Поэтов надо в лес на санках, как эвенки,
Свозить, когда им лет под семьдесят, чтоб фальши
Не слышать, пусть сидят, уткнув лицо в коленки,
Под семьдесят, в глухом лесу, а то и раньше!
Стихи – архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас по́ утру, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.
Прощай, речь мерная! Тебе на смену проза
Пришла, и музы-то у опоздавшей нет,
И жар лирический трактуется как поза
На фоне пристальных журналов и газет.
Я пил с прозаиком. Пока мы с ним сидели,
Он мне рассказывал. Сюжет – особый склад
Мировоззрения, а стих живет без цели,
Летит, как ласточка, свободно, наугад.
И третье, видимо, нельзя тысячелетье
Представить с ямбами, – зачем они ему?
Всё так. И мало ли о чем могу жалеть я?
Жалей, не жалуйся, гори, сходя во тьму.
В новом веке
Летучая гряда (2000)
Иван-чай«Скучно, Гоголь, жить на этом свете!..»
В окне вагонном под откосами
Мелькает призрак иван-чая.
Кем надо быть, чтоб этот розовый
Цвет миновать, не замечая?
Ну что ж вы, русские художники,
Народолюбцы, интроверты,
Где ваши грубые треножники,
Чернорабочие мольберты?
Не скучно ль явкою с повинною
Жить, узкогрудым интересом?
«Бывало, шла походкой чинною
На свист и шум за ближним лесом…»
Не жаль вам заросли лиловые,
Сиреневатые наплывы
Отдать французам, бестолковые
И безыдейные мотивы?
И всё по смерть ходить, как по воду,
Всё тьма, «столыпин» да теплушка…
«Я понял, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка».
Всё по убийственному, этому,
Слепорожденному, глухому,
Напрасно в розовый одетому,
В лиловый, в летнюю истому.
«Сначала ввязаться в сраженье…»
Скучно, Гоголь, жить на этом свете!
Но повеет медом иногда
От пушистых зонтичных соцветий! —
Чудно жить на свете, господа!
Господа посматривают косо,
Хмуро, кисло, заняты другим.
А еще дымком от тепловоза
Вдруг пахнёт и паром полевым.
Он ползет, грязнуля и неряха,
Из Полтавы, может быть, Орла,
Словно пылкость взял у Шлипенбаха,
И пыхтит, и воет, как пчела.
Ах, и сам я мрачностью страдаю
И всю жизнь с собой борюсь.
Отбивайся! Лезь в Петрову стаю!
Кипятись, как Боур или Брюс!
Лучший способ, может быть, и метод
Жить среди печалей и обид,
Не сдаваясь: сдашься – кто за этот
Сладкий пар и запах постоит?
«Так быстро ветер перелистывает…»
Сначала ввязаться в сраженье, ввязаться в сраженье!
А там поглядим – говорил молодой Бонапарт.
Но пишется так же примерно и стихотворенье,
Когда вдохновенье ведет нас и, значит, азарт!
А долгие подступы, сборы, рекогносцировка, —
Позволь мне без них обойтись, отмахнуться позволь:
Так скучно, по пунктам, что даже представить неловко,
Пускай диспозицию Беннигсен пишет и Толь.
Шумите, кусты! Хорошо превратить недостаток
В достоинство. Мчитесь как можно быстрей, облака!
Короче, – твержу я себе. И всегда был я краток.
Тоска обжигала. И радость была велика.
«Верю я в Бога или не верю…»
Так быстро ветер перелистывает
Роман, лежащий на окне,
Как будто фабулу неистовую
Пересказать мечтает мне,
Так быстро, ветрено, мечтательно,
Такая нега, благодать,
Что и читать необязательно,
Достаточно перелистать.
Ну вот, счастливое мгновение,
И без стараний, без труда!
Все говорят, что скоро чтение
Уйдет из мира навсегда,
Что дети будут так воспитаны, —
Исчезнут вымыслы и сны…
Но тополя у нас начитанны
И ветры в книги влюблены!
«Первым на сцену является…»
Верю я в Бога или не верю в бога,
Знает об этом вырицкая дорога,
Знает об этом ночная волна в Крыму,
Был я открыт или был я закрыт ему.
А с прописной я пишу или строчной буквы
Имя его, если бы спохватились вдруг вы,
Вам это важно, Ему это всё равно.
Знает звезда, залетающая в окно.
Книга раскрытая знает, журнальный столик.
Не огорчайся, дружок, не грусти, соколик.
Кое-что произошло за пять тысяч лет.
Поизносился вопрос, и поблёк ответ.
И вообще это частное дело, точно.
И не стоячей воде, а воде проточной
Душу бы я уподобил: бежит вода,
Нет – говорит в тени, а на солнце – да!
«Однажды на вырицкой даче…»
Первым на сцену является белый шиповник,
Чтобы, наверное, знали, кто первый любовник,
О, как он свеж, аккуратен и чист, – как Пьеро!
Вот кто, наверное, всех обольщений виновник,
Снов и иллюзий: печаль и сплошное добро!
Он не отцвел еще, как зацветает махровый,
Душный, растрепанный, пышный, свекольно-лиловый,
Так у художников в ярком трико Арлекин
Смотрит с полотен, всё в скользкую шутку готовый
Вдруг обратить, ненадежный такой господин.
Третьим приходит, как шелк ослепительно-алый,
С желтой середкой рассеянный гость запоздалый,
Нами любимый всех больше и дикой пчелой.
Кто им порядок такой предписал, тот, пожалуй,
Знает, что делает, прячась за вечною мглой.
Однажды на вырицкой даче, в компании шумной,
Я был поражен приоткрывшимся видом на реку,
С какой-то неслыханной грацией полубезумной
Лежавшей внизу и смотревшей в глаза человеку,
Как будто хозяин держал у себя под обрывом
Туманную пленницу втайне от всех, за кустами,
Турчанку, быть может, и прятал глаза, и счастливым
Был, и познакомить никак не хотел ее с нами.
Поэтому в дом пригласил и показывал комнат
Своих череду затененных, с кирпичным камином:
«Легко нагревается и хорошо экономит
Дрова» – и вниманье привлечь к полутемным картинам
Хотел, и на люстре дрожали густые подвески,
И плотными шторками окна завешены были,
Вином угощал нас, чтоб мы позабыли о блеске,
Мерцанье в саду – и его ни о чем не спросили.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































