Текст книги "Таврический сад: Избранное"
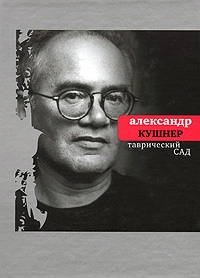
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
«Быть нелюбимым! Боже мой…»
Живу ли я? жива ли ты?
Полночный ветер гнет кусты
И дышит с посвистом простудным.
И лишь свиданье в некий час,
Быть может, убедило б нас
В существованье обоюдном.
Что есть разлука? Ночи тьма!
О Тютчев, Тютчев, смерть сама
Во мраке льнет ко мне, тоскуя…
Как дико воют поезда
От непосильного труда,
Твой хаос нам организуя!
«С утра по комнате кружа…»
Быть нелюбимым! Боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.
Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.
Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дождаться.
Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.
Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!
«Показалось, что горе прошло…»
С утра по комнате кружа,
С какой готовностью душа
Себе устраивает горе!
(Так лепит ласточка гнездо.)
Не отвлечет ее ничто
Ни за окном, ни в разговоре.
Напрасно день блестящ и чист, —
Ее не манит клейкий лист,
Ни стол, ни книжная страница.
Какой плохой знаток людей
Сказал, что счастье нужно ей?
Лишь с горем можно так носиться.
«Нет, не привет, а так, туманный…»
Показалось, что горе прошло
И узлы развязались тугие.
Как-то больше воды утекло
В этот год, чем в другие.
Столько дел надо было кончать,
И погода с утра моросила.
Так что стал я тебя забывать,
Как сама ты просила.
Дождик шел и смывал, и смывал
Безнадежные те отношенья.
Раньше в памяти этот провал
Называли: забвенье.
Лишь бы кончилось, лишь бы не жгло,
Как бы ни называлось.
Показалось, что горе прошло.
Не прошло. Показалось.
«Возьми меня, из этих комнат вынь…»
Нет, не привет, а так, туманный
Слух о тебе, немного странный,
Как всякий слух, почти что вздох.
Почти что взмах рукою. Шепот.
Так, полушелест, полуропот.
Должно быть, вздор. Или подвох.
Нет, не тоска, а так, сомненье.
Полупечаль, полусмущенье.
Руки дрожанье у виска.
Нет, не тоска, скорее жалость.
Скорей отчаянье, усталость,
И стыд, и мука, и тоска.
«В черной трубке услышав отбой…»
Возьми меня, из этих комнат вынь,
Сдунь с площадей, из-под дворовых аро
Засунь меня куда-нибудь, задвинь,
Возьми назад бесценный свой подарок!
Смахни совсем. Впиши меня в графу
Своих расходов в щедром мире этом.
Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу
Надтреснутая. Но и ты – с приветом!
«Прощай, любовь…»
В черной трубке услышав отбой,
Надо было с дрожащей губой
Выйти молча в пустой коридор,
Дверью хлопнуть, спуститься во двор,
Пробежать среди пестрых теней
От кипящих его тополей,
Сесть в любой Сумасшедший трамвай
И покинуть свой город и край,
Материк, вообще шар земной —
Всё оставить навек за спиной.
Прощай, любовь!
Прощай, любовь, была ты мукой.
Платочек белый приготовь
Перед разлукой,
И выутюжь, и скомкай вновь.
Какой пример,
Какой пример для подражанья
Мы выберем, какой размер?
Я помню чудное желанье
И пыль гостиничных портьер.
Не помню, жаль.
Не помню, – жаль, оса, впивайся.
Придумать точную деталь
И, приукрася,
Надсаду выдать за печаль?
Сорваться в крик?
Сорваться в крик, в тоске забиться?
Я не привык.
И муза громких слов стыдится.
В окне какой-то писк возник.
Кричит птенец.
Кричит птенец, сломавший шею.
За образец
Прощание по Хемингуэю
Избрать? Простились – и конец?
Он в свитерке,
Он в свитерке по всем квартирам
Висел, с подтекстом в кулаке.
Теперь уже другим кумиром
Сменен, с Лолитой в драмкружке.
Из всех услад,
Из всех услад одну на свете
Г. Г. ценил, раскрыв халат.
Над ним стареющие дети,
Как злые гении, парят.
Прощай, старушка, этот тон,
Мне этот тон полупристойный
Претит, ты знаешь, был ли он
Мне свойствен или жест крамольный.
Я был влюблен.
Твоей руки,
Твоей руки рукой коснуться
Казалось счастьем, вопреки
Всем сексуальным революциям.
Прощай. Мы станем старики.
У нас в стране,
У нас в стране при всех обидах
То хорошо, что ветвь в окне,
И вздох, и выдох,
И боль, и просто жизнь – в цене.
А нам с тобой,
А нам с тобой вдвоем дышалось
Вольней, и общею судьбой
Вся эта даль и ширь казалась —
Не только чай и час ночной.
Отныне – врозь.
Припоминаю шаг твой встречный
И хвостик заячий волос.
На волос был от жизни вечной,
Но – сорвалось!
Когда уснем,
Когда уснем смертельным, мертвым,
Без воскрешений, общим сном,
Кем станем мы? Рисунком стертым.
Судьба, других рисуй на нем.
Поэты тем
И тяжелы, что всенародно
Касаются сердечных тем.
Молчу, мне стыдно, ты свободна.
На радость всем.
«Любовь свободна, мир чаруя,
Она законов всех сильней».
Певица толстая, ликуя,
Покрыта пудрой, как стату́ я.
И ты – за ней?
Пускай орет на всю округу.
Считаться – грех.
Помашем издали друг другу.
Ты и сейчас, отдернув руку,
В кафе
Прекрасней всех!
«Проснусь – не пойму поначалу…»
В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любуется он
На мизинце своем волосатом.
Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек, – он говорит, – позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».
Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.
Он волшебный! Хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом —
И пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.
Повернуть бы еще раз – и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень… на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?
А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень – но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется – мало!
То ли рыжего друга в дверях увидать?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?
«Люблю глаза твои с лиловой синевой…»
Проснусь – не пойму поначалу,
Куда я лежу головой.
Как будто меня укачало
В тяжелой дороге ночной.
Как будто меня оглушили
Настойкой, отравой из трав.
Как будто меня раскружили,
Салфеткой глаза завязав.
Где двери? И окна? И стены?
Об угол ударившись лбом,
В себя прихожу постепенно
И вот понимаю с трудом:
Душа возвращается в тело
И в спешке, набегавшись всласть,
В ту лунку, где прежде сидела,
Как в лузу, не может попасть.
«Овеет тишиной и лесом темнокрылым…»
Люблю глаза твои с лиловой синевой.
И впрямь фиалковый, оттенок их так редок.
Хоть это, может быть, просвечивает слой
В фусцин окрашенных эпителиальных клеток.
Но боль, которую внушают мне они,
И память, связанную с морем и брезентом,
Не снимешь знанием, доступным в наши дни.
И суть страдания не объяснишь пигментом.
«В тот год я жил дурными новостями…»
Овеет тишиной и лесом темнокрылым.
Но я ее боюсь, она мне не по силам.
Пружинит под ногой затопленный настил.
Есть силы на тоску – на облачко нет сил.
И яркий василек на срезе известковом
Мне сердце голубым сжимает и лиловым.
Припасть к ее груди – потребует в ответ
Невыплаканных слез, которых больше нет.
«Люблю пророчество о том…»
В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.
И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.
«Та музычка, мотивчик тот…»
Люблю пророчество о том,
Что будет барс дружить
С козленком,
А вол со львом,
И все – с ребенком,
Который будет их водить.
И этот цирк передвижной
Пойдет гулять по белу свету
В то время, как меня с тобой
Как раз потребуют к ответу.
«Взметнутся голуби гирляндой черных нот…»
Та музычка, мотивчик тот,
За мною бегавший весь год,
Отстал – и сразу тихо стало!
К чему бы это? Хвать-похвать,
А где любовь? А не слыхать!
Вчера была и вдруг – пропала.
Так у великих катастроф —
Землетрясений, ледников —
Есть спутник темный, признак дальний,
Пустяк какой-нибудь, штришок,
Так, кое-кто, один дружок,
Сверчок, сморчок, браток нахальный.
«Исследовав, как Критский лабиринт…»
Взметнутся голуби гирляндой черных нот.
Как почерк осени на пушкинский похож!
Сквозит, спохватишься и силы соберешь.
Ты старше Моцарта, и Пушкина вот-вот
Переживешь.
Друзья гармонии, смахнув рукой со лба
Усталость мертвую, принять беспечный вид
С утра стараются, и всё равно судьба
Скупа, слепа,
К ним беспощадная, зато тебя щадит.
О, ты-то выживешь! Залечишь – и пройдет.
С твоею мрачностью! Без слез, гордясь собой,
Что сух, как лед.
А эта пауза, а этот перебой —
Завалит листьями и снегом заметет.
С твоею тяжестью! Сырые облака
По небу тянутся, как траурный обоз,
Через века.
Вот маска с мертвого, вот белая рука —
Ничто не сгладилось, ничто не разошлось.
Они не вынесли, им не понятно, как
Живем до старости, справляемся с тоской,
Долгами, нервами и ворохом бумаг…
Музейный узенький рассматриваем фрак,
Лорнет двойной.
Глядим во тьму.
Земля просторная, но места нет на ней
Ни взмаху легкому, ни быстрому письму.
И всё ж в присутствии их маленьких теней
Не так мучительно, не знаю почему.
«Всё, что дальше, как бы сверх программы…»
Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.
Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире – та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.
От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.
Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,
Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.
Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.
Звонит мне под вечер приятель, дуя в трубку.
Плохая слышимость. Всё время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?»
О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз
Водою в шлюзе,
Всё прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.
Всё, что дальше, как бы сверх программы:
И стихи, и слезы, и труды,
И Осмеркин, лезущий из рамы
Посмотреть на ржавые кусты.
И ночная ласка – сверх лимита,
По счастливой слабости судьбы.
И над речкой – моль, эфемерида,
И в аллеях – жесткие дубы.
И в передней сваленные шубы,
И бокал, повернутый к огню,
И цветы, и разве смотрят в зубы,
Обнаглев, дареному коню?
Голос (1978)
Рваные строфы
Дунай, теряющий достоинство в изгибах,
Подобно некоторым женщинам, мужчинам,
Течет, во взбалмошных своих дубах и липах
Души не чая, пристрастясь к веселым винам.
Его Бавария до Австрии проводит,
Он покапризничает в сумасбродной Вене,
Уйдет в Словакию, в ее лесах побродит
И выйдет к Венгрии для новых впечатлений.
Всеобщий баловень! Ни войны, ни затменья
Добра и разума не омрачают память,
Ни Моцарт, при смерти просивший птичье пенье
В соседней комнате унять и свет убавить.
Вертлявый, влюбчивый, забывчивый, заросший
В верховьях готикой, в низовьях камышами,
И впрямь, что делал бы он с европейским
прошлым,
Когда б не будущее, посудите сами?
Что ж выговаривать и выпрямлять извивы,
Взывать к серьезности, – а он и не старался!
А легкомыслие? – так у него счастливый
Нрав, легче Габсбургов, и долго жить собрался.
Для полного блаженства не хватало
Руин, их потому и возводили
В аллеях из такого матерьяла,
Чтобы они на хаос походили,
Из мрамора, из праха и развала,
Гранитной кладки и кирпичной пыли.
И нравилось, взобравшись на обломок,
Стоять на нем, вздыхая сокрушенно.
Средь северных разбавленных потемок
Всплывал мираж Микен и Парфенона.
Татарских орд припудренный потомок
И Фельтена ценил, и Камерона.
Когда бы знать могли они, какие
Увидит мир гробы и разрушенья!
Я помню с детства остовы нагие,
Застывший горя лик без выраженья.
Руины… Пусть любуются другие,
Как бузина цветет средь запустенья.
Я помню те разбитые кварталы
И ржавых балок крен и провисанье.
Как вы страшны, былые идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!
Вот человек, похожий на руину.
Зияние в его глазах разверстых.
Такую брешь, и рану, и лавину
Не встретишь ты ни в Дрезденах, ни в Брестах.
И дом постыл разрушенному сыну,
И нет ему забвения в отъездах.
Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.
В развале этом, правильно-дотошном,
Зачем искать другой, кроваво-ржавый?
Мы знаем, где искать руины: в прошлом.
А будущее ни при чем, пожалуй.
Сгинь, призрак рваный в мареве сполошном!
Останься здесь, но детскою забавой.
Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломным сознаньем и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните… ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: – Нельзя ли без нервов?
– Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
– Ты припомнил бы мне еще тапки.
– Ведь девятое только число, —
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.
Я шел вдоль припухлой тяжелой реки,
Забывшись, и вздрогнул у моста Тучкова
От резкого запаха мокрой пеньки.
В плащах рыбаки
Стояли уныло, и не было клева.
Свинцовая, сонная, тусклая гладь.
Младенцы в такой забываются зыбке.
Спать, глупенький, спать.
Я вздрогнул: я тоже всю жизнь простоять
Готов у реки ради маленькой рыбки.
Я жизнь разлюбил бы, но запах сильней
Велений рассудка.
Я жизнь разлюбил бы, я тоже о ней
Не слишком высокого мнения. Будка,
Причал, и в коробках – шнурочки червей.
Я б жизнь разлюбил, да мешает канат
И запах мазута, веселый и жгучий.
Я жизнь разлюбил бы – мазут виноват
Горячий. Кто мне объяснит этот случай?
И липы горчат.
Не надо, оставьте ее на меня,
Меня на нее, отступитесь, махните
Рукой, мы поладим: реки простыня,
И складки на ней, и слепящие нити
Дождливого дня.
Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне.
Как будто прикручен к ней этим канатом.
Не наговорились. В прихожей, рукой
С четвертой попытки в рукав попадая,
О Данте, ни больше ни меньше, с такой
Надсадой и страстью заспорить: – Ни рая,
Ни ада его не люблю. – Подожди,
Как можно… – (И столько же тщетных попыток
Открыть без хозяина дверь, позади
Торчащего.) – Вся эта камера пыток
Не может нам искренне нравиться. – Он
Подобен Всевышнему. – Что же так скучен?
– Ну, знаешь… – И с новым запалом вдогон
Трясущему дверь: – Если ты равнодушен,
То это не значит еще… И потом,
Он гений и мученик. – В чьем переводе
Читал ты его? Где мой зонт? – Не о том
Речь, в чьем переводе. Подобен породе
Гранитной, с вкрапленьями кварца, слюды.
И магма метафор, и шахта сюжета.
Вот зонт. Кстати, в моде складные зонты.
– Твой мрамор и шпат – из другого поэта,
Не Данте нашедшего в них, а себя,
Черты своего становленья и склада.
По-моему, век наш, направо губя
Людей и налево, от Дантова ада
Наш взор отвратил: зарывали и жгли
И мыслимых мук превзошли варианты…
Опомнюсь. Мы, что, подобрать не могли
Просторнее места для спора о Данте?
Высокая нота
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.
Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
Голос – это работа души,
Это воздух, озвученный нами.
Это нёбные ниши, кряжи,
Альвеолы и зубы с губами.
Как на корочке хлебной прикус,
На горячей болванке воздушной
Отпечатан характер и вкус,
Грузный облик наш или тщедушный.
Соловей перебьет соловья,
Запоют – основной и резервный, —
И не знаю, заслушавшись, я,
Где теперь тут второй, а где первый.
А для наших земных голосов
Нет замены – высокий ли, тусклый,
Он один: нет ему двойников
На звучащей шкале этой узкой.
И последним сдается – сперва
Вянет почерк и волос тускнеет.
И на что-то надежда жива
В нем, когда уже кровь холодеет.
Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.
Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть, что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.
Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет. Он плачет.
Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье поблизости, в том, что привычно,
Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, каменея, к Харону вторично.
Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.
Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.
В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.
Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадать и опять, становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.
О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.
И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.
Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.
Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственней всего.
Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.
Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвесть:
– Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, – скажет, – есть.
И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.
Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.
Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.
Как мир качается – держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственней еще?
Вот женщина: пробор и платья вырез милый.
Нам кажется, что с ней при жизни мы в раю.
Но с помощью ее невидимые силы
Замысливают боль, лелея смерть твою.
Иначе было им к тебе не подступиться,
И ты прожить всю жизнь в неведении мог.
А так любая вещь: заколка, рукавица —
Вливают в сердце яд и мучат, как ожог.
Подрагиванье век и сердца содроганье,
И веточка в снегу нахохлилась, дрожа,
И жаль ее, себя и всех. Зато в страданье,
Как в щелочной воде, отбелится душа.
Не спрашивай с нее: она не виновата,
Своих не слышит слов, не знает, что творит,
Умна она, добра, и зла, и глуповата,
И нравится себе, и в зеркальце глядит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































