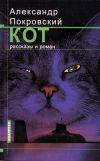Текст книги "Пропадино. История одного путешествия"

Автор книги: Александр Покровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Что придумал?
– Кто придумал, как нам деньги получать? А?
– Ну и кто же это все придумал, интересно узнать?
– Я. Ваш покорный слуга. Перепись, перепись – что в ней толку? А вот возроди былые деревни – вот и появился толк. И заметьте, все жители в доле. Тут уж никто не выдаст. Все получают свой небольшой, но очень вкусный кусочек, и все довольны. Мы построили общество, в котором все в доле и все довольны. Вот извольте послушать.
Достин Достинович опять раскрыл книгу:
– «Жители в порыве восторга вспоминали свои вольности», или: «Руководимые не столько разумом, сколько движением испуганного сердца», или: «Космий Горбатович сжег гимназию, сам питался лягушками, признавая их за единственно правильную пищу». Видите? Люди писали все это от недовольства властью. А пишут ли они так теперь? Нет. Наступила-таки эра просвещенного консерватизма. А почему она наступила? А потому, что мы получаем деньги на несуществующие населенные пункты. Вот для чего нужен, очень нам нужен исторический переучет населения! Население от него увеличивается, и, соответственно, растут наши расходы. Растут расходы – растут и приходы. История, таким образом, становится приходом…
– Достин Достинович, – вдруг сказал я, – а вы не боитесь мне все это рассказывать?
Тот в который раз усмехнулся:
– Не боюсь. Я же вам уже говорил. Вы же не ревизор. Отнюдь. Это я понял сразу же, как только увидел вас. Вы заблудились. А заблудших лучше всего выводят на свет денежки. То ли те денежки, что обещаны, то ли те, что возможно тут потерять.
– Как это потерять? – спросил я с некоторой неуверенностью в голосе.
– А так. Вас же еще у нас не судили?
– Не судили.
– Так осудят. В суд вас обязательно поволокут.
– Как это – поволокут?
– Волоком, батенька, волоком, ежели понадобиться. И суд во всем разберется. Даже в том, что на первый взгляд очевидно. Хотя, я полагаю, очевидное доказывать в суде сложнее всего. Так мне все это видится. Обязательно будут судить. Непременно будут.
– А за что ж меня судить?
– «За что», мил человек, не судят. Судят тогда, когда не за что судить. Не убил, не украл – в суд.
– А убил и украл?
– А вот с этими случаями гораздо сложнее. Это годами судится. А в вашем случае – полчаса. Полчаса – и вы уже осужденный. Это нам тьфу. Да вы не расстраивайтесь. Все наладится. А хотите, я вам еще почитаю?
Не дожидаясь моего согласия, Достин Достинович поправил очки, и продолжил чтение.
– «Действительный тайный советник Турмалинов, летающий по ночам во сне, однажды пропал. Утром был обнаружен в саду, дрожа кожей», или: «Вахмистров Тоний Тамбулович был охоч до зрелищ. На очередном был растерзан собственными собаками», и: «Он всегда порол себя сам». «Сосний Гамбитович был сослан, бит кнутом, опять сослан и опять бит. Вернули с дороги, назначили с повышением. Проворовался в дым. Сослали с вырыванием ноздрей. Вернули и назначили главным казначеем государства, а также и Верховным судьей. Умер от обжорства с вывернутыми руками. По свидетельству медиков, таковое положение рук бывает, ежели человек к чему-либо в последний свой миг очень тянется».
Вот оно – тянется. Тянется-потянется. Ведь отчего страдали ранее? От воровства. А отчего страдают ныне? От недостатка населения. Нарисовал население – и нет обычного воровства.
– Есть необычное, – не удержался я.
Достин Достинович снял очки и задумчиво на меня посмотрел:
– А вы не так глупы, юноша, не так глупы. И вполне возможно, что начальство опасается вас не зря. Но не верю я в таких вот посланцев. Незачем. Легче денег дать – и с глаз долой. И каждый занят своим делом. Ведь чуть затор, так и первый вопрос: сколько вам надо денег, а тут и вопросов никаких нет. Так чего ж ворошить? Или жизнь не мила? Всех же все устраивает. И Пропадино не просит более того, что может съесть. А начни разбираться да все тут менять – глядишь, и дороже встанет.
– Так вы, Достин Достинович, с таким подходом в золоте должны бы купаться, – не утерпел я.
– Вовсе нет, душа моя, – улыбнулся Достин Достинович, – вовсе нет. Если б я купался, то это было б от глупости. Я же, как мне кажется, из ума пока не выжил. История учит сдержанности, компромиссу, умеренности. Мне всего лишь и надо, чтоб она была, история наша.
– Во множестве вариантов, – вставил я.
– Совершенно справедливо, друг мой, совершенно справедливо. Конечно. Именно. Во множестве. Вдумайтесь: самодержавие, православие, народность. А под народностью понимается любовь. К начальству, разумеется. К попам еще не ходили? Нет? Сходите как-нибудь. Они первыми мои старания поддержали. Далеко не глупы у нас попы. Далеко не глупы. А и с чего бы им глупыми быть, скажите на милость? Подвижники и святые в земле давно, кто тлеет, кто не тлеет, кого достали, и он теперь миррой сочится – остальным остается только умнеть да языки иностранные штудировать. На всякий случай. Случай – он же обязательно всяким будет. Случай случается. Справедливо и встречное предложение: случается только случай. Однако вам пора.
– Куда пора? – спросил я.
Достин Достинович посмотрел на меня с теплотой и участием:
– В суд, мил человек, в суд! Как выйдете – справа по коридору. Да Григорий Гаврилович все знает. Доведет.
В то же мгновение мы оказались за дверью. Я поймал себя на мысли, что совершенно не заметил, как мы с Григорием Гавриловичем здесь оказались. То ли выкатились, то ли вышиблись. Спутник мой при этом держал в руке очередную нашу регистрацию и смотрел вполне осознанно. Запахло томностью или я даже не знаю чем, но чем-то, что я бы назвал томностью, и сейчас же на нас налетели фурии, гарпии, словом, кто-то нас подхватил – проклятая темнота общественных коридоров – и поволок.
А потом нас впихнули в залу – огромную, со сводчатыми потолками, обещающими скорбь и дым Отечества.
– Войдите! – сказал кто-то в глубине. – Ближе! Ближе!
Мы подошли ближе, и тут я наткнулся на глаза – они смотрели прямо в меня, прямо в душу, забирались вовнутрь, раскладывали там все по косточкам.
– Ну, как там? – спросил кто-то со стороны.
– Пока смотрю, – ответили глаза.
А потом глаза приблизились, выплыли из темноты, и я увидел женщину в платочке и в темных развевающихся одеждах до пола. Она словно принюхивалась.
– Ничего на нем нет, – сказала женщина, перестав меня нюхать.
– Вот и славно, – отозвалась темнота. – Нет – и судить можно.
– А раз нет ничего, так и суд – самое время.
– Милое дело, милое дело, – пролепетал кто-то.
– Встать! Суд идет! – взвизгнул уже кто-то другой, и сейчас же зажегся свет.
Мы с Григорием Гавриловичем даже зажмурились. Перед нами воздвигался огромнейший стол. За столом на стульях с высоченными спинками сидели три старика в черных мантиях. Полоток залы уходил далеко вверх, заканчиваясь сводами, как в католическом храме. По стенам висели скорбные портреты государственных деятелей, из которых я узнал только Безбородко Александра Андреевича и Нессельроде Карпа Васильевича. Остальные напоминали Кощеев Бессмертных во множестве вариантов. Незамедлительно на ум пришла святая инквизиция.
– Сторона обвинения? – спросил старик, сидящий в середине.
– Я! – к моему глубокому удивлению, воскликнул Григорий Гаврилович.
– Представьтесь! – сказал председательствующий скрипучим голосом.
– Здешний городовой, ваша честь, Бородавка Григорий Гаврилович.
– Очень хорошо! – прожевал старик. – Сторона защиты?
– Это снова я! – отозвался Григорий Гаврилович, чем совершенно не удивил старика.
– Защита сегодня дружит с обвинением, – обратился он с улыбкой к своим соседям, те одобрительно хмыкнули. Старик посуровел.
– Представьтесь! – снова вопросил он.
– Бородавка Григорий Гаврилович, здешний городовой, – снова представился мой сопровождающий.
– На чем основывает свои подозрения обвинение? – спросил председательствующий.
– На интуиции. Чую, ваша честь! Чую всеми своими чувствилищами.
– Чуете чувствилищами? Гм! Наверное, так можно обмолвиться. Это хорошо. Обвинение должно чуять. А на чем основывает свои доводы защита?
– На христианском участии, – не растерялся Григорий Гаврилович.
– На участии? Ну что ж, защите не возбраняется участвовать. Участие, участие, а закончится все участью. А нет ли на нем смертоубийства?
– Нет пока, ваша честь! – отозвался Григорий Гаврилович.
– Вы сейчас как обвинение или как защита выступаете? – строго с него спросилось.
– Как оба!
– Оба? Удивительное единодушие защиты и обвинения. Особенно меня устраивает оговорка «пока». То есть в любой момент…
– Найдем неопознанный труп. Третьего дня квартальный преставился, так его до сих пор невозможно опознать. Вот и будет неопознанный.
– Это очень хорошо. За трупами дело не станет. А что у нас с умыслом? Есть ли умысел?
– Похоже, нет, ваша честь!
– Это вы опять как защита или же как обвинение тут нам представление имеете?
– Как защита, ваша честь!
– А что же нам на это скажет наше обвинение?
– Обвинение считает, что умысел всегда имеется, только он не всякий раз бывает разгадан, – нашелся мой обвинитель.
– И какая же наша при сем задача? – допытывался судья.
– Разгадать умысел!
– Совершенно с вами согласен! – старик в середине обратил свои взоры к соседям направо и налево, и они ему важно кивнули. – Итак, умысел есть, но пока он не разгадан. Я полагаю, что позиция обвинения в этом месте особенно крепка. Лет на пятнадцать потянет, хотя и «пожизненное» исключать никак нельзя.
– Послушайте! – не выдержал я. – Что ж это творится? Я в сумасшедшем доме? Ваша честь, или как вас там, я же сошел не на той станции!!! Всего лишь!!!
– Неуважение к суду! – возвестил сейчас же старший из судей. – Пятнадцать суток ареста!
– Я хотел только…
– Тридцать суток ареста!
– Я…
– Сорок пять суток ареста!
Я решил за лучшее помолчать – так и до года можно дойти.
– Вам, – между тем продолжил старик, – милостивый государь, слова не давали. Будет спрошено – ответите. Защита!
– Я! – отозвался Григорий Гаврилович.

– Обвинение считает, что умысел всегда имеется, только он не всякий раз бывает разгадан, – нашелся мой обвинитель.
– Почему ваш подзащитный не подготовлен к ведению суда?
– Христос… – начал было Григорий Гаврилович свою речь в качестве моего защитника, но его тут же прервали:
– При чем тут Христос?
– Христианское участие… – не сдавался Григорий Гаврилович.
– При чем тут участие? Он помолчать может? Он может не мешать ведению суда?
– Может.
– Я напоминаю об этом в первый и последний раз. Что вы можете сказать о сроках заключения в случае обнаружения умысла? Пятнадцать или же пожизненное?
– Я считаю, что пожизненное заключение – это то, что нужно и даже необходимо.
– Вы это говорите как защитник?
– Как защитник.
– А что нам скажет обвинение?
– А обвинение попросит два пожизненных срока, из которых первый поглотит второй.
– Ах вот оно что? То есть дело за малым – надо найти-таки умысел. Есть ли у обвинения на сей счет какие-либо соображения?
– Есть! Ваша честь, он прибыл из Москвы.
– Вы считаете, что покидание Москвы возможно только при наличии преступного умысла? Или же уже само покидание столицы и есть и умысел, и само преступление?
– Нет, ваша честь, но он выехал из Москвы, достигнув провинции.
– Посещение провинции вы полагаете преступлением?
– Ваша честь, посещение провинции я считаю предлогом, скрывающим сам умысел.
– Так в чем же он, этот самый предлог и умысел, на ваш взгляд, состоит?
– Он состоит в том, что под предлогом посещения провинции обвиняемый прибыл к нам с целью наблюдения, сбора информации.
– Сбора информации о чем?
– О нашем естестве. О нашей жизни, о быте.
– Наш быт вам кажется чем-то секретным, сохранение которого в тайне считается делом государственной важности?
– Я полагаю, что обвиняемый собирал информацию тайно.
– А если б он собирал информацию явно, то и умысла бы не было?
– Умысел был бы, но в этом случае он был бы защищен предписанием.
– То есть наличие предписания, задания, посыла служит оправданием для умысла?
– В этом случае, ваша честь, умысел превращается в волю вышестоящего руководства.
– Правильно ли я вас понял, что любой умысел, санкционированный вышестоящим руководством, является не преступлением, а благодеянием?
– Совершенно верно, ваша честь.
– Ну что ж, в этом, по крайней мере, есть своя логика. Итак, умысел – тайный сбор информации. Чем обвинение подтвердит это свое заявление?
– Вот! – и с этими словами Григорий Гаврилович, к моему немалому удивлению, сделал вперед несколько деревянных шагов и положил на стол перед судьей кучу моих «регистрации».
– Ну, – председательствующий внимательно с ними ознакомился, – и что с того-с? Это принятая у нас норма – регистрировать всех прибывших и отмечать их перемещение. В чем тут умысел и тайный сбор?
– Извольте видеть, кого он посещал.
– Он посещал того, к кому его вели, насколько я все это понял. Вы вели – он посещал. Где соглядатайство?
– В том и весь смысл, ваша честь, что умелыми действиями вашего покорного слуги деятельность обвиняемого была направлена по предсказуемому следу и не принесла большого урона государственному укладу.
– Ах вот оно что! Ну, с этим вас можно поздравить. Действительно, если рассматривать дело с этой стороны, то вовремя пресечь – это и есть наше главное предназначение. И все-таки хотелось бы знать – теоретически, разумеется, – к чему же, собственно, стремился обвиняемый, так ловко направленный вами по ложному следу?
– Он стремился в Грушино!
– Грушино? Надо же! У нас есть это место?
– И да и нет, ваша честь!
– Что сие означает?
– Место отыскалось только на старинных картах как временно приданное нашему району, но после – исключенное из него.
– Ах тут мы еще и имеем поддельные карты? Быть может, там отыщутся и искаженные термины?
– Термины?
– Именно. Нет опасней преступления, чем искажение терминов. Например, вы говорите «вода», а в самом-то деле имеете в виду смесь воды с золотом, а потом вы продаете воду под видом воды, а на самом-то деле продаете золото, называя его водой, что приводит к неуплате налогов с золота и уплате их только с воды. Я понятно объяснил?
– Все ясно, ваша честь, но до терминов мы не добрались.
– Можно ли говорить о том, что вы были в опасной близости от них?
– Не думаю, ваша честь.
– А о чем вы думаете? О том, что посещение Грушина есть преступление?
– Нет, но преступление есть под видом посещения Грушина…
– Тут вы повторяетесь, я полагаю, заговариваетесь, а надо жестче, четче: умысел – и точка!
– То есть…
– Я полагаю, что умысел доказан. Предлагаю обсудить такую меру пресечения, как пожизненное заключение, а то мы тут до скончания века будем рядить – было или же не было.
– Совершенно справедливо, ваша честь!
– Итак, было, установлено, пресечено. Мера пресечения – пожизненное заключение под стражу. Защита?
– Защита согласна, ваша честь.
– Последнее слово предоставляется обвиняемому.
И тут до меня доходит, что обвиняемый – это же я! Весь этот, с позволения сказать, суд, я продержался в каком-то небывалом оцепенении и даже в отупении, и теперь выходило так, что мне предоставлялось последнее слово.
– Я даже не знаю, что и сказать… – выдавил я из себя, удивившись вырвавшимся звукам.
– Ну скажите что-нибудь, не сидеть же нам всем тут вечно! – председательствующий и судьи уставились на меня. – Чем быстрее вы сообразите, тем быстрее мы отправимся на совещание для вынесения приговора.
– Мне кажется, что вы совершаете ошибку, – выдохнул я, сердце мое колотилось, пот отовсюду лил.
В этот самый момент двери того помещения, где все это и происходило, широко распахнулись, и в них вошел человек.
– Постойте! – воскликнул он прямо с порога. – Что тут происходит? Что тут творится?
Я немедленно заметил, во что он был одет. Видите ли, я находился в таком полуобморочном состоянии, что почему-то замечал всякую ерунду. На нем был старинный мундир, не знаю, какого полка, вышитый золотом. Все присутствующие отнеслись и к его появлению, и к тому, что он сказал после, с большим почтением.
– Здесь, Ваше Превосходительство, происходит суд – творится независимое судебное производство, коим впоследствии обвиняемый превратится в осужденного, – возвестил ему председательствующий.
– Вы, что с ума все посходили? – воскликнул вновь прибывший голосом старушки-проценщицы.
– Но вы же сами, Ваше Превосходительство… – начал было председатель суда, но ему не дали докончить.
– Вы сошли все с ума! – прибывший был вне себя от ярости. – Господи! Заставь дурака… Вы вконец все обезумели? Я едва успел! Не вмешайся я… трудно даже представить, что бы тут произошло.
– Ну почему же трудно себе даже представить… – начал было председательствующий, но его прервали.
– Молчите!!! – Его Превосходительство (целовать его в плечо некому) просто уже даже вопил. – Молчите!!!
– Но вы же не знаете… – не сдавался председатель.
– Все я знаю! В кои веки к нам из самой Москвы приезжает человек по совершенно невинному поводу – посетить какое-то совершенно ничтожное место…
– Грушино, – вставил один из судей.
– Вот именно! Грушино! Ну сошел человек не на той станции, ну и что? Господи, боже ж ты мой! Ну и что, я вас спрашиваю!!!
– Так было же предписание… – ожил Григорий Гаврилович.
– Вот вы мне еще чего-нибудь вспомните! – яростно зыркнул на него тот, в золоте. – На какой стадии находится теперь судопроизводство?
– На стадии вынесения приговора, – судья смотрел строго.
– Вот и выносите его.
– Но мы же должны удалиться для совещания.
– Ничего, – злорадно заметил Его Превосходительство, – выносите его здесь, а я послушаю.
– Ну что ж! – председательствующий обратил свой взор направо – там он получил кивок, и налево – там он получил еще один кивок. – Вердикт нашего суда: он не виновен и должен быть освобожден в зале суда.
– Ах! – Его Превосходительство немедленно расцвел, подхватил меня, совершенно оторопелого, под ручку и чуть ли не вынес на собственных руках меня из зала.
– Забудьте о них! – сказал он мне сразу же за дверью сладчайшим голосом, растягивая тонкие губы в лучезарнейшей улыбке. – Да! – с жаром произнес он тут же. – Я же вам до сих пор не представился! Гнобий Гонимович Забодай-Шуйский, глава аппарата Его Высокопревосходительства. А вас как звать-величать?
– Иванов Иван Иванович, – зачем-то сказал я, хотя всю свою жизнь звался Павловым Сергеем Петровичем.
– Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, гневаетесь вы на нас, понимаю, – Гнобий Гонимович заговорил со значением, опуская очи долу, выбрав интонацию сожалительную. – Но полноте! – он взломал себе руки, сделал телом кульбит (точнее, изгиб какой-то совершенно невероятный). – Полноте! – и тут же, успокоившись, продолжил: – Посудите сами, приезжает человек в наш город и сразу же заявляет, что он сошел не на той станции. Согласитесь, все это выглядит не очень убедительно. Но потом, после, после необходимых проверок, предпринятых в нашем аппарате вашим покорным слугой, выясняется и кто вы и зачем вы здесь.
– И зачем же здесь я, Ваше… – я чуть не сказал «преподобие», но вовремя остановился. Язык все еще плохо мне повиновался, ум, видимо, тоже. И потом, они никак не действовали вместе – то ум, то язык.
Гнобий Гонимович посмотрел на меня томно и в то же время проницательно:
– Вы здесь, конечно же, с единственной, но благороднейшей целью, движимы чувствительным сердцем – посетить Грушино, дабы ощутить ликование и надежды, после чего на пустующем месте возникнут науки и искусства, под наблюдением соответствующим, конечно, и надзиранием. Не удержусь от сравнений: Гераклу подобны вы в своем стремлении очистить наши конюшни.
– Я не совсем вас понимаю… – выдавил наконец из себя я.
– Ну конечно же, – продолжал Гнобий Гонимович, почтительно придерживая меня под локоток и увлекая за собой в бесчисленных коридорах, – в том и состоит отданное вам преимущество, что вы прибыли сюда, можно сказать, во все лопатки, с единственной целью: испытать свою восторженность.
– Восторженность?
– Восторженность от увиденного.
– От увиденного…
– От увиденного.
– От увиденного?!!
– Ну разумеется! Нельзя же не заметить в окружающих самое упорное начальстволюбие, подверженное подчас горчайшим испытаниям, но всякий миг с честью из них выходящее. – Гнобий Гонимович мне подмигнул.

– Ну что ж! – председательствующий обратил свой взор направо – там он получил кивок, и налево – там он получил еще один кивок. – Вердикт нашего суда: он не виновен и должен быть освобожден в зале суда.
– Я… – кажется, я подмигнул ему в ответ (я иногда ни с того ни с сего теперь мигаю), после чего он стал серьезен и вымолвил:
– Загадочно же в этом непростом…
– Что загадочно? – не утерпел я, почти вскрикнув.
– Загадочно же в этом непростом деле вот что…
– Простите, что перебиваю, но я вас не совсем понима…
– Понимаю и это ваше «не совсем». Еще бы! Труды наши упорны, но незаметны. И, несмотря на необоримую твердость…
– Необоримую?
– Вот именно.
– Твердость?
– Конечно! С вашего разрешения, я продолжу.
– Но, ну…
– И, несмотря на необоримую твердость, вместе с тем мы позволили себе рассчитывать на некоторую мягкость в отношении предложенного мирораспределения.
И тут я решился. Я почти взвился и взвизгнул, прерывая этот непереводимый для меня речевой поток:
– Гнобий Гонимович! Ваше Сиятельство!
– Превосходительство!
– Конечно, конечно!
– Да!
– Вы уж меня простите, но я ничегошеньки не понимаю из того, что вы изволили тут изложить!!!
Гнобий Гонимович посмотрел на меня исподлобья, испытывающе, чуть наклонив голову вбок. Так смотрит ворона, запоминающая номерной шифр домашнего сейфа.
– Сергей Петрович, вы можете мне совершенно открыться, – взгляд его при этом был полон таинственности, а лучше сказать, тайных знаний, сказано все это было полушепотом, – открыться и, не таясь, поведать о тех мероприятиях, кои вы, – тут он, взявши многозначительную паузу, позволил себе осторожно коснуться моей груди пальцем, давление которого я немедленно ощутил, – пусть даже никаких особенных мероприятий и нет, но, согласитесь, не прибыли же вы в наше Пропадино с целью открытия здесь академии искусств!
– Академии?
– Ну, это я позволил себе любезную прибаутку, коя лучше, нежели чем иные загадочные звуки. Цель-то у вас… – он закатил глаза со значением, пыкнул, сложив губы куриной гузкой, и продолжил после некоторого внимательного рассмотрения меня, наклоняясь с придыханием, – цель-то у вас, разумеется, имеется.
– Цель?
– Да!
И тут мною овладело отчаяние, и меня понесло.
– Цель моя, – заявил я, приняв позу Софокла, то есть позу огорченного, глубоко чувствующего эстета, – цель моя – совершенство мира, очищение его от всяческой скверны. Цель моя – пронять этот прогибающийся мир, не обращаясь к нему затылком, но оборотясь, а лучше сказать, поворотившись к нему ликом своим, тьму смущающим. Пригрозить, но не истребить, а пригрозивши, помиловать и лаской обаять. Натиск и быстрота, снисходительность, но строгость, – я думал, что в конце фразы меня возьмет икота, но обошлось.
Гнобий Гонимович даже личностью просиял.
– Ну наконец-то, слава тебе господи! – заявил он, положа руку на сердце, явно ощущая его стук. – А то ведь совсем вы меня загоняли – и то, и это! И то тебе не это, и это тебе не то! Ну нельзя же так, батенька-то вы мой! К чему все эти изыски? К чему трепет волнения? Если и есть у кумпании вашей ядро, так не разумнее ли было бы его обсудить, сесть рядком да и уладить ладком? Чего ж нелепицу-то плодить? Нельзя ли сразу же рассеять все наши даже самые смелые опасения? Ещежды, сызнова, паки и паки съели попа собаки, да кабы не дьячки, разорвали б на клочки!
– Да, но, – в движениях моих само собой наметилась скорбь, и даже я не знаю отчего, – но…
– Ведь не лиходейства для, – немедленно воспользовался Гнобий Гонимович моим замешательством и подхватил: – а разве что токмо для сладчайшего мироустройства. Так же и мы не нехристи какие, готовы войти в положение и пожертвовать. Ведь какая нами в связи с вашим-то появлением проведена неслыханная деятельность вдруг и вокруг! Все же, включая и Его Высокопревосходительство, не спали, не сидели, не лежали, а только и интересовались: ну что он там, ну как он там?
– Я только хотел сказать, – заметил ему в ответ я, справляясь с собственной позой. Позы разные мне давались с трудом, над каждой приходилось трудиться, – я хотел… (вот эта, например, полусогбенная, была необыкновенно хороша, на мой неискушенный взгляд).
– А вы бы нам подали бы хоть какой намек, – лицо моего собеседника скорчилось, обретя досаду, но тут же вернулось на свое место почти неповрежденным, – дабы разуменье… разуменье охватило нас сей же час. А то все всюду поскакали, подхватывая куски на ветру. Пагубная эта привычка, хотел бы вам сказать, хватать куски-то на ветру.
– Я только, – я попытался сложить руки на груди, но никак не мог найти левую, – только я вот…
– Не скрою… – глаза Гнобия Гонимовича, самая подвижная его часть, вдруг наполнились слезами истинной скорби, а после сразу же и осушились. Напоследок он всхлипнул: – были! были и те, кто кинулся все продавать, описывать и опять продавать, а я и говорил всем: погодите, ведь должно же улечься, не длится волнение более чем три дня, а тут и дня не прошло – так чего же скрестись! Так нет же – гул, треск, гвалт, галдеж, сумятица, перебранки всякие. Там тебе и доносы друг на друга, дабы успеть, а то не открестишься потом.
– Но, – я все пытался справиться с руками, которые, казалось, теперь у меня жили сами по себе, – я…
– Поймите же вы! – он прижал мои беспокойные руки к своей груди, отчего образовалась на том месте вдавленность и даже ямка. – Поймите! Не время нам сквалыжничать. А как прошли первые страхи, так и озарила многих мысль, не успевших приуныть, – а не прибегнуть ли нам к истории, не доискаться ли в ней примеров спасительной простоты, что сама по себе не замена строгости, но успокоение чувств, органов и снова чувств? Ведь не упырь, не оборотень! И нашли. Ведь сказал же Господь: делитесь. И сейчас же изнуренные, только что хоронящиеся всюду зловещие лица украсились лучиком надежды, и души их исполнились благодарности.
– Да, но, собственно… – сказал я и сейчас же позабыл то, с чего начал.
– А Его Высокопревосходительство и вовсе даже заметил мне: «Спешите к нему, друг мой, спешите изо всех ваших сил, ибо не вынесет сердце человеческое такового томления», – и я поспешил.
Честно признаться, до меня не все дошло из сказанного здесь Гнобием Гонимовичем, но кое-что начало уже проглядываться. Во всяком случае, я понял то, что говорить надо загадками, а позы при этом принимать самые величественные. И все это надо делать вплоть до той поры, пока я отсюда не уберусь, а то ведь откроется то, что я жульничаю, и посадят меня немедленно ни за что ни про что лет на сто.
Но видит Бог, я не стал бы прикидываться, если б меня отпустили наконец в Грушино. Последняя мысль настолько меня захватила, что я с нее и начал:
– Но видит Бог! – сказал я, и как только я это сказал, я заметил, что говорить-то мне больше вроде как и не о чем, так что лучше повторить. И я повторил:
– Но видит Бог!
А теперь хорошо бы осмотреться. И я осмотрелся, скосив глаза на Гнобия Гонимовича – тот весь, казалось, превратился в слух, ожидая, что я продолжу свою речь. Он-то ждал, а я-то мучительно подыскивал слова, поскольку я совершенно не знал, о чем бы мне таком еще высказаться.
И тут я вспомнил, что начал я со своей цели. Действительно – а какая у нас цель?
– Цель, – сказал я, представив себя древнеримским Петронием, – цель-то наша…
– Цель наша, – пришел мне на помощь Гнобий Гонимович, – не иначе как благодеяние!
Я важно кивнул, а он, ободренный, продолжил:
– Успокоение душ. Ведь страх, зловещий и безотчетный страх порождает отчаяние ни с чем не сравнимое, и на улицах воцаряются только голодные псы и распущенные нравы.
– Блюдение нравов… – начал было я.
– Блюдение нравов… – повторил за мной тотчас Гнобий Гонимович, навострив уши, как хорошая гончая.
– Блюдение нравов, – вернул я инициативу себе.
– Блюдение нравов… – снова вмешался Гонобий Гонимович с совершенно свежими силами.
– Блюдение нравов, – не отступил я, – почитаю за наипервейшую свою обязанность! – Наконец-то я высказался – фух, ну и работа!
– Истину! Истину изволите говорить! Истину глаголить! – сейчас же откликнулся Гнобий Гонимович. – Ведь что такое нравы, как не сохраненные для нас опыты. Опыты человеческого общения, кои привели к устойчивым связям.
– Но они же и обязали нас мыслить о вечности, – вставил я некую лабуду с умнейшим видом.
– Совершенно справедливо! – горячо поддержал меня Гнобий Гонимович. – Совершенно справедливо! Разрешите! Разрешите!
– Разрешаю, – сказал я, приняв позу Овидия, читающего свои вирши Горацию.
– Разрешите пригласить вас на бал!
– Куда? На что? На бал? Зачем? На какой бал? – мне показалось, что я ослышался.
– Его Высокопревосходительство тотчас дает бал в честь получения необходимых указаний свыше, а я имею честь вас на него пригласить.
– Но…
– Его Высокопревосходительство очень просит не побрезговать.
– Я…
– И осчастливить своим присутствием.
– То есть…
Жизнь научила меня осторожности.
– А он знает, кто я? – я понизил голос до проникновенного писка.
– В точности! – Гнобий Гонимович сиял весь, являя собой торжество целокупности. – В точности! Он-то и заметил, что ежели человек так упорно твердит о Грушине, то дело тут пахнет аудитом самой высокой пробы и должно быть подвергнуто зрелому обсуждению…
– Пробы?
– Так точно-с!
– Зрелому?
– Само собой!
– Аудитом?
– Ни малейших затруднений! Такой важный предмет…
– Ну, если пробы, то…
Гнобий Гонимович сиял теперь даже поверх того прошлого, первого сияния.
– А уж как все будут рады! Как все будут рады! Просто именины сердца, увлажнение глаз и падение Ярила в груди. Форма же изъявления чувств…
– Падение Ярила?
– Его самого!
– В груди?
– Так точно-с! Усерднейше благодарю! Нам сюда, сюда! – и Гнобий Гонимович увлек меня в какую-то комнату – там уже стояли портные. Они мгновенно сняли с меня все мерки и сейчас же обернули материей.
Гнобий Гонимович мне кивал, моргал, всхохакивал от душившей его преданности и поддерживал осторожно, чтоб, не приведи господи…
– Прекрасно! Разительно! Степени воодушевления!
Фрак был готов через пятнадцать минут. К нему – белоснежная рубашка, галстук-бабочка, носки из какого-то немыслимого материала – мягкого, как попка младенца, такого же свойства маечка, трусы, туфли – чистый шеврон, чистый… – по ноге, нигде не жмет, и вообще, все удивительно, удивительно подходит, и зеркало.
– Дайте! Да дайте же зеркало! – вскричал он. Дали и зеркало, и в нем – я, молодой, удивительно свежий.
– Парикмахер! Как же вы? А где же парикмахер?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.