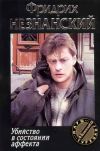Текст книги "Среди пуль"

Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава пятнадцатая
Ему казалось, его засасывает огромная черная труба, втягивает своим сквозняком, и он летит в гудящем жерле туда, где вращаются свистящие лопасти, отточенные беспощадные кромки, готовые его иссечь. Он летит в трубе вдоль скользких округлых стенок, и нету сил удержаться. Так чувствовал он заговор, куда его вовлекали, и свою неотвратимую гибель. Об этом он говорил Кате, стараясь сделать ей больно, чтобы еще бледнее, еще оскорбленнее было ее лицо, освещенное ночным абажуром.
– Ты, конечно, не знаешь, кто такой Каретный, который ходит в твой фонд, знает все о тебе, подстерегает меня на пороге! Такого ты, конечно, не знаешь!
– Не знаю! – возмущалась она, оскорбленная его подозрениями, мучаясь видом его нездорового издерганного лица. – Не знаю никакого Каретного!
– Ты скажешь, что ничего не ведала о сборищах, которые устраивает в твоем замечательном заведении вся эта мразь! Все эти долгоносики, упыри, чешуйчатокрылые и кишечнополостные! Ты не ведаешь, что творится у тебя этажом ниже, а тихонько, как мышь, сидишь и шуршишь своими бумажками!
– Ничего я не знаю! Здесь столько разных помещений. Их сдают в аренду. Приезжают разные люди, и те, кого ты называешь мразью, и те, кого ты почитаешь. Недавно здесь был Зюганов, проводил презентацию какой-то партийной книги. Приезжал Жириновский, устраивал какой-то фуршет со скандалом. Но бывают и Бурбулис, и Полторанин, а неделю назад приезжал Джордж Сорос.
– Семь-сорос! – съязвил он и хрипло захохотал. – Неужели ты не знаешь, что вся работа фонда нацелена на разграбление Родины? Все так называемые научные программы – это выявление наших открытий и изобретений, скупка русских мозгов, перекачивание их в американские научные центры! Все эти шумные культурные инициативы – это создание еврейских организаций, еврейских колледжей, еврейских политических партий! На деньги фонда создается «пятая колонна» в России!
– Чушь какая-то! Вопросы, которыми я занимаюсь, – собирание фольклорных песен в северных деревнях. Поощрение ремесел и промыслов. Реставрация деревянных храмов.
– Ну да, конечно! – вновь захохотал он. – Уничтожить в России производство ракет и наладить шорное и скобяное дело! Вывезти в Хьюстон специалистов по лазерной технике, а здесь развернуть производство корзин и бочек! Закрыть полигоны и космодромы, разогнать математиков, физиков, но собрать фольклорные ансамбли и поставить повсюду часовни!.. Да разве не ясно, что Россию из великой страны превращают в этнографический заповедник на усладу иностранным туристам. Едет твой Сорос, а по обочинам русские девки кланяются в пояс, песни поют, продают березовые туеса и корзины!
Он хохотал яростно, хрипло. Его ненависть к губителям Родины переносилась на нее. Это она была виновата в том, что закрывались заводы, останавливались лаборатории, тонули лодки и корабли. Она была виновата в том, что на экранах день и ночь кривлялись мерзкие рожи, а его, Белосельцева, затягивали в гибельный заговор. На секунду помрачение его проходило, он понимал, что не прав, что его поглощает безумие. И оно поглощало его. Черная горловина трубы втягивала его стальным сквозняком, и он, растопырив руки, летел навстречу отточенному пропеллеру, влетал в свою смерть.
– Чем же я виновата, что мою библиотеку закрыли и я осталась без работы! – возразила она, пораженная его несправедливостью, истребляющей, направленной против нее энергией. – Как же мне добывать кусок хлеба? Идти в эти дутые воровские фирмы, жуликов обслуживать? Попробовала! Они там какими-то драгоценностями торговали, алмазами, золотом. Днем воруют, а к ночи запираются и устраивают оргии! Убежала я от них!.. А здесь спокойно, достойно. На хлеб себе зарабатываю.
– Оргии – это да! Про оргии ты говорила! Здесь ты преуспела! – его захлестывало горячее бешенство, заливало глаза белой мутью. – Были у тебя кавалеры! Я из Карабаха приехал, ты мне на дверь показала! Дескать, другого люблю! Видел, как он тебя в свою иномарку подсаживал! В малиновом пиджаке, клюв как у пеликана!.. Грешен, следил за тобой! Хотел посмотреть, на кого ты меня променяла!
– Ты говоришь гадости! – ответила она. – Ты всегда, когда хотел меня унизить, говорил гадости! Это у тебя получается! Ты ненормальный! Истаскался, истрепался на своих войнах, ничего, кроме разрушения, не знаешь! Тебе тошно, если кругом мир и покой! Тебе это нужно взорвать!.. Говорила тебе, не мучай меня, оставь! Зачем пришел? Нам уже не быть вместе! Там, в Ишерах, нам было хорошо, и лучше уже не будет! Не надо было ворошить прошлое!
– А я разворошил! Разворошил Ишеры!.. После того, как увидел тебя с пеликаном, сам попросился в Абхазию!.. Дом, где мы жили, где был балкон, на котором стояли и смотрели на звезды, на море, – я лупил по нему из гранатомета и видел, как он горит! Приказывал стрелять по нему из пушек, обваливал этаж за этажом! Там, где стояла наша кровать и висел на стене твой халатик и сушился на стуле твой сиреневый купальный костюм, – туда я всаживал снаряд за снарядом и все уничтожил! И дерево с плодами хурмы, оранжевой, сочной, которую ты мне приносила и сок проливался мне на рубаху, – это дерево я срезал крупнокалиберным пулеметом, загонял в ствол очереди из стальных сердечников, пока оно не подломилось!.. И то взморье, где гуляла белая лошадь и ты набирала цветные камушки, и над нами летала черно-красная бабочка, и ты говорила, что это наш ангел-хранитель, – по этому взморью лупил из минометов, и, когда мы прошли по берегу, я видел дохлую лошадь, выпущенные кишки, выбитый осколком глаз! Ты права, прошлого нет! И будущего нет! Есть только мерзкое настоящее, которому ты служишь, а я служить не могу!
– Уходи! – сказала она.
Он встал, чувствуя, как черный сквозняк надавливает на него, подвигает к краю трубы, к железному жерлу, в которое влетало свитое в жгут пространство, закручивалось, попадало под секущий удар лопастей, и все иссекалось, изрезалось – хрупкая чашка в буфете, ваза с цветными камушками, плакучий цветок на окне, ее бледное несчастное лицо под вечерним абажуром. И он шагнул в это свистящее жерло, в гудящую, с секущими лезвиями пустоту, исчезая в нем, и какая-то молниеносная сила метнулась к нему, остановила, отстранила от черной дыры.
– Что мы с тобой делаем! Останься!..
Он стоял, потрясенный, уткнувшись лицом в ее теплое плечо. Боялся открыть глаза, удерживал слезы.
Они лежали у открытого окна, за которым днем летали стрижи и метался пух тополей, а сейчас оно было слепо и пусто чернело. Если закрыть глаза, начинало покачивать, и казалось, что они плывут. Их плот омывают темные маслянистые струи, блестящие воронки и буруны. Так выглядели сквозь полузакрытые веки зеркало с ее висящими бусами, глазированная ваза с букетом, образ Николы на столике. После ссоры, в которой сгорела хрупкая драгоценная материя их отношений и чувств, было горько и пусто. Ярость и гнев сменились непониманием, виной перед ней, перед кем-то иным, кто хранил его и берег, пытался наставить, увести от греха и бесчестья. А он в своих заблуждениях, в своем бессилии и неправедном гневе совершал грехи и проступки, сжигал драгоценные жизни – ее и свою.
Он смотрел в пустоту окна, и ему казалось, он чувствует где-то рядом, в нагретом сухом водостоке, спящую ласточку, а в огромных, остывающих от дневного жара домах – спящих людей. Ту прелестную женщину, что танцевала на эстраде, распушив павлиний хвост, а сейчас безмятежно дышала под легкой простыней. Того безумного рыжебородого старика, что плакал и молил о пощаде, а сейчас стонал и охал во сне в своей стариковской кровати. Все они ненадолго утихли, замерли и заснули, соединились своими снами и жизнями в одну нераздельную жизнь. Но взойдет солнце, вылетит из водостока ласточка, полетит тополиный пух, женщина с мокрыми волосами выйдет из ванной, проснется испуганный избитый старик, и все начнут двигаться, бороться, сражаться, отделенные непониманием, враждой, неизбежной смертью.
– Прости меня, – сказала она. – Какое-то помрачение.
– Это я виноват, мучаю тебя. Не сделал тебя счастливой.
– Сделал.
– Ты кроткая, милая. Все мне прощаешь. За эти годы я принес тебе столько огорчений. Верно говоришь, какой-то постоялец!
– Ты мой любимый, дорогой постоялец!
– Вон твоя чашка в буфете, как маленькая водяная воронка. А вон поясок на стуле, как плывущая ветка.
– И куда мы плывем?
– В море, наверное.
– В Черное? Но ведь там все сгорело!
– В Белое. Там все еще цело.
Ему хотелось поделиться с ней своими страхами, подозрениями. Но он боялся ее напугать, боялся снова отдалить от себя. Но с кем же еще ему было делиться? Кто был ближе ему, чем она?
– Мне кажется, они меня окружили, эти «духи». Может быть, это мания или начало болезни. Мне кажется, они следуют за мной по пятам! Заглядывают в каждую щелку! Знают обо мне все! Им это нужно зачем-то. Какой-то план и чертеж! И я боюсь! Не за себя. За тебя, за других людей, с кем встречаюсь. Мне кажется, эти «духи» вселились в меня, проникают вместе со мной к другим, могут причинить им несчастье! Не знаю, что делать.
– Неужели это так опасно?
– Они беспощадны, всесильны! Казалось бы, внешне жизнь все та же. Те же магазины, фонари, тот же город, прохожие, ласточки в небе, пух с тополей. Но уже нету страны, нету армии, нету защиты, нету самой истории. «Духи» поселились в Кремле, «духи» залетели в церкви, «духи» правят в каждом городке и сельце. Мы все – пленные, покоренные, нас опоили каким-то отваром, и мы покорно куда-то идем! Я видел этих «духов» воочию. Они знают, что я их видел, пользуются тем, что я их видел, готовят меня для какой-то страшной, отвратительной цели! Я не хочу быть средством для достижения их уродливой цели!
– Уедем! Хоть завтра! Думаешь, я дорожу этим фондом? Другим себе на хлеб заработаю! Я советовалась с отцом Владимиром, испрашивала у него благословение… Уедем куда-нибудь на Север, на природу, в глухомань, где леса, монастыри…
– Как? Оба в один монастырь? Монах и монахиня? – усмехнулся он.
– Не смейся, я не говорю о монашестве. Мы на него не способны. Это огромный подвиг, огромный труд. Может, еще более страшный, чем война. У монахов свое сражение, своя брань с «духами», как ты их называешь. Этих «духов» не убить пулей, не перехитрить. Только монахи знают, как их одолеть. Сражаются с ними молитвами. На этом сражении столько жертв, столько разрушенных городов и царств! Нам это с тобой не под силу. Но быть рядом с ними, быть под их покровительством, под их сенью – это мы можем. Сейчас в Москве на лечении удивительный человек, иеромонах Филадельф. Отец Владимир меня к нему поведет. И ты иди! Пусть благословит тебя уехать отсюда, в глухомань, к монастырям, на Белое море!
– Что я там буду делать? Черную рясу носить? Для монахов дрова рубить? Келью им подметать?
– А и это неплохо. Может, в этом найдешь успокоение. А то больно гордый!
– Какой же я гордый! Для себя ничего не хочу! Хочу служить Родине!
– А ты думаешь, Родине только на митингах служат? Или с винтовкой в руке? Есть тихое служение, незаметное. Невидное миру.
– Это какое же?
– Я знаю, есть один монастырь на Севере. Бедный, из вновь обустраиваемых. Там строят приют для детей. Для сирот, наркоманов, душевнобольных. Мы можем туда поехать. Ты будешь помощником на стройке: где достать кирпич, доски, кровельное железо. Когда построим, будем преподавать. Ты – всякие ремесла, а я – рукоделье, шитье. Вот и служение… Там, рядом с церковью, тебе обязательно откроются истинные красота и вера! Родное православие! И ты крестишься!..
Она восхищенно говорила, звала его, верила, что он откликнется и пойдет. Он старался увидеть то, что открывалось ее глазам. Утренний синий снег. Черный монах на снегу. Красноватые церковные своды.
Свечи, сияние лампад. Колыхание лиц. Далекое золотое свечение. Гулкое, густое, как вар, церковное пение. Снег на куполах. И в морозной заре, в резных крестах и деревьях черное мелькание ворон. Он старался все это представить, но то, что он видел, напоминало оперу, «Хованщину» или «Бориса Годунова», куда водила его в детстве мать. И большего он не видел.
– У меня это не так, не в том спасение. – Он боялся ее обидеть, боялся разочаровать своим непониманием, несогласием. – Есть такая крошечная скважина, тонкая щелка, как пространство между страничками книги… – Ему хотелось ей объяснить, где таилось его спасение. – Недавно я ехал в электричке по знакомым местам. Мне казалось, вот-вот улучу мгновение и выйду на каком-нибудь полустанке, где темное болотце блестит или тонкая тропинка в ольхе, и я проскользну в другое пространство, в иное, мною непрожитое время… Или когда ты гладишь мне волосы, пальцы твои так нежно касаются моей шеи и плеч и каждое твое прикосновение открывает островок иной жизни. Какую-нибудь поляну в снегу, или солнечное пятно на сосне, или капустное поле с сизыми кочанами, изъеденными гусеницами… Мне кажется, если я кинусь в этот зазор, успею в него проскользнуть, то окажусь в другой жизни, чудной, волшебной, меня поджидающей, лишь отложенной мною на время. И в ней я спасусь от этой реальности, испорченной, израсходованной, исстреленной и растерзанной.
– А мне? – спросила она. – Мне будет место в этой другой твоей жизни? Или мне в нее не попасть? Ты ускользнешь между страничками книги, и мне доживать век без тебя?
– И ты со мной!.. И ты проскользнешь!.. Есть какой-то секрет, какое-то заветное словечко… Отгадаем, возьмемся за руки и кинемся, как в море. А вынырнем совсем в другой жизни.
Она положила руку ему на затылок. Он почувствовал тепло ее пальцев, замер, ожидая, когда это тепло проникнет в его плоть и дыхание и на дне глазниц, как капли голубоватой воды в красной листве осины, начнут возникать видения.
– Ты говоришь, что на Черном море все сожжено и разрушено, все чужое. Так поедем на Белое море, там все наше, все цело!
Он слабо кивал, слыша, как ее пальцы скользят в волосах. Их слабый шелест превращался в шипение волн, качалась на воде оторванная зеленая водоросль. Они идут по песку, переступая валуны, седые, пропитанные солью коряги. Садятся в шаткую лодку, где на черных досках блестит чешуя. Удары весел о море, синие тугие воронки. Рыбак выволакивает из воды огромный обод, отекающую ячею. Медленно, подымаясь со дна, всплывает к поверхности облако льдистого света, словно тяжелая плита серебра. Удар, взрыв силы и блеска, брызгающий секущий пропеллер. Рыбак кидает в лодку огромных сияющих рыбин, они ходят на головах, шлифуют боками шершавые доски, а рыбак ловит их скользкие тела, бьет по головам колотушкой, и они затихают, крутят глазами, и из-под жабер на сине-серебряный бок выплывает алый язык крови.
Он не был на Белом море, не видел лодок и рыбин. Но пальцы ее погружались в волосы, нащупывали там потаенные клавиши, и каждая начинала звучать, делала его ясновидящим.
– Поедем на Белое море, – сказал он.
– Выполнишь мою просьбу?
– Какую?
– Скажи сначала, что выполнишь.
– Выполню.
– Пойдем к иеромонаху Филадельфу. Пусть ты неверующий, некрещеный, но он благословит нас, и мы уедем на Белое море. Он чувствует и знает людей. Поймет тебя с первого слова. Уверена, благословит наше решение. И тогда это будет не бегство, не слабость, а духовный поступок.
– Хорошо, – сказал он, погружаясь в сладостную дремоту. Не сон и не явь. Он не был одинок, не был брошен. Его милая была рядом. Спасала его. Уводила прочь от напастей. Он направится вместе с ней к святому старцу, и тот выслушает его, поймет с полуслова. Отпустит в другую жизнь.
Ее пальцы касались невидимых клавишей. Каменные валуны на отливе. Прозрачные, пронизанные светом травы. Чайка выводит над морем свой белый вензель, роняет в воду блестящую каплю.
Они встретились с отцом Владимиром у станции метро, в сутолоке, в бензиновой гари, среди торгующих лотков и сладковатого смрада, в котором шевелилась толпа. Отец Владимир был в черном подряснике, с серебряным крестом на груди. Катя первая увидела его, легко и быстро приблизилась, склонила голову. Священник протянул ей для поцелуя большую белую руку, а другой несколько раз перекрестил ее. Белосельцев с легким отчуждением смотрел, как Катя покорно и радостно целует среди толпы эту протянутую руку, принадлежа в эту минуту не ему, Белосельцеву, а высокому светлобородому батюшке, чьи синие глаза посреди этой скомканной безликой толпы и душного сладковатого тления сияли ясно и строго.
– Мы знакомы, – сказал Белосельцев, слегка поклонившись, поймав тревожный взгляд Кати, которая словно умоляла его не совершить какой-нибудь неловкий, бестактный поступок. – Если вы помните, мы виделись у Клокотова и у Белого Генерала. К тому же Катя мне много о вас рассказывала.
– Есть мистические пересечения, – сказал священник, серьезно и благожелательно глядя в глаза Белосельцеву. – Такие времена, что многие пути пересекаются. Я думаю, если Богу будет угодно, наши с вами пересекутся еще не раз. Если в добрый час, то пожелаем друг другу блага. Если в недобрый, тем паче поможем друг другу.
Они шли по улице, и Белосельцев чувствовал исходящий от священника едва уловимый запах духов. Смотрел, как нарядно светится серебряный крест на груди. Все еще изумлялся той легкой и наивной готовности, с которой Катя отдавала себя во власть этого молодого, спокойного, благополучного человека.
– Отец Филадельф очень хвор, – сказал священник. – Должно быть, ему недолго осталось. Его осмотрели врачи, хотели оставить здесь, в Москве. Но он решил вернуться в пустынь, среди братии отойти Господу. Мы не станем ему докучать, только несколько минут. Но он сам захотел вас увидеть.
Они дошли до пятиэтажного дома, поднялись по сумрачной, плохо убранной лестнице, позвонили в обшарпанную дверь.
Их встретил седовласый старичок в старомодных, перетянутых ниточками очках, в полосатых брюках и тапочках. В прихожей пахло лекарствами и чем-то похожим на гуталин или муравьиный спирт.
– Отче задремал. Только что у него был приступ, «Скорую» вызывали. А сейчас, слава Богу, после укола заснул.
– Нет, нет, – послышался из комнаты слабый, но отчетливый голос, – я бодрствую. Зови гостей!
Из полутемной прихожей они шагнули в освещенную комнату, которая оказалась не комнатой, а узкой кельей. По стенам и углам висели деревянные и бумажные иконы, церковные календари, медные, на цепочках, лампады. Стояли подсвечники с горящими свечами. Возвышалось резное распятие. Среди образов, запаленных лампад, живых потрескивающих свечей на неубранном скомканном ложе лежал старик. Седая редкая борода, рассыпанная по костлявой груди. Голые, согнутые в коленях ноги, в венах, струпьях, со следами зеленки и мази. Огромные, костяные, с лиловыми жилами руки, сложенные на животе. На лобастой, утонувшей в подушке голове – сияющие, младенчески-голубые глаза, ликующие, веселые, обращенные к вошедшим.
– Вот радость-то! Вот благодать!.. Словно солнышко засияло! – радовался старец гостям, будто знал их давно, поджидал с нетерпением.
Белосельцев, едва переступил порог кельи, на одну лишь секунду изумился ее убранству. На один только миг содрогнулся от вида больной умирающей плоти. Но потом узрел эти чудные голубые глаза, любящие и счастливые, обращенные прямо на него, прямо ему дарящие любовь. И в ответ – небывалая радость, доверие, желание быть с лежащим старцем, смотреть в эти чудные глаза. Не говорить, не слышать, а бессловесно, через эти голубые лучи, знать, что в мире есть доброта и нетленная красота, братское бережение друг друга. Человек, повстречав человека, должен ликовать, наслаждаться этой краткой, дарованной встречей.
Так чувствовал Белосельцев, стоя в ногах у старца рядом с маленькой тумбочкой, заваленной лекарствами, примочками, нечистыми бинтами, чашками с отваром. Такое внезапное ликование испытал он, пока отец Владимир и Катя целовали бессильную, костлявую руку в пятнах стариковского пигмента.
Хозяин, седовласый старичок, деловито подставлял к ложу колченогие табуретки и стулья, усаживал гостей. Белосельцев послушно сел, чувствуя, что именно к нему устремлены сияющие глаза монаха, именно его одаривают радостью и светом.
– Отче, как чувствуете себя? Помогли доктора? – допытывался отец Владимир. Но старец, лежа на скомканном одре, воздев костистые колени, уперев в постель тронутые тлением стопы, смотрел на Белосельцева. От немощного человека, напоминавшего библейского пророка, исходили потоки лучистой энергии.
– Что обо мне? Мне домой, к Господу, идти, а вам еще тут, в гостях, оставаться! – улыбнулся монах беззубым ртом, открывая в бороде розово-белые десны.
Белосельцев слышал его слабый смех. Хотел открыться ему, поведать о недавних терзаниях и печалях, о своем просветлении и прозрении. О решении покинуть безумное поприще вражды и войны, где зреет страшная кровавая распря, и уйти со своей милой в леса и долы. Посвятить остаток дней бесхитростным трудам и свершениям. И пусть святой старец наставит его, напутствует простым добрым словом. Прямо отсюда, из этой кельи, они с Катей уйдут в иную жизнь, унесут с собой свет детских любящих глаз.
– Слышал о тебе, – обратился монах к Белосельцеву. – Знаю, ты воин. А воин на Руси – это Христов воин. Ты вел земную брань, проливая кровь за Отечество, а значит, вел брань Небесную, проливая кровь за Христа. Страшна земная брань, ужасен вид земных сражений, непосильны для глаз зрелища убитых и растерзанных тел, разоренных городов и селений. Но еще страшней брань Небесная! Ужасен лик Князя Тьмы. Страшными кольцами опоясал он Вселенную, удушая целые миры и галактики. Ужасны пожары и разорения, которые оставляет он за собой. И с ним, с отцом Тьмы, с Князем Погибели, сражается воин Христов. Пробивает его копьем, ведет поединок который век подряд!
Белосельцев смотрел на старца, на его костяную голову, продавившую подушку, на сияющие глаза, отыскивающие лицо Белосельцева, и испытывал необъяснимое волнение. Монах говорил о нем, о его предназначении и служении и своими неясными словами, своими синими лучами тронул в нем мучительное и сладостное чувство.
– Врага на Небе победить невозможно, если не победить его на земле. Покуда воин Христов на земле бьется насмерть, до тех пор змею и Князю Тьмы на небе победы достичь невозможно. Чуть отступил, сдал воин земной, и там, на Небе, сатана одолевать начинает. Сейчас на Руси воинов осталось немного, те пали, а те разбежались, и змей ликует, вьет свои кольца, вползает в двери жилищ и храмов, покоряет города. Вошел в Москву, сел на троне в Кремле. Ты – воин и никуда не уйди! Стой насмерть! Не пускай змея! На тебя народ смотрит, на тебя ангелы смотрят, на тебя Богородица смотрит! Бейся насмерть! Если отступишь, Россия падет!
Неясны были слова монаха. Слаб и невнятен голос. Немощны огромные костяные руки, лежащие на высохшей, как короб, груди. Но глаза сияли весельем и счастьем, словно он звал не на бой, а на свадьбу. И лампады и свечи трепетали вокруг от неслышных дуновений, от ударов невидимых крыл.
– Россия-матушка – Богородица, Матерь Божия! Из России свет мира родится! Россия претерпела великую муку и еще претерпит. От нее – один свет, одна красота и любовь! Кто для России живет, тот для Богородицы живет! Кто за Россию жертвует, жертвует за Богородицу и Христа! За кого Россия молится, за того Богородица молится! Ты воин, много на тебе ран, и еще будут! Но раны твои оплаканы Богородицей! Она, Заступница, накроет тебя своим покровом и сбережет! Ничего не бойся, верь, сражайся! С Богородицей победишь!
Не этих слов ожидал от монаха Белосельцев. Он хотел услышать слова кротости и смирения, напутствие в другую жизнь, где нет места сражениям, а – тихие, прозрачные на солнце цветы, и по стенам избы – утренние зайчики света, прилетевшие от близкого моря, черная лодка на белесой воде, длинные зори над черными крышами изб, долгие глухие снежные зимы без огня и следа, и они вместе с Катей коротают длинную ночь у теплой беленой печки. Об этом хотел он услышать. Но старец вещал о битвах, не отпускал его, оставлял в пекле. Белосельцев чувствовал, как страшится душа, трепетом откликается на грозные слова старика.
– Вижу, как ты страшишься! И Господь страшился! В Гефсиманском саду молил, чтобы его миновала чаша сия! Чаша великих скорбей! Не крестной муки, не бичей, не Голгофы, не удара копья, не едкого уксуса, не медленной смерти под палящим солнцем страшился Господь, а грехов мира, которые там, на Голгофе, он должен был взять на себя! Величайшие злодеяния, отцеубийства, богохульства, разврат, все страшные от начала дней прегрешения, которые совершили люди, он должен был взять на себя! Слиться с ними, сжечь их дотла в себе и очистить мир от скверны! Трех дней смерти, когда предстояло ему очистить мир от скверны, боялся Христос. Ибо ужасен образ греха, страшна чаша, наполненная до краев скверной мира! Если Христос страшился, то мы во сто крат! Но твой страх оборим! Слабость твоя оборима! Вижу твой путь!
Лампады пламенели, раскачиваясь на медных цепях. Свечи трепетали золотыми огнями. Воин скакал, поражая змия копьем. Белогривый Никола держал раскрытую книгу. Богородица прижимала к груди Младенца. В пещере, в скале, лежал худосочный отшельник. И другой, его подобие в струпьях и пятнах близкой смерти, с сияющими голубыми глазами, проповедовал бесстрашие битвы.
– Знаю, ты хочешь уйти! В тебе страх и томление! Предчувствие мук!.. Останься! Не покидай поля брани! Ты воин Христов! Многие вокруг тебя спасутся! У тебя свой путь, с него не сворачивай! Ничего не бойся! А я за тебя стану молиться!
Старик шевельнул огромной рукой. С трудом оторвал ее от груди. Полез под подушку. Извлек маленький крестик на белой цепочке. Протянул Белосельцеву:
– Крестись!.. И носи!.. От многого тебя сбережет!.. Пока я жив, приезжай ко мне в пустынь!.. Еще побеседуем!.. А теперь устал!.. Голова кругом идет, ничего не вижу!..
Глаза его потухли, прихлопнулись сморщенными желтыми веками. Рука бессильно лежала на смятой простыне. Хозяин квартиры, старичок в железных очках, кинулся капать капли. Строго, осуждающе посмотрел на пришедших.
Они покинули келью, вышли из душного, пропитанного болезнью воздуха на вечернюю, блестевшую от дождя улицу. Белосельцев шел, сжимал крестик. Думал о словах отца Филадельфа. Испытывал утомление и слабость.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?