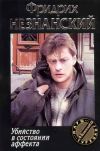Текст книги "Среди пуль"

Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Когда его впервые пускали, – инженер протянул руку к кораблю, словно хотел погладить его белое, голубиное оперение, – на космодром съехались лучшие люди страны. Ученые, генеральные конструкторы, командующие войсками, министры. Здесь были представители всех существующих на земле наук, словно это был ковчег, куда загружались все знания. Когда он взлетел и сорок минут носился вокруг Земли, мы стояли у карты мира, отслеживали его траекторию, и я вам признаюсь, я Богу молился. Когда он сел в сопровождении перехватчиков и мы обнимались, лобызались, поздравляли друг друга, мы понимали, что с этой минуты живем в другом измерении, в другой эре!
Белосельцев слушал его, вспоминая белесую степь Байконура, бесчисленные клубки перекати-поля, гонимые ветром, как табуны диких коз. Сквозь сухие колючие травы, летящий снег и песок – далекое ртутного цвета пламя, свеча огня, отлетающий рокот и гром. Как шаровая молния, корабль ушел сквозь тучи, и, пока он летал по орбите, все так же, как тысячу лет назад, катились комья мертвой травы, струились сухие поземки. Челнок, облетев планету, ворвался в атмосферу, как малиновый шар огня, и стал снижаться как мираж в стеклянной воздушной сфере. Он коснулся бетона, вырвал клуб черного дыма, стряхнул с крыльев прах сгоревшего космоса. Он стоял на бетоне, остывая, источая запах живой утомленной плоти, одушевленной рукотворной материи.
Красный Генерал всасывал воздух сквозь зубы. Лицо его выражало страдание. Белосельцев понимал природу этого страдания. Оно охватывало его самого, превращало недавнюю радость в невыносимую боль.
– Нас остановили! – сказал инженер. – Проект «Буран» закрыт. Они больше никогда не взлетят! Ельцин решил, что России они не нужны! Америке нужны, а Россия обойдется без них. Предатели и мерзавцы уничтожили русский космос. Все заводы стоят, закрыты научные центры, распущены коллективы рабочих, и больше их не собрать. На завод приходят американцы, фотографируют изделия, вывозят документацию. Их привели академики-предатели, генералы-предатели, дипломаты-предатели. Мой друг, начальник отдела, не вынес, пустил себе пулю в лоб. Теперь и мой черед!
Белосельцев почувствовал, как в груди будто откупорились скважины и из них забила боль, ударили жаркие красные ключи. Белый корабль на мгновение стал красным. Чувство непоправимой беды, бессилие и беспомощность были наподобие обморока. Но он одолел его и вернулся в синеватый металлический свет, в котором застыли мертвые огромные бабочки. Их могущество, их исполинская сила были видимостью. Сухие известковые чехлы, наполненные трухой и гнилью. Красный Генерал, без единой кровинки, шагал, наклонившись вперед, словно в него дул и давил слепой ураган.
– А этот корабль куда? – спросил Красный Генерал, указывая на третий, последний в череде «Буранов» челнок.
Спущенный со стапелей, корабль стоял на бетоне, уперев в него разлапистые тугие шасси. Взятый на буксирную штангу, прикрепленный к работающему, извергающему дымки тягачу, он медленно двигался по цеху к далеким воротам, сквозь которые открывался перламутровый прогал. – Куда увозят челнок?
– Его купил у завода один банкир, еврей-толстосум. Хочет поставить его в каком-нибудь людном месте. Сделать в нем казино или ночной клуб. Директор решил продать. Хоть какая-то зарплата рабочим!
«Буран», медлительный, усыпленный, с темной повязкой на глазах, послушно следовал за тягачом. Его вывозили на поругание, на публичную казнь, на заклание. И где-то уже кипела народом площадь, собирались зеваки, обступали эшафот. Готовились ахать и ужасаться, глядя, как палач разрубает на части могучее белое тело, вышвыривает на доски трепещущие ломти.
– Убивать их, блядей! – тихо, почти шепотом, сказал Красный Генерал. – Стрелять их буду своими руками! Поклялся и клятву сдержу!
Он был серый, с полузакрытыми глазами, с жесткой щеткой усов. На лице отчетливо проступили оспины и рубцы давнишних ран и ожогов.
Они уезжали с завода. В машине, сидя за сутулой спиной охранника, Красный Генерал сказал Белосельцеву:
– Я вас понял. Дней через десять дам ответ. Вы слышали, будет конгресс «Фронта национального спасения». Найдете меня, потолкуем.
Он умолк, нахохлился, погрузился в тяжелую дрему. Глаза были прикрыты коричневыми усталыми веками.
Глава седьмая
Видение, моментальное, как проблеск в зрачках. Песчаный откос над рекой, желтый сыпучий песок, осколок перламутровой раковины, и, он оттолкнувшись голыми пятками, сволакивая жидкую осыпь, кидается в воду, ударяется горячей грудью о воду, вонзается в темный холод, в блуждающие зеленоватые лучи. Но это лишь миг, видение. Близко, у самых глаз, ее белое плечо, дышащая грудь, шепчущие жадные губы.
И снова как наваждение из глубин разбуженной памяти. Поле с сырой стерней, смятый цветок ромашки, печаль одинокой души, затерянной среди холодных равнин. Но вдали, в небесах, движение света, упавший на землю луч зажег бугры и дубравы. Прилетел, примчался, преобразил весь мир в красоту. Золотое сверкание стерни, далекая белизна колокольни, цветок драгоценной ромашки. Но это лишь миг единый. Ее волосы на подушке. Горячая от поцелуев щека. Скользнувшая по губам сережка.
И опять случайное, примчавшееся из далеких пространств видение. Белый стекленеющий наст. Розовая яблоня в голом саду. Морозная синь в ветвях. Хрупкий след пробежавшей лисицы. Из горячей избы, в одной рубахе, чувствуя, как жалит мороз, он смотрит на розовый сад, на легкий проблеск лыжни, на летящую в зеленоватом небе сороку. Возникло и кануло. Ее влажные раскрытые губы. И он не дает ей шептать, вдыхает в нее свой жар.
Летнее широкое поле, одинокий могучий дуб. Он издали видит, как в черную крону снижаются быстрые птицы. Стая витютеней скрылась в ветвях, среди листьев, невидимые, бьются их жаркие после полета сердца, мерцают круглые розовые глаза. Он хочет увидеть птиц, идет через поле к дубу. Густая трава под ногами. Тень могучего дерева. Внезапно, как взрыв, в громе, плеске из разорванной кроны взлетают птицы, вынося за собой ворох лучей и крыльев, и уносятся к солнцу. Темная комната. Без сил, без движений они лежат, касаясь друг друга. Ее рука с прохладным колечком покоится на его бездыханной груди.
Город, накаленный за день, не остывал и ночью. Хранил в своих каменных теснинах душное дневное тепло. Горячий воздух будто скатывался с железных кровель, сливался по желобам и водостокам. Машины скользили в бархатной жаркой тьме, как в воде, проталкивали огни сквозь вязкую непрозрачную толщу.
Они лежали у открытого, с отброшенной занавеской окна. Он чувствовал грудью языки жара, сквозь прикрытые веки различал быстрые серебристые отсветы. То ли отражения фар, то ли зарницы далекой, не приближавшейся к городу тучи.
– Будет гроза, – сказала она. – К утру будет дождь. Проснемся, а за окном дождь.
– Хочу, чтобы утром мы вышли вместе на улицу и был дождь. Ты раскроешь зонтик, мы пошлепаем под дождем, двое под одним твоим зонтиком.
– Хочешь пить? У меня есть вкусный сок. Принесу?
– Не хочу, чтобы ты вставала. Хорошо лежать. Как в Ишерах – только небо в звездах и море шумит.
– У меня есть черешня. Принесу? Будешь лежать и есть.
– Не хочу, чтобы ты уходила.
Он дорожил неподвижностью, остановившимся временем, недвижной далекой тучей, застывшей на подступах к городу. Этой краткой тишиной перед бурей, неизбежными злоключениями дня.
– Я провел первые встречи, побывал у людей, которые называют себя оппозицией. – Он говорил, как привык говорить с ней в прежние времена. Находил наслаждение в самом разговоре, выговариваясь и лучше понимая себя. Искал в ее ответных суждениях не прямые, но верные подтверждения своим переживаниям и догадкам. – Все эти люди сделаны из разного теста. Не понимаю, как можно испечь из них общий пирог. Одни, коммунисты, верят в Царство Божие на земле. Другие, монархисты, грезят абсолютной монархией. Те видеть не желают красный флаг и звезду. Те называют двуглавого орла чернобыльской птичкой. Мой знакомый редактор Клокотов – добрый идеалист и романтик. А Красный Генерал готов рубить головы. И все они не хотят меня слушать, не готовы воспользоваться моим опытом и умением. Риторы, проповедники, не расположены к организаторской конспиративной работе. А без этого нет победы!
– Зачем рубить чьи-то головы? Зачем тебе конспирация? – Она протестовала, умоляла его. Провела рукой по его лбу и бровям, словно отводила дурные мысли, прогоняла наваждение. И он вслед за ее исчезающими пальцами увидел березовую прозрачную ветку и сквозь мелкие листы и сережки голубой ветреный пруд и белую стаю уток. – Мало ты воевал? Мало боролся? Теперь ты со мной. Никто за тобой не гонится, никто не стреляет. Зачем тебе оппозиция?
– Может, я неправильно высказался. Все они прекрасные люди. Лучших сегодня и нет. Готовы жертвовать, не помышляют о личном. Но они не способны к серьезной борьбе, без которой невозможна победа. – Он не удерживал ее проскользнувшую руку, утекавшее следом видение пруда и уток. Знал, рука ее снова коснется лба и бровей, и следом вернется видение.
– Ты мне сказал, что у Клокотова познакомился с отцом Владимиром. Удивительное совпадение! Я рассказывала ему о тебе, а он: «Да я его знаю!» Он сказал, что ты на перепутье, не знаешь, куда податься. Хочет повести тебя к отцу Филадельфу. Замечательный монах, предсказатель. Он тебя научит, что делать.
– Да я как-то далек от этого. – Он осторожно отказывался, не желая ее огорчать. Боялся задеть в ней нечто ему непонятное, но для нее драгоценное и живое. – Далек от церкви, от Бога. Наверное, чувствую его, догадываюсь, что он есть. Но жизнь вела меня совсем другими дорогами. Вот природа – это и есть мой бог! В нее верую, к ней обращаюсь, в ней нахожу все ответы. В ней для меня и Бог, и Родина, и бессмертие. А храм, купола? Издали смотрю, как белеет церквушка, и на сердце теплеет.
– Ты к Богу еще не пришел! – Она страстно желала убедить его, вовлечь в свою веру. – Но ты обязательно придешь! Ты пережил такое, совершил такое! Одна половина твоей души сгорела, а другая ищет, на что опереться. Хочешь опереться на то, что само пошатнулось! А ты соверши над собой усилие, пойди к отцу Филадельфу. Он найдет для тебя особое слово. Ты услышишь, поверишь!
– Не знаю, – сказал он, пугаясь ее страстности, ее настойчивых уверений, которыми она уводила его от намеченной цели. – Должно быть, у меня есть моя вера или мое суеверие. На войне, например, перед боем не бреюсь. Или не фотографируюсь у борта вертолета. Или не беру с собой в бой гильзу, куда замуровано мое имя и личный номер. Обещаю кому-то, наверное, Богу, если выживу, сделаю какое-нибудь доброе дело, отстану от какой-нибудь скверной привычки. Но ведь ты говоришь о другом.
– О другом! Я говорю о чуде, которое преображает угрюмый, злой, отвратительный мир в красоту и любовь! Это чудо совершилось две тысячи лет назад и каждый раз совершается, чтобы мир не упал. Когда Христос въезжал в Иерусалим на белой ослице, ему под ноги стелили ковры и кидали розы. И он каждый раз въезжает в город, и стены города не падают. Он въедет в Москву, и она сохранится. Я хожу в церковь к отцу Владимиру и молюсь за Москву, за Россию и за тебя. За тебя я ставлю свечу.
– За меня? – удивился он. – О чем же ты просишь?
– Когда ты воевал, я молила о твоем спасении. Чтобы тебя не убили. Чтоб ты вернулся ко мне. Чтоб любил меня. Чтобы тебе было легче.
– Наверное, свеча твоя горела не зря.
– Однажды, когда ты улетел на Кавказ и от тебя долго не было писем, я пошла в церковь, купила свечу и хотела поставить перед Богородицей. Там уже горело много свечей, стояло много народу. Я никак не могла пройти, меня не пускали. Одна старуха рассердилась на меня, что-то злобно сказала. До сих пор помню ее скрюченный нос и желтый зуб, как у бабы-яги. Я прошла и хотела поставить свечку. Но вдруг в церкви пахнул ветер, пламя свечей качнулось ко мне, и я загорелась. Платье на мне загорелось, платок. Все стали меня тушить. А потом ты написал, что был ранен, лежал с ожогами в госпитале. Наверное, твоим огнем и меня опалило.
– Горел в бензовозе, когда попали в засаду.
В ночной московской квартире, среди бархатного теплого сумрака, он вспомнил: ущелье в районе Гянджи, застрявшая колонна, и один за другим вспыхивают свечой бензовозы. Разорванный наливник стал прозрачный, малиновый, с черной личинкой водителя внутри, и он, отдирая от себя клок липкой горящей одежды, скатывается в сорный кювет.
– Знаю все твои раны, – сказала она. – Пусть новых больше не будет.
Она наклонилась над ним, коснулась губами его груди, тех мест, где оставались ожоги. Целовала эти малые оспины, каждая из которых помнила ужас и боль. В эти обгорелые лунки слетали невидимые прохладные капли, остужали, исцеляли. Словно летний дождь проливался ему на грудь. Будто он, закрыв глаза, лежал под березой, под ее мокрыми пахучими ветками, и из тучи сыпались тонкие прохладные проблески, орошали ему грудь.
Она целовала его раны: простреленное плечо, куда вонзилась автоматная пуля, оставив косую зарубку, и откуда она вышла, нанеся крестообразный рубец; бедро, сточенное острой кромкой стального люка, вдоль которого проволокла его взрывная волна, вышвыривая на песчаный откос; невидимые у висков надрезы, оставленные осколком гранаты. Он чувствовал прикосновения ее губ. Ее поцелуи порождали видения, словно на дне глазниц возникали разноцветные отпечатки ее поцелуев.
Поцелуй – и утреннее ледяное оконце, заиндевелые гроздья рябины. В прозрачном безлистом дереве – длиннохвостая легкая птица. Скользнула, вспыхнула стеклянно на солнце, качнула кисть замороженных красных ягод.
Поцелуй – и заснеженная изумрудная озимь. Рука касается снега, тонких зеленых ростков. И на розовой мокрой ладони – ржаное малое зернышко с нежным пучком корней, кристаллики льда и снега.
Поцелуй – и черная лесная дорога, промятая, полная воды колея. Он идет босиком, раздвигая синие густые цветы, расплескивая топь. Вышел на поляну, и в пальцах ноги застряла нежная лесная геранька.
– Пусть у тебя больше не будет ран. Хватит тебе воевать.
Он лежал, чувствуя сквозь окно тяжелые языки зноя. Они заносили в комнату запахи раскаленных крыш, душных пустых водостоков, поникших, иссыхающих от жара деревьев. Все так же бесшумно мерцала остановившаяся на подступах к городу гроза. В неподвижном времени, среди остановившихся окаменелых мгновений он чувствовал две половины мира, две возможности жить, перед которыми замерла его душа. В одной половине, там, где было простреленное плечо, ожидали его новые беды и боли, нескончаемые сражения, возможная гибель и смерть. В другой, где белело ее лицо, куда увлекала его любимая, туманились золотые опушки, бежали по сугробам цепочки лисьих следов, свистели в весенних дождях голосистые птицы и казалось возможным счастье, долгая, до старости, жизнь в окружении любимых и близких. Неподвижный, он выбирал. По груди его проходила черта, разделяя надвое сердце.
– Расскажи, – просил он, – что-нибудь о себе… Когда мы не были знакомы… Когда была девочкой… Что-нибудь волшебное, детское…
Она откинула голову на подушку, легла на спину. Так ложатся в прохладную воду летней реки, отдаваясь течению, солнечной ряби, тонким травинам, синим прозрачным стрекозам.
– Мы ездили на дачу, под Подольск. Там была деревня и рядом остатки усадьбы. Пруды, липовые аллеи, грачиные гнезда в старых березах. Я очень любила липовую аллею, сиреневый воздух, мелкие, как круглые серебристые монетки, тени. Однажды, когда гуляла, в аллее возникло существо – огромная женщина в развевающихся одеждах, в каком-то балахоне, не то в чепце. Она двигалась среди лип, почти не касаясь земли. Я обомлела, испугалась. Что это было? Привидение? Дух старой барыни из разрушенной усадьбы? Или какой-нибудь ряженый на ходулях? Помню, я закричала – и дух исчез. Никогда не узнаю, что меня так испугало в липовой старой аллее.
Он слушал ее, дорожил ее признаниями. Представлял ее девочкой среди дуплистых сиреневых лип, высоких берез, в которых чернели растрепанные косматые гнезда и истошно кричали грачи. Ему хотелось оказаться с ней рядом в том исчезнувшем времени, шагать по тропинке среди розовых скользящих теней.
– У нас дома был бабушкин хрустальный сервиз, – продолжала она. – Сахарница, масленка, вазочки для конфет и печений. На крышке сахарницы был хрустальный граненый шарик. Он откололся, и я с ним часто играла. Если смотреть сквозь шарик на свет, то в нем начинали вращаться маленькие яркие радуги. От этих красных, желтых, голубых огоньков становилось так радостно, словно в шарике существовала сказочная крохотная страна и ты можешь в ней оказаться. Потом этот шарик потерялся на целые десятилетия. Бабушки не стало, сервиз разбился. Мы переезжали на другую квартиру, рабочие отодвинули буфет, и в пыли я вдруг увидела шарик. Подняла, посмотрела на свет, и в нем заиграли красные, золотые, зеленые огоньки. Но возникла не радость, а боль, словно в шарике, в этих крохотных радугах остекленело исчезнувшее время – мое детство, мои милые. Я смотрела в хрустальный шарик, и мне хотелось плакать.
Он чувствовал ее беззащитность, хотел ее заслонить. Оказаться вместе с ней в той комнате, где старинный буфет, остатки сервиза и девочка в светлом платьице держит у глаз граненый хрустальный шарик, ловит солнечный лучик.
– На даче, за деревней, был клеверный стог. Мы на него забирались, ложились на теплые вянущие стебли и смотрели в небо. И там, в синеве, ветер нес семена, пушистые, легкие, как лучистые звезды. Деревенские говорили, что в темной сердцевинке семечка находится лицо Боженьки. Я верила, смотрела, как летит лучистое семечко, и мне казалось, что в середине крохотная цветная иконка. И теперь, как увижу это летучее семечко, все равно верю – в сердцевинке находится маленький образок, и от этого такая теплота в душе.
Он лежал на меже, и мир был поделен надвое этой межой, проходящей через его сердце. По одну сторону реяли угрюмые силы, горели города, люди в камуфляже карабкались с автоматами на кручи, и его сердце сжималось от непримиримой вражды. По другую сторону, куда она его увлекала, были теплые родные пространства, серебристые избы, милые любимые лица и летело, кружилось, переливалось в нежнейшем свете невесомое пернатое семечко.
– Послушайся меня хоть раз! – говорила она. – А уж потом я тебя всегда, до конца жизни буду слушаться… Отрешись, отойди от своих обид и забот! От своей борьбы и политики! Отойди на один шаг, отвернись, и почувствуешь совсем иную жизнь! Природа, чудесные, написанные людьми книги, музыка, вера! Чуть поверни голову, устреми глаза на другое, и ты почувствуешь себя свободным!
– Думаешь, это возможно? – проговорил он, послушный ее словам. – Такое бывает?
– Ты просто измучен и болен, а я тебя вылечу. Мы станем ходить по московским музеям, смотреть картины, на которых чудесные пейзажи, прелестные женщины, наездники, виды Парижа. Или наши русские городки, деревеньки, наша родная природа. Станем ходить в консерваторию, слушать светлую ослепительную музыку, Генделя и Стравинского, и ты, я уверена, испытаешь счастье! Мы начнем путешествовать по Подмосковью, поедем сначала в Кусково, Архангельское, а потом в Абрамцево, Мураново, Суханово, где стоят желто-белые беседки, текут медленные тихие речки.
– Такое возможно?
– Возможно!
Он ей верил, вручал свою утомленную, обессиленную волю, свою запутанную, лишенную смысла и цели жизнь. Она была сильнее его, знала нечто ему недоступное. Владела высшим смыслом и целью.
– Думаешь, такое возможно?
– Только поверь, согласись!
Он касался губами ее теплых волос, чувствовал тончайшие сладкие ароматы. Целовал ее маленькое горячее ухо с серебряной сережкой. И опять в его закрытых глазах, на самом дне, начинали возникать видения. Мокрый куст лесной малины и зернистая темная ягода. На мягкой лесной земле длинная череда мухоморов. С вершин деревьев начинает моросить, сыпаться, покрывать траву тусклым блеском утренний дождь. И в дожде пролетела серая бесшумная птица.
Он целовал ее брови, вздрагивающие ресницы, краешки закрытых глаз. И видел: озеро ослепительной синевы, белая стена камышей, полузатопленная черная лодка, и коровы, красные, забредают в воду и пьют, и от их опущенных голов бегут по синей воде расходящиеся круги, ударяют о черную лодку.
Он целовал ее и видел бегущий лесной ручей, склоненный, плещущий на темной воде цветок, торчащую из воды заостренную ветку. Тянет за ветку, за мокрую вервь, за край плетеной, опущенной в воду корзины. И вдруг из корзины, из черных плетеных прутьев, ударяет ослепительный взрыв, – плеск и хруст, брызги воды и света. В черной корзине грохочут рыбы, вращают золотые глаза, топорщат красные перья.
Они лежали, обессиленные и счастливые, в душной московской ночи. Ему казалось, прошлого больше нет, и там, где недавно толпились и мучили картины страданий и смерти, теперь была тишина, мягкий туман опушки, сквозь который краснел предзимний куст бересклета.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?