Читать книгу "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
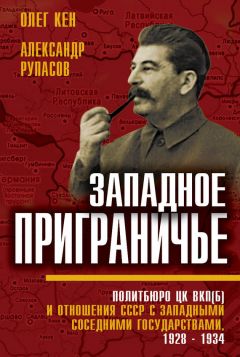
Автор книги: Александр Рупасов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Непредвиденный исход начатых Москвой переговоров являл собой пример «исторической необходимости» – необходимости компромисса между интересами безопасности СССР и его западных соседей, – которая прокладывала себе путь без оглядки на расчеты Наркоминдела и Политбюро. Укоренению в советской политике новых подходов, вытекавших из согласия СССР на многосторонний региональный акт, препятствовали неутешительные для нее ближайшие последствия Московского протокола (называвшегося порой «Варшавским»): влияние Польши в регионе (особенно в Латвии) резко возросло, отношения СССР с Литвой вступили в состояние кризиса, с его молчаливого согласия состоялась «моральная демонстрация солидарности» западных соседей – всего этого советскому руководству прежде удавалось избегать, хотя и ценой отказа от разрядки напряженности[266]266
Cм.: W. Erskine to A. Chamberlain, desp, Warsaw, 18.2.1929. – PRO/FO/371/14019/N1087; Доклад И.Л. Лоренца Б.С. Стомонякову, 16.2.1929. – АВП РФ. Ф. 0150. Оп. 22. П. 46. Д. 4. Л. 30; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 11.5.1929. – Там же. Ф. 09. Оп. 4. П. 37. Д. 28. Л. 105; Письмо Б.С. Стомонякова Д.В. Богомолову, 23.2.1929. – Ф. 0122. Оп. 13. П. 144. Д. 2. Л. 34. «С польским протоколом получилось большое несчастье: мы своими руками создали и мы признали польско-балтийский единый фронт, польскую гегемонию в Прибалтике, а Литву мы оттолкнули», – резюмировал ситуацию Г.В. Чичерин (Письмо Г.В. Чичерина И.В. Сталину, Груневальд, 22.3.1929. Л. 5). См. также: Wojciech Materski. Tarcza Europy. Warszawa, 1994. S.225.
[Закрыть]. Возможность приступить к нормализации отношений с Румынией, возникшая после прихода к власти национал-царанистского кабинета Ю. Маниу (ноябрь 1928 г.), визита в Москву румынского представителя и совместного подписания акта о неприменении силы, по решению Политбюро была вскоре сведена к минимуму[267]267
См. решение «О Румынии» от 28.3.1929. В июле 1929 г. правительство Маниу зондировало возможность координации с Лондоном своих шагов мер по установлению дипломатических отношении с СССР, поясняя, что его колебания вызваны «не столько Бессарабией, сколько страхом перед интенсивной русской пропагандой внутри Румынии» (R. Greg to O. Sargent, desp., Bucharest, 3.7.1929. – PRO. FO/371/14030/N3173). К концу 1929 г. стало очевидным, что в Москве возобладали настроения, не благоприятствующие возобновлению советско-румынских переговоров (M. Palairet to A. Henderson, Bucharest, 11.у 930. Roumania. Annual Report, 1929. – Ibid. FO/371/14435/C1279 (par.105).
[Закрыть]. В апреле 1929 г. советское руководство вступило на путь искусственного обострения отношений с Польшей[268]268
См. решение «О т. Апанасевиче» от 11.4.1929.
[Закрыть]. В правящих кругах широко распространились настроения в пользу недопустимости уступок капиталистическим странам, подобных сделанным при подготовке Литвиновского протокола[269]269
Финская миссия в СССР обращала внимание на разнобой в оценках протокола 9 февраля, на недельную задержку ноты НКИД, в победном тоне извещавшей о его подписании, и на обтекаемость суждений на этот счет на Московской губернской партконференции (UM. Fb7. Р. Artin rapporti. 27.2.1929. S.1–3). Вероятно, аргументация критиков Московского протокола была близка утверждению Чичерина: «Наше первое предложение Польше было вполне удачно как пацифистская демонстрация и противовес россказням врагов о наших военных замыслах; когда Польша выдвинула разные резоны для отказа, наше положение было блестящим, и на этом надо было остановиться…» (Письмо Г.В. Чичерина И.В. Сталину, Груневальд, 22.3.1929).
[Закрыть]. Раскол, происшедший в Политбюро в конце января – начале февраля и выплеснувшийся на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. в открытую атаку на «правых» (к которым был близок Литвинов), стимулировали возвращение сталинского руководства к конфронтационной линии в отношении стран региона. Этому также способствовала эйфория по поводу предрешенного поражением консерваторов восстановления дипломатических отношений с Англией[270]270
Накануне парламентских выборов Сталин предсказывал, что «поражение консерваторов имело бы для Европы вообще, для нас особенно, громадное значение» (Письмо И.В. Сталина Г.В. Чичерину, 31.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 2. Д. 48. Л. 8).
[Закрыть]. «Рыкова с Бухариным и Литвинова» руководитель Политбюро изобличал в том, что «эти люди не видят ни роста силы и могущества СССР, ни тех изменений в международных отношениях, которые произошли (и будут происходить) в последнее время»[271]271
Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову, Сочи, 7.10.1929//Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925–1936. М.,1995. С. 167.
[Закрыть]. «Держитесь покрепче в отношении Китая и Англии – поручал он соратникам. – Проверяйте во всем Литвинова, который, видимо, не симпатизирует нашей политике»[272]272
Письмо И.В. Сталина К.Е. Ворошилову, [Сочи, не позднее 3.9.1929]. – РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 38. Л. 88.
[Закрыть].
Ирония истории СССР не замедлила себя ждать. «Наступление социализма по всему фронту» уже в начале 1930 г. обернулось глубоким социально-политическим и хозяйственным кризисом, диктовавшим необходимость любой ценой продлить «мирную передышку» и получить от соседей гарантии невмешательства и ненападения. В международном контексте того требовал многомерный кризис Рапалло, в первые месяцы 1930 г. принявший открытую и тяжелую форму. Примат внутриполитических соображений и их осложненность германской проблемой вели к сосредоточению новых дипломатических усилий главным образом на Польше. В середине марта, озабоченное тем, «что польское правительство может пойти на вмешательство»[273]273
См. решение «Об Украине и Белоруссии» от 11.3.1930 (раздел 3).
[Закрыть], Политбюро вплотную подошло к решению предложить Польше возобновить переговоры о пакте ненападения, известие об этом Наркоминдел лансировал в британскую печать[274]274
Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 17.03.1930. – АВП РФ. Ф. 0122. Оп. 14. П 149. Д. 2. Л. 27; [Louis Fischer] Soviet fear of Poland: Desire for a Treaty of Security//Daily Herald. 18.3.1930; Польша и СССР. Известия. 18.3.1930; E. Ovey to A. Henderson, desp., Moscow, 28.3.1930//DBFP. 2nd ser. Vol.VII. L., 1958. P. 122; Raport J. Kowalewskiego do T. Pełczynskiego, Moskwa, 10.3.1930. – AAN. Attache wojskowi w Moskwie. T.92. S.73–74. Одновременно в НКИД разрабатывались предложения по уступкам Польше (в области – транзита и др.). См. также: Jonathan Haslam. Soviet foreign policy 1930–1933: The impact of depression. L.,1983. P. 24–29, 130–131.
[Закрыть]. В конечном счете советское руководство решило ограничиться половинчатыми публичными заявлениями о желании добрососедских отношений с Польшей: выступление с инициативой новых переговоров было равносильно отказу от выработанной в 1927 г. позиции и чревато повторением опыта Московского протокола. «Военная тревога» 1930 г., далеко вышедшая за рамки привычной для соседей СССР «сезонной войны нервов», в феврале-мае 1930 г. затронула весь пояс Восточной Европы[275]275
См., в частности: Телеграмма M.M. Литвинова А.Я. Аросеву, 28.2.1930//ДВП СССР. Т.XIII. С.118; H.M. Knatchbull-Hugesen to A. Henderson, desp., Riga, 29.5.1930. – PRO. PO 371/14828/N3799.
[Закрыть].
К лету 1930 г. острота внутриполитического кризиса в СССР ослабла, тогда как в Румынии, Финляндии и Польше он стал приобретать жесткие формы. В Румынии он разрешился вступлением на престол Кароля II в июне 1930 г. и последующей перестройкой государственного управления. Правящие круги Польши и Финляндии были озабочены осенними парламентскими выборами, режим Пилсудского «пацифицировал» Восточную Галицию. В то время, как импульс к активизации советской политики в отношении западных соседних государств угасал, реконструкции и увеличению Красной Армии был придан новый толчок. Решения PBC СССР, 13 июня 1930 г. утвердившего план строительства РККА на ближайшие годы, были перечеркнуты Сталиным, потребовавшим резкого увеличения советских вооруженных сил мирного и военного времени. «Поляки наверняка создают (если уже не создали) блок балтийских (Эстония, Латвия, Финляндия) государств, имея в виду войну с СССР, – мотивировал Сталин новую директиву. – Я думаю, что пока они не создадут блок, они воевать: СССР не станут, – стало быть, как только обеспечат блок. – начнут воевать»[276]276
Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову, Сочи, 1.9.1930//Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. С.209. Рассмотрев в конце 1930 г. «вопрос о нашем отношении к организующемуся в Прибалтике так наз. Малому Балтийскому Союзу (Литва, Латвия и Эстония)», Коллегия НКИД констатировала, что, «пока Балтийский Союз осуществился в виде заключенного уже литовско-латвийского торгового договора и торгового договора между Литвой и Эстонией, переговоры о котором идут в ускоренном темпе». Было решено «разъяснить литовцам, опасность для них, таящуюся в малом Балтийском союзе», «на худой конец примириться с дальнейшим развитием литовско-латвийской дружбы», «удерживать» Ригу и Каунас от сближения с Таллинном. (Письмо Н.Н. Крестинского Л.М. Хинчуку, 30.12.1930. – АВП РФ. Ф. 010. Оп. 1. П. 72. Д. 38. Л. 218–219.)
[Закрыть]. Неудивительно, что большинство решений Политбюро осени 1930 г. были посвящены задачам «восстановления прежних дружественных отношений» с Литвой и отпора охваченной антикоммунистической кампанией Финляндии. К Москве, как показал «процесс Промпартии» и прозвучавшее на нем обвинение Франции в подготовке антисоветской интервенции, вернулась самонадеянность, пусть и смешанная со страхом перед «военным кулаком мирового империализма» – Польшей («ведомой и управляемой французским капиталом и его генеральным штабом») и «остальными нашими западными соседями», включая «тыловую базу интервенции» – Чехословакию (которые «постоянно консолидируются против нас» «в согласии» с Польшей)[277]277
Стенограмма доклада К.Е. Ворошилова на собрании начальствующего состава Московского гарнизона, 3.11.1930. – РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 111. Л. 8–9.
[Закрыть]. Эти опасения, однако, не помешали спровоцировать обострение отношений с Францией в октябре-ноябре 1930 г. и введение ею экономических санкций против СССР. На свой лад истолковывая противоречивую московскую конъюнктуру, в ноябре-декабре 1930 г. полпред СССР в Варшаве в доверительных беседах с руководителями польской дипломатии о двустороннем сближении вышел за рамки инструкций НКИД. В ответ «г-н Маршал, в принципе решил принять предложения [Антонова-]Овсеенко как в деле актуализации по существу никогда не прекращенных переговоров в деле заключения какого-либо политического договора, так и вступления в переговоры о торговом договоре»[278]278
Pismo A. Zaleskiego do St. Patka, 23.12.1930. – AAN. Ambsada RP w Moskwie. T.59. S. 58.
[Закрыть]. Польская дипломатия приступила к консультациям с балтийскими государствами и союзной Румынией относительного нового тура переговоров с Советами. Дело получило огласку, за ней немедленно последовало категорическое опровержение Москвой возможности проявления ею подобной инициативы[279]279
См.: Справка Отдела печати НКИД «Об официозных разъяснениях по вопросам франко-советских и советско-польских отношений», [не ранее 28.8.1931]. – АВП РФ. Ф. 08. Оп. 14. П. 130. Д. 138. Л. 33.
[Закрыть]. Попытки достичь соглашения между СССР и Польшей по экономическим вопросам продолжились[280]280
См. решение «О Турции и Румынии» от 15.1.1931.
[Закрыть], однако политические отношения были заморожены. Период осени 1930 – весны 1931 г. стал эпилогом десятилетних усилий обеспечить советские внешнеполитические интересы на основе сближения с ревизионистскими государствами[281]281
Harvey L. Dyck. Op.cit. P.2I1.
[Закрыть].
Расшатывание основ версальского миропорядка побудило его главного гаранта – Францию – искать способов нормализации отношений с СССР. Начатые в апреле 1931 г. советско-французские переговоры о политическом и коммерческом соглашениях привели к согласованию текста двустороннего пакта о ненападении и неучастии во враждебных комбинациях. Переговоры велись под аккомпанемент советских деклараций о «мирном сосуществовании стран, независимо от их социально-политического и экономического строя»[282]282
См., в частности, наблюдения британского посла в Москве о «новой тенденции светской внешней политики» (E. Ovey to A. Henderson, desp., Moscow, 30.6.1931//DBFP. 2ad ser. Vol.VII. P.213), с которыми «абсолютно» согласился Литвинов (E. Ovey to A. Henderson, tel.(«very confidential»), Moscow, 27.7.1931//Ibid. P.216).
[Закрыть], 10 августа 1931 г. в Париже был тайно парафирован договор о ненападении между СССР и Францией. Советское руководство видело себя на пороге грандиозного политического успеха: не сумев вбить клин между Польшей и ее восточноевропейскими партнерами, оно, казалось, смогло оторвать от Малой Антанты и Польши покровительствовавшую им великую державу. Расчет оказался иллюзорен: как доказала польская инициатива 23 августа, путь в Париж проходил если не через Бухарест и Прагу, то через Варшаву, Хельсинки, Ригу и Таллинн. Демарш польского посланника, заявившего, что правительство Польши считает продолжающимися переговоры с СССР о пакте ненападения, встретил резкое и единодушное неприятие руководства НКИД, с которым были склонны согласиться и находившиеся в Москве члены Политбюро. Вступление в переговоры с Польшей представлялось им авантюрой, способной разрушить традиционное взаимопонимание СССР с Германией, в июне 1931 г. подтвержденное протоколом о продлении срока действия Берлинского договора 1926 г. «Когда мы найдем это выгодным для себя, мы пойдем и на пакт с Польшей, вопреки Рапалло», писал Литвинов в Политбюро, но это время еще не пришло[283]283
Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 15.9.1931. Л. 253.
[Закрыть]. В августе 1931 г. советская дипломатия была как никогда близка к участию в наметившемся «концерте великих держав», предоставлявшем СССР возможность сближения с Францией при сохранении дружбы Германии и укреплении связей с Италией[284]284
См. статью Б.Е.Штейна(?) «Пакт пяти?» (Известия. 22.8.1931) и комментарии польских и французского дипломатов (Uwagi о proekcie paktu pięciu (ref. A. Poninskiego), 25.8.1931. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.26. S. 299–301), а также: Harvey L. Dyck. Op. cit. P. 240–241; H. Dirksen to Auswärtiges Amt, polit. report, Moscow, 11.3.1933//DGFP. Ser. C. Vol.I. P. 145.
[Закрыть]. Переговоры с Польшей не только обещали внести разлад в постепенное налаживание такого широкого взаимопонимания, но и представлялись излишними: как констатировали руководители НКИД, на всем протяжении переговоров с Советами Франция не поднимала вопроса о подключении к ним своего главного восточноевропейского союзника[285]285
Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу, 2.9.1931. – АВП РФ. Ф. 010. Оп. 4. IL21. Д. 63. Л. 656.
[Закрыть].
Эта внутренне уязвимая мотивация была разрушена категоричным вмешательством Сталина, следившим за происходящим из Сочи. Возможно, хуже, чем специалисты НКИД, представляя катастрофические последствия пакта с Польшей для советско-германских политических отношений, он, тем не менее, яснее других сумел понять неотвратимость прямых переговоров с Варшавой и бросить на чашу весов свой властный авторитет. «Дело это очень важное, почти решающее», – указал Сталин Кагановичу, «вопрос о мире», и его следует «довести до конца всеми допустимыми способами»[286]286
Письмо И.В. Сталина Л.М. Кагановичу, Сочи, 30.8.1931. – РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 99. Л. 12–13.
[Закрыть]. Несмотря на этот нажим, определенного решения о вступлении в переговоры с Польшей на протяжении полутора месяцев Политбюро не принимало. Лишь предъявление Францией «совершенно нового условия об одновременном и предварительном подписании советско-польского пакта»[287]287
Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу «О Польше и Франции», 9.10.1931. – АВП РФ. Ф. 010. Оп. 4. П. 21. Д. 63. Л. 219.
[Закрыть] как предпосылке заключения советско-французского договора о ненападении окончательно переломило ситуацию. Одновременно руководителям НКИД пришлось отказаться от предпочтительности «сделать, в случае надобности, уступку Франции в области наших отношений с Румынией», нежели с Польшей[288]288
Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 15.9.1931. Л. 253.
[Закрыть].
В конце ноября в Москве открылись официальные переговоры о заключении гарантийного пакта с Польшей. Распространенная версия, по которой согласие на подготовку пакта ненападения с Польшей явилось реакцией на японское вторжение в Манчжурию 18 сентября 1931 г., не находит документального подтверждения. Одновременно с началом переговоров Сталин дал Ворошилову разъяснения, согласно которым «мы… не преминули козырнуть нашими нормальными отношениями с Японией перед Польшей» и, хотя польский посланник «вертелся и увертывался», «на другой день дали в печать заявление ТАСС о том, что переговоры уже начались», так что Польше «пришлось примириться с фактом» – «переговоры идут». Оправдав таким образом нейтралитет СССР в отношении дальневосточных событий, Сталин «сигнализировал» наркомвоенмору, как следует парировать недовольство переговорами с западным «вероятным противником»: «Возможно, что этой зимой Япония не попытается тронуть СССР. Но в будущем году она может сделать такую попытку»[289]289
Письмо И.В. Сталина К.Е. Ворошилову, 27.11.1931. – РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 38 (полностью опубликовано на английском языке в: Kyosuke Terayma. Soviet policies toward Mongolia after the Manchurian incident: 1931-34//Tadashi Yoshida and Hiroki Oka (eds.) Facets of transformation of the Northeast Asian countries. Tohoku, 1998. P. 38–39).
[Закрыть]. За лукавством интерпретации проступало удовлетворение: польская инициатива пакта ненападения пришлась весьма кстати. Пока японская армия закреплялась в Северном Китае, советская дипломатия трудилась над заключением политических соглашений с пятью странами по периметру западной границы СССР.
Открытие советско-польских переговоров побудило Латвию, а вслед за нею Эстонию и Финляндию возобновить обсуждение с Москвой вопроса о двусторонних пактах ненападения; обеспокоенное румынское правительство выступило с предложениями об установлении отношений и о заключении пакта ненападения с СССР, в начале декабря 1931 г. одновременно обратившись к полпредам СССР в Анкаре, Варшаве и Риге. Таким образом, десятилетние настояния на «юнктиме» между ведением политических переговоров увенчались успехом. Москве пришлось удовольствоваться тем, что инициатива исходила от соседних государств и переговоры велись в различных столицах и различными темпами. Процесс переговоров о заключении пактов о ненападении и соглашений о согласительной процедуре (которой, по требованию Москвы был заменен международный арбитраж) между СССР и западными соседними государствами занял ровно год (ноябрь 1931 – ноябрь 1932 г.).
В Хельсинки советской дипломатии удалось добиться молниеносного успеха – пакт ненападения был подписан уже 21 января 1931 г. Советско-финский договор существенно отличался от французского прототипа и в основных чертах удовлетворял пожелания Москвы, сформулированные ею четырьмя годами ранее. В него была включено краткое определение понятие агрессии (что годом позже отозвалось инициативой СССР о международной конвенции об определении агрессии и Лондонскими соглашениями 1933 г.). Кроме обязательства взаимного ненападения, стороны обязались сохранять нейтралитет в случае агрессии третьего государства, предоставили друг другу право без предупреждения расторгнуть договор в случае совершения одной их них «нападения против третьей державы», и, наконец, взяли на себя обязательство «не участвовать ни в каких договорах, соглашениях или конвенциях, явно враждебных другой стороне и противоречащих, формально или по существу, настоящему договору». Эта структура договорных обязательств в основном была воспроизведена в других двусторонних пактах 1932 г.
Практически одновременно завершилось обсуждение содержания договоров с Польшей и Румынией. В ходе семи заседаний Литвинова и Стомонякова с посланником Патеком советской стороне пришлось пойти на существенные отступления от жесткой редакции наиболее беспокоившего ее пункта о неучастии сторон во враждебных комбинациях. Варшава, связанная нацеленностью на «юнктим» и подстегиваемая быстрым ходом переговоров в Хельсинки и Риге, не чинила задержек, но в последний момент заменила подписание согласованного текста его парафированием (25 января 1932 г.). Причиной явился разрыв переговоров, которые 5—20 января велись в Риге между Б.С. Стомоняковым и румынским уполномоченным князем М. Стурдзой. Как докладывал позднее Стомоняков, «с самого начала обнаружилось… 2 основных разногласия: 1) оговорка о наличии спорного территориального вопроса (наше требование)[;] 2) определение нападения как покушения на интегритет (целостность или совокупность) и неприкосновенность территорий, находящихся под суверенитетом одной из сторон (румынское требование). Первое требование мы с румынским делегатом в Риге отложили на конец переговоров, а второй вопрос занял центральное место на всех переговорах» На ультимативное отклонение понятий «суверенитета» и «интегритета» Стурдза ответил новым определением ненападения как «покушения на неприкосновенность территории, ограниченной Днестром и остальными… границами». Присланная Москвой новая формула ненападения (как «попытки разрешить насильственным образом территориальный и иные споры, существующие между сторонами») «вызвала разрыв переговоров»[290]290
Записка Б.С. Стомонякова И.В. Сталину, 11.10.1932. – АВП РФ. Ф. 010. Оп. 4. П. 21. Д. 65. Л. 178.
[Закрыть]. В конце весны Москва согласилась на посредничество Польши (а затем и Франции) для изыскания формулы договора, которая бы позволила обойти непримиримые разногласия СССР и Румынии по бессарабской проблеме. Несколько туров посреднических усилий и советско-румынско-польские упражнения во французской грамматике не дали результатов. «Конечно, – писал Стомоняков Сталину незадолго до окончания этих попыток, – вопрос о Бессарабии никогда не будет решаться на основании пактов или их толкования». Тем не менее, «в будущем бессарабский вопрос может стать предметом международного обсуждения в самых разнообразных обстановках, независимо от нашей воли, и тогда толкование таких понятий, как «интегритет» и «споры» может получить для нас реальное большое политическое значение»[291]291
АВП РФ. Ф. 010. Оп. 4. П. 21. Д. 65. Л. 175.
[Закрыть]. С этим выводом были по существу согласны и правительство Румынии, и новый министр иностранных дел Н. Титулеску, призванный на этот пост в качестве авторитетного критика уступок СССР по бессарабской проблеме.
После того, как к советскому пакту с Финляндией добавились конвенция о согласительной процедуре (22 апреля) и договоры ненападения с Латвией (5 февраля) и Эстонией (4 мая), а женевское посредничество польских дипломатов разбилось о неуступчивость Бухареста, Пилсудский санкционировал подписание пакта с Советами (25 июля). Завершение «пактовой кампании» зависело не столько от перелома в позиции Румынии, сколько от готовности Варшавы и Парижа признать, что советская дипломатия сделала все от нее зависевшее для политического соглашения с нею; в Москве преобладало мнение, что «пакт с Румынией самостоятельной ценности для нас никогда не имел и не имеет», и представляет интерес главным образом с точки зрения «заключения пактов с Францией и Польшей»[292]292
Там же.
[Закрыть]. Обещая заключить пакт с Румынией на оговоренных ранее компромиссных условиях, если Бухарест в течение четырех месяцев выразит такое желание, Москва 23 ноября заключила согласительную конвенцию с Польшей, а 29 ноября договор о ненападении и аналогичная конвенция были подписаны с Францией.
Двенадцатимесячные переговоры с соседними государствами крайне фрагментарно отразились в решениях Политбюро 1931–1932 гг.; вопросы заключения договора ненападения между СССР и Финляндией вообще не упоминались в его протоколах. Отчасти это может быть объяснено необходимостью для советских руководителей немедленно реагировать на переговоры, проводимые в иностранных столицах. Однако главным образом фактическое изъятие проблем политических переговоров с соседями из коллективного ведения Политбюро было связано с перенесением их в образованные в ноябре 1931 г. комиссии Политбюро. В одну из них вошли Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Секретарь ЦК, руководивший Оргбюро и Секретариатом, и Председатель СНК СССР, в другую («по советско-польским делам»), – наряду со Сталиным и Молотовым, нарком Литвинов и член Коллегии НКИД Стомоняков[293]293
См. решения «Вопросы НКИД» от 22.11.1931; «О Польше» от 26.11.1931 (раздел 4).
[Закрыть]. Хотя основная причина создания этих комиссий может быть установлена лишь предположительно, организационные соображения вряд ли играли определяющую роль. Осенью 1931 г заседания Политбюро стали ареной жесткой полемики, на которой вскрывались разногласия НКИД (и внутри его Коллегии) с руководством Политбюро относительно поворота руля советской внешней политики в сторону нормализации отношений с Польшей. Тактические расхождения имели стратегический подтекст, акцентированный инициативой Сталина о создании особого Бюро международной информации, главной задачей которого было независимое наблюдение за ситуацией в Восточно-Центральной Европе, прежде всего в треугольнике Москва – Варшава – Берлин[294]294
См. решения «Об Информационном бюро» от 1.4.1932 и от 16.5.1932 (раздел 4).
[Закрыть]. Сдержанная публичная реакция советского руководства на политические соглашения СССР с западными соседями скорее камуфлировала, нежели подтверждала их действительное значение для международной политики СССР.
Переговоры о Московском протоколе, начатые СССР с целью помешать формированию прибалтийского блока под эгидой Польши и расшатать ее союз с Румынией, завершились торжеством принципа «круглого стола». В пактовую кампанию 1931–1932 гг. советская дипломатия вступала нехотя и с открытыми глазами, понимая, что избежать «юнктима» невозможно. Однако ее окончание знаменовало фактическое поражение линии Варшавы на удержание единого дипломатического фронта, ее ближайший союзник сказался в изоляции. Польша дорого заплатила за укрепление своего «тыла» перед лицом германской угрозы. С другой стороны, договор СССР с Францией не только нормализовал их политические отношения, но и знаменовал движение Москвы к защите европейского статус-кво[295]295
Cm., в частности, интервью М.М. Литвинова корреспонденту «Пти Паризьен» Г. Люсиани (ДВП СССР. T.XV. С.648) и позднейшую оценку пактов 1932 г. в статье Люсиани (Petit Parisien. 23.9.1933).
[Закрыть]. Пакты ненападения не только укрепили безопасность и авторитет СССР в восточноевропейском регионе, но и способствовали его общей стабилизации, подтверждали версальский (или «версальско-рижский») порядок, причем именно тогда, когда из Берлина и Рима все громче звучали, находя отклик в Лондоне и даже в Париже, требования Gleichberechtigung и территориальной ревизии[296]296
Перспектива разложения послевоенной системы оказывала существенное влияние на позицию советских партнеров в Восточной Европе. Предлагавшиеся ими в 1931–1932 гг. условия заключения пактов ненападения были существенно благоприятнее для Москвы, чем в 1926–1927 гг. (Kejo Korhonen. Op.cit. S.231–232).
[Закрыть]. Наиболее отчетливо значение новой системы пактов проступило в реакции «а них со стороны правительственных и более широких правящих кругов Германии. Если их недовольство Литвиновским протоколом приняло мягкую форму, то переговоры с Польшей были поняты как прямая измена Рапалло. Несмотря на увещевание советских дипломатов не придавать значения «формальностям» и заявление Сталина, что советско-польский пакт не означает гарантий границ Польши, руководители МИД Германии указывали, что договор не предусматривает автоматического прекращения обязательства СССР в случае польского нападения на нее, обеспечивает нейтралитет СССР в случае, если нападающей стороной будет объявлена Германия и подкрепляет Польшу в ее сопротивлении территориальной ревизии. Кроме того, в случае выполнения Польшей ее союзных обязательств перед Францией, она не может рассматриваться как нападающая сторона. Пактом с Польшей Советский Союз не только отказывается от прежнего взаимопонимания с Германией, но и лишается свободы маневра, отныне Германия не может полагаться на его поддержку в защите своих жизненных интересов[297]297
См.: Oleg Ken. Op.cit. Р. 26–29.
[Закрыть]. Эти тенденции, обозначившиеся в ходе переговоров конца 1931–1932 г., в конце 1932 – начале 1933 г. переросли в новое качество советской внешней политики, проступившее прежде всего в отношениях с западными соседями (что не нашло сколько-нибудь адекватного отражения в протоколах Политбюро). Проблема сближения СССР с западными соседями в постановлениях Политбюро первой половины 1933 г. не затрагивается, если не считать половинчатых решений о заключении торгового договора с Латвией[298]298
См. решения «О переговорах с Латвией» от 23.5.1933 и «О Латвии» от 13.6.1933. Предложение пойти на уступки Латвии в торговых переговорах член Коллегии НКИД аргументировал необходимостью «активизировать нашу политику в Прибалтике» в связи с тем, что там «чрезвычайно усилилась за последнее время борьба за влияния со стороны Франко-Польского блока и Германии» (Записка Б.С. Стомонякова И.В. Сталину, 8.6.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 84. Л. 44–45).
[Закрыть]. Молчанием обойдены даже переговоры М.М. Литвинова с представителями соседних государств о заключении конвенций об определении агрессии в апреле-июле 1933 г.; единственное упоминание о них содержится в постановлении Политбюро «О поездке в Испанию»[299]299
Протокол № 146 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.10.1933, п. 2. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 73.
[Закрыть]. Декларация пяти держав о предоставлении Германии «равноправия в системе безопасности» (декабрь 1932 г.) и итало-британская инициатива образования директории четырех держав (март 1933 г.)[300]300
См.: Edward W. Benett. German rearmement and the West, 1932–1933. Princeton, NJ, 1979; Zbigniew Mazur. Pakt Czterech. Poznań, 1979, и др.
[Закрыть], с которыми совместился внутригерманский кризис и приход нацистов к власти, вызывали тревогу в Восточной Европе. Потускневшая перспектива столкновения СССР с блоком западных соседей, поддерживаемого Англией и Францией, вытеснилась угрозой образования Большой коалиции, внутренние противоречия которой будут устранены путем предоставления Германии возможностей экспансии на восток. Москва серьезно опасалась, что принятие Западом этой концепции повлечет за собой вторую волну враждебного международного сговора – соглашение оказавшихся в изоляции Польши и малых восточноевропейских государств с Германией о компенсации их территориальных потерь за счет Советского Союза. В этом контексте пакты 1932 г. могли оказаться лишь средством укрепления переговорной позиции Варшавы и тем самым содействовать ее договоренности с Германией в будущем. Еще более податливыми к международному нажиму могли оказаться страны Балтии и рассматривавшиеся в качестве французских вассалов Чехословакия и Румыния. Переставая быть международным звеном, опираясь на которое Москва стремилась разрешить двойную проблему антисоветского альянса как западных держав, так и западных соседей, Германия сама превратилась в ее средоточие; лишь по тактическим соображениям советская дипломатия не спешила признавать, что «от советско-германских отношений осталось пустое место»[301]301
Письмо Л.М. Хинчука Л.М. Кагановичу, 7.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 107. Л. 87.
[Закрыть].
В советском руководстве крепло убеждение, что «Советский Союз должен любой ценой защитить нынешний статус-кво в Европе»[302]302
Robert Kvaček. Nad Evropou zataženo: Československa a Evropa 1933–1937. Praha, 1966. S. 68 (заявление К. Радека Й. Кошеку в начале 1933 г.).
[Закрыть]. Активизация советской политики в отношении западных соседних государств оказалась поэтому настоятельной необходимостью. Уже через три месяца после ратификации пакта о ненападении с Польшей (и одновременно с ужесточением режима для польской миссии в Москве) советские эмиссары принялись зондировать возможность военно-политического союза СССР и Польши, заговорили о притоках Одры как линии их общего фронта[303]303
Michał Jerzy Zacharias. Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936. Wrocław etc., 1981. S. 83; Запись беседы В.А. Антонова-Овсеенко с Я. Ковалевским, 15.3.1933. – АВП РФ. Ф. 0122. Оп. 17. П. 164. Д. 3. Л. 168.
[Закрыть]. Наряду с сомнениями относительно ориентации Пилсудского, советские усилия ослабляла неурегулированность отношений со странами Малой Антанты, так же, как и Польша, традиционно считавшейся «военным кулаком против СССР». В марте 1933 г., доказывая, что целью укрепления этого объединения является создание «противовеса Гитлеру» и освобождение от влияния Франции, руководитель чехословацкой дипломатии предложил заключить пакт ненападения и установить дипломатические отношения между СССР и странами Малой Антанты. Требование Москвы об обязательной констатации в советско-румынском договоре наличия «территориального спора» сорвало инициативу Э.Бенеша[304]304
См.: О. Кен. Чехословакия в политике Москвы (1932–1936 гг.)//Россия XXI. 1996. № 7–8. С. 65–66.
[Закрыть], но в восприятии Москвой Малой Антанты наметился перелом, и Литвинов с симпатией отмечал ее роль «как элемента стабильности в Европе»[305]305
W. Strang to J. Simon, Moscow, desp., 8.5.1933. – PRO. FO/371/17250/N3645.
[Закрыть]. Наметились сдвиги и в отношении СССР к перспективам Балтийского союза[306]306
Magnus Ilmjärv. Nõukogude Liidu ja Saksamaa: Balti riigid ja Soome 1934–1940//Eesti Teaduste Akademia. 1993. A.3. S. 12.
Следует сказать, однако, что многие утверждения Ильмярва нередко грешат передержками. В погоне за броскими обобщениями он утрачивает чувство меры. Нельзя, например, принять его тезисы, что установление авторитарной власти в Латвии и Эстонии в 1934 г. стало одной из причин, открывших путь к созданию Балтийской Антанты («поскольку те свели на нет возможность советского правительства препятствовать балтийскому сотрудничеству»(sic! что «в поведении Москвы было бы совершенно ошибочно усматривать желание достичь какого-то политического сотрудничества с прибалтийскими государствами» и т. п. – М. Ильмярв. СССР и проблема создания Балтийской Антанты//Россия и Балтия. Народы и страны. Вторая половина XIX – 30-е гг. XX в. М., 2000. С. 140, 151. См. также главу III в его монографии: Magnus Ilmjärv. Hääletu alistumine. Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Tallinn, 2004. S. 199–249.
[Закрыть].
19 марта 1933 г. Италия выступила с предложением о заключении пакта четырех (Англия, Франция, Германия и Италия), целью которого было бы обеспечение длительного мирного периода. Фактически речь шла о подготовке демонтажа Версальской системы и вероятности того, что пересмотру могут быть подвержены положения Устава Лиги наций. 13 апреля Литвинов направил Сталину записку с информацией о поступивших из Анкары и Риги предложениях: 1) занимавший пост председателя комиссии по иностранным делам латвийского сейма социал-демократ Феликс Целенс поинтересовался в беседе с полпредом А.И. Свидерским, согласится ли СССР принять участие в конференции министров иностранных дел Прибалтики и Польши для создавшегося международного положения; 2) министр иностранных дел Турции Тевфик Рюштю Арас (Рушди-бей) передал по поручению Кемаля полпреду Я.З. Сурицу два предложения – присоединиться в Женеве к французскому проекту создания безопасности и созвать по инициативе СССР в Женеве конференцию стран подписавших Московский протокол. Рушди считал, что такая конференция должна быть акцией, параллельной пакту четырех и демонстрацией против него. Коллегия НКИД высказывалась за положительный ответ на запрос Целенса на двух предварительных условиях: единогласное принятие решений участниками конференции и воздержание от сепаратных групповых совещаний. По мнению Литвинова, это позволило бы избежать антигерманских демонстраций. Что касается предложений Анкары, то Литвинов считал их вызванными опасениями Турции оказаться в изоляции. Он предлагал отклонить первое предложение, но принять второе – с поправкой – созвать не конференцию подписавших Московский протокол, а конференцию непосредственных соседей СССР, подписавших пакты о ненападении (с допуском на нее Румынии). Нарком высказывался за желательность наполнения конференции новым содержанием, а именно – подписанием протокола о принятии советского определения понятия агрессия[307]307
А.И. Рупасов. Гарантии. Безопасность. Нейтралитет. СССР и государства-лимитрофы в 1920-х – начале 1930-х гг. СПб., 2008. С. 263–265.
[Закрыть].
Судя по всему, определенного ответа «Инстанции» не последовало. Возможно, свою роль сыграли опасения в отношении резкой реакции Германии. Тем не менее, 19 апреля Литвинов обратился к польской дипломатии с идеей проведения конференции государств-соседей СССР для заключения совместного протокола об определении понятия агрессии, подобного тому, какое руководитель советской делегации безуспешно предлагал ранее Конференции по разоружению. Варшава выдвинула условием предварительное правовое урегулирование бессарабского вопроса, и проект восточноевропейской конференции был на время оставлен. Возвращение к нему произошло в ходе встреч глав внешнеполитических ведомств СССР, Румынии и Турции и польского представителя, приехавших в Лондон по случаю мировой экономической конференции. Беседа Литвинова, Титулеску и Рачинского 26 июня предрешила заключение многосторонней конвенции об определении агрессии на основе доклада комиссии Политиса Женевской конференции по разоружению. Вопреки желанию Литвинова, стремившегося придать конвенции максимально широкий характер и намерению Титулеску сделать ее участниками все государства, по настоянию Польши были оформлены два отдельных соглашения, имевшие «региональный» характер. Первое из них, подписанное 1 июля[308]308
В качестве официальной даты участники договорились указывать 3 июля (List L. Orlowskiego do A. Muhlsteina, Londyn, 4.7.1933. – IWS. A.12.P32/2. S. 33).
[Закрыть], охватывало СССР, Румынию, Польшу, Латвию и Эстонию (а также Афганистан и Иран)[309]309
Посол Финляндии в Лондоне был готов подписать конвенцию лишь с оговорками, на что Литвинов не согласился. Финляндия присоединилась к первой Лондонской конвенции в 1934 г.
[Закрыть], 4 июля идентичный документ был подписан СССР с Турцией и странами Малой Антанты. 5 июля конвенция об определении агрессии была заключена между СССР и Литвой, которой пришлось примириться с тем, что, «поскольку в игру входят более важные для нас проблемы общей политики», двусторонним отношениям «может быть нанесен определенный ущерб»[310]310
Доклад М.А. Карского Б.С. Стомонякову, 9.7.1933. – АВП РФ. Ф. 0151. Оп. 23. П. 46. Д. 3. Л. 140. Вопреки обыкновению, в 1933 г. литовского представителя не пригласили на советские военные маневры.
[Закрыть].
Значение Лондонских конвенций для взаимоотношений Советского Союза с западными соседями было многопланово. Являясь ответом восточноевропейских государств на заключенный вопреки их протестам «пакт четырех держав» и на территорально-колониальные притязания Германии, многосторонний Договор о ненападении (как нередко называли эти соглашения) устанавливал жесткие критерии, в соответствии с которыми никакие обстоятельства внутренней жизни государства или «соображения политического, военного, экономического или иного порядка» не могли служить «извинением или оправданием агрессии». Существо определения «агрессия» удовлетворяло страны Восточной Европы, короткая история которых началась с покушений на обретенный ими суверенитет (в особенности, со стороны Советской России) и которые оказались перед лицом отстаивания своих границ от ревизии послевоенного устройства, и, вместе с тем, являлось апофеозом советской концепции международного невмешательства во внутренние дела других стран (под которыми подразумевался СССР). Ссылка на «доклад Политиса» позволяла молчаливо исходить из содержавшегося в нем понятия территории государства как территории, находящейся под его «фактической администрацией», что вызывало удовлетворение Польши как обладательницы Виленской области и Румынии – владычицы Бессарабии[311]311
«Я знаю, что, подписывая это соглашение, я подарил Вам Бессарабию, – сообщал в Бухарест Н. Титулеску о заявлении Литвинова, сделанном в присутствии главы МИД Турции. – Если я не могу это признать официально, то только по причине трудностей, которые будут у меня с нашим общественным мнением, особенно на Украине». В ответ Титулеску заметил, что Бессарабия подарена Румынии не Литвиновым, но Богом//Советско-румынские отношения. Т. 1. 1917–1934. Документы и материалы. М., 2000. С. 413–414.
[Закрыть], а многосторонний характер Конвенции об определении агрессии делал неуместным какое-либо упоминание о существовании неразрешенного спора между СССР и Румынией[312]312
Литвинов удовлетворился заменой формулы Политиса: «l’inviolabilité de leurs territoires» на собственную: «l’inviolabilité des territoires des leurs pays» и, обращаясь к Титулеску, заявил, «что ни имеет ничего против того, “чтобы вы удержали за собой Бессарабию!”», но в тексте конвенции намека на это позволить не может (Notatka E. Raczyńskiego «Rozmowy na temat protokołu o definicji agresji», 29.6.1933. – IWS. А. 12.P32/2. S.5). См. также: Dov B. Lingu. Romania and the great powers, 1933–1940. Durham and L., 1989. P. 28–29.
[Закрыть]. Поэтому заключением Лондонских конвенций Москва не только завуалированно отступила от чичеринской ноты 1926 г. в отношении Литвы[313]313
Когда в одном из июльских докладов Антонов-Овсеенко упомянул, что СССР полностью солидаризировался с Литвой в виленском вопросе, то Стомоняков отреагировал на это немедленно и категорично: «…мы никогда, ни в один момент наших отношений с Литвой, не солидаризировались с нею в этом вопросе – ни полностью, ни частично. Не делали этого и теперь». – Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 19.7.1933. – РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 755. Л. 51.
[Закрыть], но и устранила главное препятствие к нормализации отношений с Румынией, о которое разбились переговоры о пакте ненападения. Румынское и чехословацкое правительства, не встречая возражений с советской стороны, рассматривали соглашение 4 июля как заменяющие двусторонние пакты с СССР о ненападении. Вместе с тем, заключение этой конвенции ослабило потребность Бухареста и Праги в договоренностях с СССР о взаимном признании, и беседы на этот счет велись еще почти год – от одного женевского случая к другому. Польское предложение о подписании конвенции первоначально лишь с соседними государствами возбудило обычные подозрения насчет стремления Варшавы к региональной гегемонии в ущерб СССР, однако немедленное согласие советской дипломатии и политического руководства с подобными настоянием показывало, что Москва начинает примериваться к роли объединителя восточноевропейских государствах в их противостоянии империалистским притязаниям.









































