Текст книги "Социал-традиция"
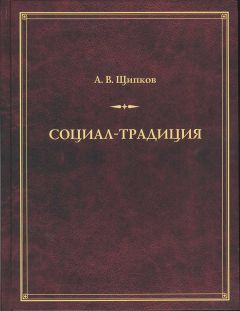
Автор книги: Александр Щипков
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Глава 6
Социалистическое наследие и консервативные ценности
Лики социализма. – Логика десоветизации. – Судьба реального социализма. – Судьба консерватизма. – Консервативный социализм.
* * *
Понятие «социализм» сегодня предельно мифологизировано как его противниками, так и сторонниками. При слове «социализм» в сознании у многих неизменно зажигается одна-единственная лампочка под названием «СССР», как в ответ на слово «фрукт» память услужливо выдаёт «яблоко», а при слове «поэт» мы вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. И такая инерционность сознания, прямо скажем, не способствует критическому осмыслению безбрежного социалистического наследия.
Если смотреть на вещи с позиции человека, прожившего большую часть жизни в Советском Союзе, это становится понятно. Но через четверть века после исчезновения СССР накопилось немало резонов рассматривать проблему социализма в более широкой исторической перспективе, чем краткий курс исторического материализма или даже марксистское древо социальной философии.
Социализм представлен в истории не одной лишь советской и современными ей китайской, кубинской, корейской и другими версиями и не только трудами некоторых западных левых авторов. Даже при беглом взгляде мы обнаружим вариации на тему социальной справедливости в «Деяниях святых апостолов», у Иоанна Златоуста, в слове «Против ростовщиков» Григория Нисского, наконец, у Лактанция, который, например, ещё в IV веке (!) писал: «Чтобы других подвергнуть своему рабству, люди стали собирать себе в одни руки первые потребности жизни и беречь их тщательно… После того, составили они себе самые несправедливые законы под личиною мнимого правосудия, посредством которых защитили против силы народа своё хищничество» («Божественные наставления», кн. 5, гл. 6).
Вот и говорите теперь, что идеи первоначального накопления, «политической надстройки» и эксплуатации родом из «Капитала» К. Маркса. А крестьянские мысли о «Божьей земле», «всеобщем поравнении» и «чёрном переделе»? А проблема разрыва между деньгами и трудом, которую стремились решать посредством welfare state – государства всеобщего благосостояния? Иными словами, нет единого социализма, но есть множество эгалитаристских теорий.
Обсуждая признаки политической тирании в СССР в определённые периоды его существования, мы обсуждаем не социализм как таковой. По большому счёту социализм в советском государстве присутствовал в довольно скромных масштабах, чего, правда, нельзя сказать о советском обществе, заряженном традицией крестьянской общины и исторической эсхатологией. Зато черты реального социализма – в отличие от большевизма – мы найдём в русско-византийской традиции. Например, если вспомним, что в Византии после XII века не было рабов и крепостных, что ассимилируемые Византией народы сохраняли свою идентичность, письменность, культуру («пластичный универсализм»), что в ромейской империи были выборные императоры, считавшиеся «первыми из равных», и это напоминало скорее принципат, нежели хрестоматийное «самодержавие».
Будем откровенны. Сегодня альтернативой справедливому распределению благ по-прежнему является система, отбирающая эти блага у соседей, альтернативой социальному равенству является неоколониализм, альтернативой эгалитаристским идеям – идеи расистские. Не важно, какой именно это расизм – социальный, в духе экономистов гайдаровской школы и их «болотной» клаки, или же неприкрытый нацизм бандеровского режима. Методы разные, схема одна: социальные блага в обмен на идеологию. И риторика узнаваема: «гражданское общество – это мы», большинство – это «быдло», «генетический мусор», «потомственные рабы».
На самом деле в любой культуре присутствует элемент этически обусловленного эгалитаризма. Но востребован он бывает в тех случаях, когда общество лишено доступа к неправедной цивилизационной ренте, извлекаемой из нижних «этажей» в социально-экономической и культурной иерархии. Легко представить это на сегодняшнем примере: США стремятся решить экономические проблемы за счёт Европы, Европа (вместе с США) – за счёт Украины, Украина – за счёт России. При беглом взгляде становится ясно: это классическая пищевая цепочка.
Мы христиане. Можем ли мы себе позволить угнетение и колонизацию (вовне страны или внутри – не важно)? Разумеется, нет. Какова же альтернатива? Она одна: справедливое общество.
* * *
Перманентная критика советского социализма, во многом справедливая, на самом деле ничего не стоит.
Сегодня это чистая риторика, которая, однако, помогает финансово-бюрократическим кланам избавляться от всего, с их точки зрения, лишнего, от «непрофильных активов» корпоративной экономики. То есть от доступного всеобщего образования, бесплатной медицины, нормальной пенсионной системы и т. д. Это проще всего сделать, объявив все указанные социальные блага наследием «страшного, варварского совка». При этом очередное низвержение реликтов советской идеологии является чисто ритуальным актом, не более. А вот идущий следом сброс социальных обязательств совершается не в историческом плюсквамперфекте, а здесь и сейчас. И явно не в нашу пользу. По сути, общество поставлено в положение туземцев, которых в обмен на идеологические бусы и стекляшки лишают вполне реальных материальных благ.
Яркий пример такого неэквивалентного обмена – сегодняшняя Украина. Украинская кампания по низвержению советских памятников и переименованию улиц прикрывает социально-экономическую программу, которая отдаёт в экономическую кабалу несколько поколений.
* * *
История СССР – это попытка построить справедливое общество, исключив из него остальные элементы русской традиции. Основой такого общества должен был стать пролетарский интернационализм, а на выходе должен был появиться «советский народ как новая историческая общность». О степени успешности этого проекта можно судить по тому, как быстро идеи пролетарского интернационализма были смыты волной местных национализмов в странах СНГ после развала СССР.
Справедливость без других элементов традиции не могла привести к появлению устойчивой модели общества. Поэтому в советское время идеи консервативного социализма не могли быть реализованы на практике. С другой стороны, благодаря так называемому «железному занавесу» и частичной политической консервации страны они не были разменяны на участие в западных глобалистских проектах. Наше социальное достояние просто лежало под спудом. К сожалению, после распада СССР мы этим достоянием так и не воспользовались.
Катастрофы 1990-х годов не произошло бы, если бы Россия, отказавшись от коммунистической идеи, восстановила связь с исторической традицией. Но общественное мнение поверило в возможность общества без идеологии и ценностей и в очередной раз избрало путь исторического разрыва.
Сегодня мы наблюдаем последствия ошибочного курса. Вместо «свободной конкуренции» мы получили делёж страны сырьевыми баронами и чиновничьими корпорациями. 75 % национальных активов находятся в руках 1 % населения, при этом мы имеем 13 %-ную плоскую налоговую шкалу. В Европе разрыв между нижним и верхним уровнями доходов составляет 4–5 раз, в США – 10, в России – 40–50. Такая пропорция невозможна в развитом государстве. Она характерна для страны, которая стоит на периферии мировой экономики.
Крах советской модели социализма доказывает, что проект, провозгласивший отказ от национальной традиции, в конечном счёте был обречён. Попытки исправить ситуацию в рабочем режиме оказались безуспешными. Но это не означает принципиальной невозможности построить социализм: видим успешный пример КНР, которая сохранила свою модель развития, переведя её на рельсы китайской конфуцианской традиции.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о репрессивных практиках советского периода. Действительно ли этот курс был необходим для модернизации страны, как утверждает версия наследников ВКП (б)? Согласно одной из точек зрения, Великая депрессия сделала невозможным проведение советской индустриализации другими средствами, кроме как путём коллективизации, раскрестьянивания и разрушения общины. Но надёжных подтверждений этого тезиса нет. И мнение ортодоксальных коммунистов о необходимости крутых мер выглядит неубедительно.
Подрыв традиции и социальной базы государства исключал устойчивость курса индустриализации, да и самого государства. 1990-2000-е годы в России в полной мере это доказали. С другой стороны, очевидно, что в условиях социального государства – если только оно возникает не в результате гражданской войны – больше возможностей обойтись без жертв, нежели в рамках капиталистической эффективности и принуждения к рынку, которые проявили себя в виде новой чрезвычайщины 1990-х.
В отношении к советскому наследию необходим критерий практической разумности. Нельзя отрицать таких преимуществ советского периода, как общедоступность образования и всеобщая грамотность, невозможно игнорировать историческую роль Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне и серьёзные достижения позднесоветского периода в создании фундаментальной науки и социального государства.
Несмотря на очевидные минусы советской системы, социальное государство в России ХХ века, пусть даже и советского типа, тоже часть традиции. И от его достижений нет никаких причин отказываться, с каких бы идеологических позиций ни выступал тот или иной критик.
Отказ от лучшей части советского наследия, который проявился, например, в истории с «реформой РАН» и «образовательной реформой», стал причиной курса на социальную деградацию. Сегодняшняя Россия, мало что производя помимо углеводородов, проедает созданное до 1991 года и никак не поднимется даже до советского уровня промышленного развития. Неудивительно, что об СССР сожалеет две трети граждан России. Называть их на этом основании «совками» и считать какой-то неполноценной социальной группой недопустимо. Такая практика – одно из проявлений моральной нечистоплотности российского либерального истеблишмента. В свете последних событий этот феномен принял форму своеобразной политической «украинизации» русского сознания – учитывая курс Украины в рамках «Соглашения об ассоциации с ЕС».
Моральный и политический аспекты. Глупо было бы отрицать преступления большевизма. Но необходимо разделять преступления партийной номенклатуры и права бывших советских граждан, трудом которых была создана научно-техническая база СССР. Жизнями простых советских граждан была оплачена и победа в войне. Эти люди стали жертвами тех, кому они верили, и нуждаются в моральной и материальной компенсации со стороны остального общества и государства.
Сегодня социалистическая (левая) мысль в России страдает странной смесью мании величия и комплекса неполноценности. С одной стороны, приверженцы социалистических и коммунистических взглядов не в состоянии изжить пораженческий комплекс после развала СССР. С другой стороны, коммунисты ортодоксального толка до сих пор находятся в плену идеологических шаблонов. Им и сегодня присуща склонность к вождизму, сакральное отношение к Сталину, Ленину и «ленинским заветам».
* * *
У консерваторов ещё более серьёзная проблема. Политический формат русской истории всегда делал проблемным отстаивание консервативной идеи. Будучи не в силах противостоять революции сверху, консерваторы на каждом историческом витке оказывались в политическом офсайде. У них почти не было влиятельных защитников[88]88
Русский вариант консервативной идеи принято иногда отсчитывать от князя Михаила Щербатова и его сочинения «О повреждении нравов в России». Примечательно, что этот консервативный памфлет находился под цензурным запретом много десятилетий: написанный в 1787 году, он был впервые опубликован только в 1858-м, да и то не на родине, а в лондонской Вольной русской типографии усилиями А. И. Герцена.
[Закрыть].
Русскую консервативную философию принято связывать с трудами ранних славянофилов, прежде всего Константина Аксакова. У славянофилов консерватизм с самого начала приобретает социальную окраску. Вместе с тем славянофилы противопоставляют себя «официальной народности», что получает отражение в трениях вокруг руководства и идеологических установок журнала «Москвитянин».
Историкам хорошо известна записка славянофила К. Аксакова Александру II[89]89
«Русский народ не революционен и не претендует на участие в политике, – пишет К. Аксаков. – Поэтому событий, подобных тем, что имели место в якобинской Франции, в России ждать не стоит. Но взамен пусть власть оставит народу его право на внутреннюю жизнь, вековой уклад, традицию общины» (Аксаков К. С. Записка о внутреннем состоянии России // Теория государства у славянофилов: Сб. статей. СПб., 1898. Цит. по: Перелом: Сборник статей о справедливости традиции. М., 2013. С. 49).
[Закрыть]. Попытка разделения политических и культурных полномочий, обозначенная в письме к царю, оказалась утопичной, а золотой сон русского консерватора коротким. Власть не соблюдала означенные границы. Консервативные идеи в России либо маргинализировались усилиями правящих элит, либо использовались для идеологического обслуживания локальных политических проектов («ситуативный консерватизм»). Официальные консерваторы, представленные «охранителями» и «государственниками», служили прикрытием либерального курса власти, который проводился авторитарно[90]90
Вардан Багдасарян характеризует сегодняшнюю версию российского консерватизма как «аппаратный консерватизм»: «Бывшие коммунисты и комсомольцы массово превратились в одночасье в убеждённых либералов, а затем столь же дружно и столь же стремительно перезаписались в консерваторов» (Багдасарян В. К дискурсу о консервативной идеологии: аппаратный консерватизм. URL: http://vbagdasaryan.ru/k-diskursu-o-konservativnoy-ideologii-apparatnyiy-konservatizm/).
[Закрыть].
Русский консерватор до сих пор стоит перед проблемой самоидентификации: какие ценности отстаивать, что сохранять и «консервировать»? Ведь многое в нашей истории выглядит как отрицание ценностей предыдущего исторического периода. Пока общество не определится с отношением к собственной истории, реальный консерватизм не сможет занять подобающее ему место в политической жизни.
* * *
В России идея социального государства упала на более подходящую историческую почву, чем в Западной Европе. Общественно-экономический уклад России соответствовал модели мир-империи, а не мир-экономики с её опорой на торговый и биржевой спекулятивный капитал[91]91
Наряду с Россией к модели мир-империи тяготела и Германия, что и определяло комплементарность двух стран в рамках геоэкономики. Отсюда и курс Антанты, а затем атлантистского альянса на сталкивание интересов России и Германии с помощью политических инструментов, но вопреки геоэкономической логике. Эти усилия прилагались для фрагментации и разрушения пространства мир-империи, которое могло сложиться в Европе и стать противовесом атлантистской мир-экономике. Продолжением этих усилий является и курс на отрыв Украины от России, и попытки торпедирования проекта Евразийского союза.
[Закрыть]. По этой причине в течение нескольких веков Россия накопила уникальный опыт коммунитарных отношений и социальной демократии, связанный с историей крестьянской хозяйственной общины (которая «освящалась» близостью и влиянием общины церковной), земского самоуправления и артелями. Так, в аграрной России наряду с компрадорской сложилась социальная модель, основанная на справедливости и солидарности. Она сохранилась в исторической памяти нации, выйдя далеко за пределы крестьянского сословия и церковного мира.
Именно поэтому понятия «соборность», «община», «коллективное спасение» оказывали влияние на всю русскую жизнь – это легко проследить по архивным документам и произведениям русских классиков. Сближение консервативно-религиозного и эгалитарного (социалистического) элементов в русском обществе было закономерным. Этот процесс объективно вёл к формированию основ русского христианского гражданского общества. Если бы этому обществу дали сформироваться, оно, скорее всего, строилось бы не на отдельных консервативных или социалистических принципах, а на консервативно-социалистическом идейном синтезе. Поддержка крестьянской массой консервативных противников разрушения общины очень показательна.
В России до 1917 года существовали консервативно-социалистические лидеры и партии. В известной мере одной из таких общественных фигур был Лев Толстой. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать его письмо, адресованное критику общины Петру Столыпину. Ещё более чётко принцип консервативного социализма был сформулирован протоиереем Валентином Свенцицким. В 1912 году в статье «Христиане и предстоящие выборы» он писал о том, что на выборах в Думу следует голосовать за «кандидатов левых партий» (эсеров), поскольку только они способны «разъяснить народу, где его враги»[92]92
Свенцицкий В. Христиане и предстоящие выборы [Электронный ресурс]. URL: http://www.religare.ru/2_90613. html (дата обращения: 12.08.2014).
[Закрыть]. Гораздо раньше известный, можно сказать, титульный консерватор К. Леонтьев помышлял даже о монархическом социализме. В 1880-е он писал: «Иногда я предчувствую, что русский царь станет во главе социалистического движения и организует его так, как Константин способствовал организации христианства…»[93]93
Александров А. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К. Н. Леонтьева Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 94.
[Закрыть]
Единство земного и небесного, соборности и солидарности, социальности и сотериологии – характерная русская черта. Именно поэтому русская религиозность включает в себя обострённое чувство земной справедливости, любовь к униженным и оскорблённым, хорошо описанную в романах Ф. М. Достоевского. Справедливость и милосердие для русского общества – это «отражение неба на земле».
Теперь обратимся к детерминистскому аспекту проблемы. Что первично: содержание традиции или её место в мире? С одной стороны, мы имеем исторически устойчивый концепт русской национально-религиозной традиции: аграрная страна, православное общество, соборность (солидарность), социальная справедливость, общинный коммунитаризм. С другой стороны, именно эти параметры русского общества диктуются ему политэкономической прагматикой, связанной с местом России в миросистеме. Видеть ли в этом совпадении провиденциальный смысл или же ограничиться констатацией объективного факта? Мы полагаем, что это вопрос личных убеждений. Любой ответ на него возможен, это ничего не меняет в понимании традиции. При этом очевидно, что русская социальная этика и социальная структура в данном случае являлись неизбежным следствием логики мировых процессов и положением России в миросистеме. Это важно понимать. Тогда легко избежать беспочвенных обвинений в национальном мистицизме и вере в национальную исключительность.
К сожалению, формирование консервативного социализма столкнулось с искусственным разрушением общины, всевластием хлебной олигархии и революцией, обернувшейся новым закрепощением и прерыванием традиции.
Но сегодня ситуация медленно меняется.
Уже сегодня русские консерваторы (например, монархисты) и коммунисты находят между собой немало общего. Пример антифашистского восстания в Новороссии, когда монархисты и коммунисты оказались в «одном окопе», убеждает в этом как нельзя лучше. С другой стороны, неожиданные высказывания социалистического содержания, в том числе полуодобрительные характеристики советского периода, можно услышать и от некоторых клириков РПЦ.
Политическая ситуация располагает к «левоконсервативному» синтезу. Неолиберальная программа, осуществляемая в России, охватывает все сферы: от ЖКХ и вузов до ювенальной юстиции и церковной жизни. Её цель на данном этапе – тщательная зачистка политического ландшафта как слева, так и справа. Слева – от остатков («пережитков») социального государства. Справа – от традиционных ценностей. Именно поэтому «правые» и «левые» политические субъекты оказываются перед одними и теми же целями и задачами.
Сегодня крайне важен общественный консенсус. Столетие назад раскол на красных и белых был неизбежен, но сегодня это состояние губительно. Гибельность такого раскола хорошо описал Михаил Шолохов в романе-эпопее «Тихий Дон». Бывшим красным и бывшим белым следовало бы подняться над историческими травмами и фантомными болями. Ведь не какая-то часть общества, а всё общество имеет право на собственную историю.
Аналогичный путь в перспективе могут проделать православные (РПЦ МП) и старообрядцы (РПСЦ). Со стороны РПЦ важные шаги в этом направлении предпринимались ещё в 1970-е. Как мы уже отмечали выше, в ходе поместного Собора в 1971 году РПЦ официально признала ошибочность действий царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Ещё более впечатляющим выглядит путь примирения РПЦ МП с Русской православной церковью за границей (РПЦЗ). Объединение церквей в 2007 году было поистине великим событием.
Центр традиции, её точка сборки находится именно в том самом месте, где когда-то произошло трагическое разделение.
Консервативный социализм становится всё более востребованной идеей в современной политической ситуации. Его ни в коем случае нельзя путать с такими понятиями, как «реставрация», «возвращение к прошлому». Тут речь идёт о «договоре поколений», преемственности ценностей, исторических целей и задач.
Глава 7
Традиция слева
Власть фундаментального модерна. – Модерн: незавершённость или распад? – Борьба за традицию. – Традиционализм: правое и левое. – Аксиологическая ось традиционализма. – Неолиберализм и правый традиционализм. – Феномен социал-традиции. – Социал-традиция, как её понимать. – Социал-традиция и христианство. – Истоки общинного коммунитаризма. – Традиция и фашизм. – Преодоление эволюционизма. – Концепт традиции. – Традиция и модернизация. – Мифоритуальный аспект модернизации. – Прогресс или инновация? – Системный традиционализм. – Социал-традиционализм. – Солидарность, соборность и сотерия. – Этика и право: пересмотр границ. – Судьба демократии. – Гражданское общество и фактор большинства. – Инверсия политической шкалы. – Большое общество. – Договор поколений. – Знание-традиция. – К будущей традициологии.
* * *
В современной идеологической матрице всё ещё сохраняется старый стереотип – дихотомия «традиция – модернизация». Эта мифологема сказывается и в политике, в своеобразном разделении обязанностей между «консерваторами» и «реформистами» (они же «патриоты – либералы», «почвенники – западники», «некреативные – креативные» и т. п.). Данная мифология включает теоретический довесок в виде доктрины политических циклов – «заморозков» и «оттепелей», сменяющих друг друга, подобно погодным явлениям.
Нет смысла тратить время на критику этой волшебной теории. Но стоит отметить, что в России указанная дихотомия всё ещё закладывается в основу как публичного, так и научного дискурсов. А между тем в мировой социальной науке феномен модернизации давно не рассматривается как отрицание традиции. Линейная веберовская концепция традиции (противопоставление традиции и современности как «нерационального» и «рационального») ушла в прошлое и уступила место идее диалектичности традиции, разработанной в 1960-1980-е годы Эдвардом Шилзом, Шмуэлем Айзенштадтом и другими учёными, склонявшимися к интегральному, а не линейному пониманию предмета.
Но диалектическая традициология практически не учитывается сторонниками конструктивистской доктрины. Отстаивая идею «социальной динамики» и «плюралистического духа современности», они одновременно являются охранителями манихейской модели историзма: антитеза «традиция – модерн» их вполне устраивает.
Но под покровом модернистско-конструктивистской доктрины по существу скрывается радикальный ультраконсервативный антитрадиционализм – фундаментальный, бесконечно длящийся модерн. В рамках этого фундаментального модерна существует жёсткая нормативность, утверждающая преобладание в истории модуса несовместимости и разрыва над модусом преемственности. Причём ответственность за разрыв приписывается именно носителям традиционалистской ортодоксии.
Таков парадокс фундаментального, бесконечно длящегося модерна. Её приверженцы, как любые фундаменталисты, стремятся сделать свою версию истории эксклюзивной и безальтернативной.
Параллельно надо отметить, что концептология «современности» сегодня вообще вызывает много вопросов, с этим понятием в каждом случае приходится заново определяться.
Современность – это что? Это «сегодняшний день», стиль эпохи, определённое состояние структур повседневности? Или речь идёт об имеющем статус научного термина, хотя и устаревшем понятии «модерн», «модернити»?
И каковы предпосылки исторической инаковости феномена, обозначаемого данным понятием, по отношению к предшествующему времени? Ведь если нижняя граница эпохи модерна задаётся в рамках истории и социологии ХХ века, то по поводу верхней её границы в науке существует серьёзная разноголосица. И соотношение понятий «модерн», «поздний модерн», «незавершённый модерн», «постмодерн», «сверхмодерн», «контрмодерн», «постисторизм», «постсекулярный мир» как в науке, так и в околонаучной публицистике лишено определённости.
Вполне может оказаться, что концепт «современности» в актуальном дискурсе попросту абсолютизирован и выдвигается в качестве господствующего понятия, соотносимого с любой удобной точкой на верхней части исторической шкалы. В этом случае проблематика «современности» выглядит скорее как эхо постмодернистской инаковости в контексте проблематики историзма.
Сторонники концепции позднего модерна полагают, что модерн всё ещё находится в фазе развития. Эта установка восходит к тезису о «незавершённости модерна» Ю. Хабермаса, высказанного им в известной работе «Вера и знание», в основу которой была положена его речь, произнесённая 14 октября 2001 года по следам трагических событий 11 сентября 2001 года и по случаю присуждения ему Премии мира Биржевого союза немецкой книготорговли. Эта речь пронизана идеологией радикального модернизма и секулярного фундаментализма. Но за минувшие 15 лет эта точка зрения стала выглядеть всё более и более сомнительной. Наряду с фоновым её отторжением существуют и прямо противостоящие ей концепции, такие как «радикальная ортодоксия» Дж. Милбанка или «демократический традиционализм» Дж. Стаута.
Тем не менее в России (а иногда и на Западе) дискурсу традиции всё ещё нередко навязывается презумпция, которую он сам никогда не манифестировал. Презумпция того, что динамика общественных процессов не касается традиционализма, что он их насколько возможно активно избегает, а чтобы всерьёз интересоваться социокультурной динамикой, надо непременно быть (нео)модернистом. Но такое допущение произвольно.
В качестве локального примера данной идейной коллизии вспоминается внутрироссийская дискуссия по поводу встречи в Гаване Патриарха Кирилла и Папы Римского. Комментируя это событие, «правые» фундаменталисты и либеральная околоцерковная тусовка дали полярные оценки, но интерпретировали событие одинаково – как шаг к экуменизму. И это при том, что речь в «Декларации» глав церквей шла о смене богословской, то есть потенциально экуменической повестки на социогуманитарную, что создало принципиально новый формат межцерковного диалога.
Это дань устаревшему взгляду, который, будучи преодолён в науке, переместился в область политики и идеологии. Там он получил вторую жизнь и пользуется спросом как у «классических» фундаменталистов, так и у приверженцев фундаментального модерна. Причём приверженцы обоих направлений поддерживают и усиливают друг друга, взаимно подтверждая востребованность противоположного, якобы «оппонирующего» дискурса.
Но, как бы там ни было, понятие «современность» сегодня теряет остатки семантической цельности и универсальности. «Современная современность», если так можно сказать, – это мозаичное явление. Поэтому кто бы ни говорил о «современности», он не может говорить от её имени единолично, как, впрочем, и от имени традиции. И массовое сознание уже стоит на пороге смены этой устаревшей парадигмы.
* * *
Сразу после событий 11 сентября 2001 года философ Ю. Хабермас высказал идею о «незавершённости модерна». Но, как уже было сказано, не успев «завершиться» или, напротив, «завершившись», модерн явно сдаёт позиции контрмодерну – новой политической и идеологической силе, позволяя ей поглотить себя. При этом со стороны адептов идеологии модерна (сегодня это неолиберализм) не наблюдается даже попыток апеллировать к ценностям премодерна (Большого стиля христианской традиции) или к ценностям сверхмодерна (эгалитаризм, марксизм, советский проект). Планка цивилизационности резко снижается. Наступает эпоха «новой дикости».
Контрмодерн пока ещё не превратился в магистральное явление, скорее он выглядит как последствие «износа» модерна. В этом состоянии современное общество обнаруживает сходство с обществом периода распада Рима накануне наступления христианской эпохи.
Состоится ли новый Большой стиль – аксиомодерн[94]94
Понятие «аксиомодерн» я ввёл и впервые использовал в 2015 году в книге «Бронзовый век России». Подробнее о нём мы будем говорить в последней главе этой книги.
[Закрыть] – как результат синтеза христианской традиции и рационализма, или же господство контрмодерна станет системным явлением, сказать трудно.
Что касается хабермасовской идеи незавершённого модерна, или «нового проекта модерна», то она как бы предполагает, что модерн мог бы длиться («завершаться») вечно. Это идея вполне фундаменталистская, только речь здесь идёт о фундаментальном модерне.
Прежде революционный проект общества (если считать от 1793 года, как предлагает И. Валлерстайн) на глазах становится реакционным. Это порождает процессы социальной архаизации, которые, между прочим, косвенно признавал сам Ю. Хабермас, когда писал об «институциализации агрессии» в период бомбёжек Югославии силами НАТО.
В связи с этим идея современности как «завершения модерна» (неважно, осуществившегося или только возможного в будущем) вызывает серьёзные сомнения.
В середине 2010-х стало очевидно, что современное общество переживает фазу саморазрушения и кардинальной трансформации, а не отложенного «завершения проекта Просвещения». Поэтому всё чаще можно услышать о состоянии постсекулярности и «эпохе гибридов».
Сегодня невозможно создать монолитный и внутренне непротиворечивый образ, стоящий за понятием «современность». Напротив, в условиях позднего капитализма разрушается смысловая непрерывность жизненного мира. Одновременно деактуализируются привычные теоретические модели в осмыслении общественных процессов. На фоне этой ситуации можно говорить об исчерпанности секуляризма как парадигмы современности. Никто уже не имеет права сказать: «Современность – это я». На фоне разрушающейся парадигмы модерна приходится заново определяться с базовыми понятиями, такими как «современность», «секулярность», «религиозность», «гуманизм», «традиция».
* * *
Поворот к традиции неизбежен. Вопрос лишь в том, будет ли он связан с возрождением пещерных нравов – этой тёмной изнанки традиционализма – или традиционализм окажется социальным и цивилизованным.
Если мировые правящие элиты попытаются взять из традиции именно те механизмы, которые способствуют сохранению и усугублению социального неравенства, то поворот к традиции и повторное освоение исторического наследия могут пойти не по пути возвращения на исторически магистральный путь, но по пути дальнейшего социального регресса.
Сегодня либеральные элиты активно вводят в массовое сознание те элементы традиции, которые связаны с языческими элементами и разными видами фундаментализма. Это мы можем проследить на примере движения New age (стоит оценить сам термин в перспективе «поворота к традиции»), а также поддержки американским и европейским капиталом фундаменталистских движений (например, на Ближнем Востоке).
Что же такое «высокий», прогрессивный традиционализм?
Разумеется, под ним вряд ли можно понимать реставрацию модели клерикального или монархического государства (хотя и абсолютного табу на идеи монархизма или клерикализма быть не может, это тоже часть традиции). Под цивилизованным традиционализмом следует подразумевать ценности, нормы и принципы объединения людей, которые, с одной стороны, отложились в историческом опыте «высокой культуры», а с другой – породили формы социума, препятствующие социальному расслоению и угнетению (общинные, солидарные и т. п.). В Европе этому условию удовлетворяет определённая часть христианской традиции, в Китае – конфуцианства, на Ближнем Востоке – ислама. В апостольском христианстве, например, евангельское «моральное сознание» получает дальнейшее развитие и самораскрывается в святоотеческом наследии. Даже так называемая советская парадигма не смогла избавиться от традиционного «наследия»: в нём были свои предтечи, носители знания, канонические и еретические версии учения, эпигоны и творческие продолжатели.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































