Текст книги "Социал-традиция"
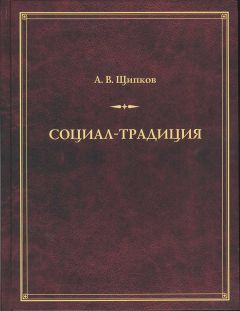
Автор книги: Александр Щипков
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
В рамках русской ментальности религиозность и секулярность не находятся в отношениях полной антиномии. Даже в революционном движении и в структурах советского социума эти два начала тесно переплетались друг с другом. Например, народовольцы нередко объясняли свои взгляды христианскими мотивами. А социальная справедливость и равенство, к которым стремился советский строй, бесспорно, стали результатом не только усвоения марксизма, но и влияния православной (новозаветной) этики, вытесненной в коллективное подсознание доктриной госатеизма, однако дававшей о себе знать.
Если придерживаться веберовской формулы, социально-этическое ядро русской традиции можно определить следующим образом: «православная этика и дух солидаризма». Православная этика и дух солидаризма – это и есть краткое определение русского этоса. Важной его частью является идея справедливого общества. Она предполагает разные формы востребованности евангельских архетипов в русском обществе.
Идея социальной справедливости в русской традиции берёт начало не в политэкономических прописях марксистов (хотя эти прописи были востребованы в СССР), а в христианском сознании нации. Русская версия социализма связана с именами таких людей, как Сергий Булгаков. Не случайно протоиерей Валентин Свенцицкий в 1912 году призывает верующих голосовать за левые партии (но не большевистские).
Сохранение в России социально ориентированных форм хозяйственной жизни вопреки давлению глобальных факторов было возможно именно благодаря христианской этике. Оно играло роль своего рода исторического якоря. Но христианская этика и производная от неё «моральная экономика» (термин Ф. Тённиса) не были бы востребованы, если бы не специфическое положение страны в миросистеме.
Одна из особенностей русского этоса – соединение стремления к социальной справедливости и апокалиптического мироощущения. Дело в том, что категория «справедливости» в России имеет не только моральное и материальное, но и метафизическое выражение: справедливость воспринимается как момент истины, как жизнь в преддверии суда совести или Божьего суда. Даже нерелигиозные люди и атеисты ждали этого «праведного суда», но думали, что его совершит революция. Отсюда и массовая поддержка большевиков на начальном этапе. Но сами революционеры понимали справедливость только в моральном, а ещё больше в материальном смысле: «взять и всё поделить».
Помимо феномена общины, русская социальная этика нашла выражение и в расширении понятия «соборность», то есть в выведении его за узкоцерковные рамки. Община как явление укрепилась на русской почве и вышла за рамки крестьянского самоуправления именно потому, что несла в себе сакральный элемент, связывающий её с общиной церковной через понятие «соборности», а через неё и со всем остальным обществом. Эту связь в своё время чутко уловили славянофилы К. Аксаков и А. Хомяков. Они вывели церковное понятие «соборность» из прежнего контекста и перенесли на общество в целом, а также сближали понимание общинности в церковном и в хозяйственном смысле.
Но что же это за связующий сакральный элемент? Он заключается в характерной для русского православия идее коллективной сотерии (коллективного спасения). В упрощённом виде её можно расшифровать как взаимопомощь в деле спасения души. Хорошо известна евангельская истина «Спасись сам – и вокруг тебя спасутся тысячи». Как нередко бывает в таких случаях, возникает её обратное прочтение: «Спаси многих – и спасёшься сам». Впрочем, императив «спаси» совмещает в себе мирской и сотериологический аспекты[199]199
В качестве примера хорошо подходит история полковника Серика Султангабиева, который в 2014 году спас жизнь солдату во время учений, накрыв своим телом гранату. Среди множества комментариев в блогах характерен следующий отзыв о герое-полковнике – человеке, который явно имеет среднеазиатские этнические корни: «Настоящий русский. Не российский».
[Закрыть].
Светским аналогом коллективного спасения является солидарность. Почему концепт солидарности так важен? Сегодня уже очевидно, что общество не может оцениваться как «открытое» или «закрытое», а лишь как солидарное или несолидарное. То есть оно оценивается по уровню взаимного доверия его членов, а не их индивидуальных свобод, доступность которых на деле весьма различна для разных людей.
По мере развития русской философии у понятия «соборность» появлялись синонимы. Н. Трубецкой называл принцип соборности «метафизическим социализмом», С. Франк – «философией Мы». А Георгий Флоровский в «увлечении коммуной» видел «подсознательную жажду соборности». Николай Бердяев сравнивал соборность как всеобщее спасение с «жестоким», по его мнению, учением Фомы Аквинского о том, что своим блаженством праведники в раю обязаны мукам грешников в преисподней.
Но это уже этапы развития идеи. Главный её смысл состоял в сближении народной (крестьянской) общины с общиной церковной через идею «коллективного спасения». Основными идеями при самоопределении крестьянского «мiра» служили в первую очередь справедливое владение землёй и взаимопомощь. Конечно, взгляды носителей этого мировоззрения, крестьян, могли не вполне соответствовать «правильному» церковному православию. Но путь социального строительства, намеченный К. Аксаковым и А. Хомяковым, заключался в том, чтобы эти начала постепенно сблизились.
Здесь находилась точка роста русского гражданского общества. К сожалению, его формирование столкнулось с искусственным разрушением крестьянской общины, всевластием «хлебной олигархии», а также с революцией, обернувшейся новым закрепощением. Исторические катаклизмы ударили по крестьянской общине раньше, чем она смогла им противостоять. Итогом стало прерывание традиции и переписывание национальной идентичности.
* * *
Понятия «соборность», «община», «коллективная сотерия» нельзя сужать до границ крестьянского вопроса и церковной проблематики. Они оказывали влияние на всю русскую жизнь – это легко проследить по архивным документам и произведениям русских классиков (Н. Лескова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Розанова и др.).
Многие социально значимые события в России нередко воспринимались и воспринимаются в эсхатологическом и сотериологическом смысле. Например, народовольцы нередко объясняли свои взгляды христианскими мотивами. Революционерка Вера Фигнер писала, например, что даже хождение в народ «люди из народа» понимали вполне однозначно: они полагали, что мотивом действий народников является спасение души[200]200
Фигнер В. Запечатленный труд. М., 1964. Т. 1. С. 125.
[Закрыть]. Многие усматривали религиозный смысл в попытках освободить крестьян.
Социолог Мануэль Саркисянц склонен считать, что «служение народу» правых и левых народников в России – в том числе и их публичное покаяние – было видом социальной аскезы. И эту аскезу можно сравнить «с англосаксонским протестантским идеалом (service ideal)»[201]201
Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «русской идее» Н. А. Бердяева. СПб., 2005. С. 104.
[Закрыть]. Конечно, здесь важно не сравнение протестантского и православного идеалов, а признание того факта, что соборное, религиозно-общинное сознание было характерно не только для крестьян и крестьянских вождей, но и для их «освободителей» из числа интеллигенции. Даже если освободители считались атеистами.
Иными словами, общинный тип сознания присущ не только русскому крестьянину, но и русскому интеллигенту. А глубинная религиозность нередко проявляет себя вопреки внешним, рациональным убеждениям её носителей. Русская религиозность включает в себя обострённое чувство земной справедливости, любовь к униженным и оскорблённым, ярко описанную Ф. М. Достоевским, В. Г. Короленко и др. Социальная справедливость и равенство, к которым стремился советский строй, бесспорно, стали результатом не только усвоения марксизма, но и влияния православной этики, вытесненной в коллективное подсознание доктриной госатеизма, и тем не менее дававшей о себе знать.
Для России справедливость и милосердие – это «отражение неба на земле». Собственно, русский идеал коллективного спасения и представляет собой не что иное, как религиозный прообраз мирской солидарности. Вот почему религиозность и секулярность не составляют бинарной оппозиции в контексте русской ментальности.
* * *
Легитимация нынешней социально-политической модели российского общества использует особый режим описания. Это описание в неопределённых модальностях: «значит, так надо», «в России по-другому нельзя», «мы многого не знаем», «у президента есть план» и т. п. Или, если это «оппозиционная» инстанция: «президент должен уйти», «главная проблема – непрозрачность выборов», «режим стремится уничтожить права и свободы»…
Как подчёркивают многие исследователи, «в России в силу ряда причин до сих пор не возникла полноценная дискуссия об основаниях общественного устройства»[202]202
Канарш Г. Ю. Справедливость как гуманитарная константа: философия справедливости в России (конец XX – начало XXI века) // Гуманитарные константы: материалы конференции Института гуманитарных исследований МосГУ от 16 февраля 2008 года: Сб. науч. трудов / Отв. ред. В. А. Луков. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. С. 54.
[Закрыть].
Именно поэтому у обоих дискурсов, как охранительного, так и якобы оппозиционного, есть одна узнаваемая черта: предельно общие выводы, несистемность суждений, пренебрежение к причинно-следственным связям. В этой мистифицирующей предикативности общественно-политического (в том числе и экспертного) языка есть что-то от утопии, что-то от конспирологии. Авторы доклада «Контрреформация» так описывают этот феномен: «Фактически любая конкретная проблема в России трактуется как трансцендентная, потусторонняя – то есть вызванная исключительно метафизическими причинами (от „отсталости народа“ до „извечного русского идиотизма“)»[203]203
Консервативное совещание 1 июня 2005 г. Доклад «Контрреформация». URL: http://pravaya.ru/book/120/3453.
[Закрыть].
Культивируемый в обществе иррациональный тип мышления необходим для того, чтобы неэффективная социальная модель продолжала работать. При этом благодаря иррациональной стилистике как официального, так и «оппозиционного» дискурсов та или иная социально-политическая идея нередко становится фетишем, исключающим по отношению к нему рефлексию и сколько-нибудь критическое рассмотрение. Вокруг нерефлексируемых, по сути предикативных идеологических универсалий часто возникает определённый церемониал – алгоритм поведения, обязательный для всех, кто воспринимает такое суждение всерьёз. Например, институт нерукопожатности (аналог первобытного изгнания из племени). Эти социальные культы чаще всего имеют мало общего с национальными задачами, ценностной базой, историческим опытом и традицией, правовой сферой. Речь, безусловно, идёт о квазирелигиозных феноменах, вписанных в особую, контррелигиозную констелляцию идей, представляющую собой контрмиф данного периода общественной истории. Данный контрмиф чаще всего пребывает в противоречии и с научным мышлением, и с традиционной религией – следовательно, он не комплементарен традиции. В этом случае он нередко порождает деструктивные социальные культы.
* * *
Одним из главных «кирпичиков» российской идеологической матрицы, напрямую связанных с отчуждением (деградацией) социального в рамках российского жизненного мира, стал культ реформизма. «Изм» здесь подчёркивает умозрительность понятия. Вместо подлинных и крайне необходимых реформ в России применяется бюрократическая модель «управления через дестабилизацию», которая лишь по недоразумению ассоциируется с понятием «реформы». Однако обоснование необходимости и, более того, безальтернативности такой модели управления занимает важное место в российской идеологической матрице. Это обоснование и порождает комплекс социально-политических стереотипов, которые можно объединить в отдельный мифологический кластер под названием «реформизм».
Возьмём один из самых ярких примеров. Что означает в рамках российского реформизма реформа образования? Об этом даёт хорошее представление «институт» под названием «Высшая школа образования и когнитивных наук» при МПГУ. Это начинание предполагает отмену оценок, классов и деления времени обучения на урок и перемену. Собственно и уроков как таковых не будет, а просто дети будут «встречаться по некому вопросу». Экзамены превратятся из способа оценки знаний в способ некой «диагностики». Дети при этом рассматриваются не как несовершеннолетние, а как некий «особый тип общества» с собственными законами, не коррелирующими с законами мира взрослых. Вполне очевидно, что этот трансгуманистический подход к образованию имеет целью заменить знания уже даже не «компетенциями», а примитивным информационным программированием обучающегося.
Вполне симптоматично выглядит и формат так называемых форсайт-проектов. Один из них – проект «Глобальное будущее образование» («Global Education Futures»), проводившийся при поддержке ВШЭ и «Сколково», – поразил участников списком профессий будущего под названием «Атлас новых профессий», в котором значатся следующие профессии: сетевые врачи (диагноз по интернету?), ГМО-агрономы, эксперты по «образу будущего ребёнка», дизайнеры виртуальных миров, менторы стартапов, разработчики инструментов обучения состояниям сознания и «образовательных траекторий», корпоративные антропологи… Будущее, в котором работают такие «специалисты», представляется достаточно мрачным. Возникает ощущение наукообразного шарлатанства и манипуляторства.
Но реформизм в России – в первую очередь идеология и лишь затем технология социального контроля. Стратегия «реформаторов» выстраивается не на основе анализа прежних результатов, а на основе необходимости продолжать начатое, когда процесс «реформ», как чемодан без ручки, нельзя бросить на полпути. Но чтобы оправдать издержки, требуются ещё большие затраты и т. д. В этом смысле процесс «реформирования» напоминает революцию, растянутую во времени. Ноу-хау большевиков по большому счёту заключалось в создании технологии сжатия этого процесса в короткий отрезок («социальная ломка», «великий перелом», «отречёмся от старого мира» и т. д.).
Реформы начала 1990-х и «чрезвычайщина» первых лет советской власти отчасти похожи по технологии и ряду социальных последствий. Но между ними есть и серьёзное отличие. Если процессы, начавшиеся в конце 1917 года, предполагали переход к новым социальным моделям, то смысл постсоветского реформизма заключался в том, чтобы, сломав старые институты, сделать прыжок во времени бесконечным и заморозить общество в состоянии «переходного периода», как если бы чрезвычайное положение, объявив, забыли отменить.
Почему так? Потому что в основе «реформ» 1990-х лежали не преобразования, а раздел советской собственности и создание системы контроля за его результатами. Как писали авторы доклада «Контрреформация», «реформаторские власти готовы сохранять действующие правила игры ровно до того момента, пока большинство населения страны не научится по ним играть. Затем обязательно следует очередная „реформа“. Почему именно так? Потому что провал реформ, как ни парадоксально, укрепляет базу реформизма: „социальный дефолт“, устроенный властью, вновь ставит народ в положение „дикарей, не знающих права и закона“. Власть же вновь выступает в роли учителя и наставника – и в сотый раз усаживает народ в первый класс, заодно навязывая ему комплекс вины за „вечное второгодничество“»[204]204
Консервативное совещание 1 июня 2005 г. Доклад «Контрреформация». URL: http://pravaya.ru/book/120/3453.
[Закрыть]. Поэтому с точки зрения реформизма «переходный период» может и должен быть вечным. Тогда реформистская власть также будет вечной, а кризисный менеджмент превратится в образ жизни (modus vivendi)[205]205
Вследствие этого название книги Е. Т. Гайдара «Диалектика переходного периода» абсурдно в контексте российских реалий. Ведь «реформизм» в России – это метафизика в чистом виде.
[Закрыть].
Иными словами, реформизм есть форма коррупции, затрагивающая не отдельные проекты и институты, а саму стратегию обновления и возможность социального строительства. Консервация «переходного периода» длится в России уже четверть века. Это время такого застоя, какой не могла себе позволить даже геронтократия в СССР.
Идеология реформизма, как и революционная идеология 1917-1920-х годов, восходит к универсалиям коллективного бессознательного. Она апеллирует к стихийному эсхатологизму широких слоёв народа. Обществу «продают» идею о том, что, если что-то сломать или проклясть, нечто новое вырастет само собой («устранение капитала приведёт к освобождению труда», «всё устроит невидимая рука рынка» и проч.). Это мистический аспект реформизма.
* * *
В условиях России реформизм связан с диктатурой. Понятие «реформаторы у власти», в сущности, абсурдно, ведь подлинные реформы требуют отчёта за результаты, поэтому властью должна обладать инстанция, оценивающая и корректирующая работу реформаторов. В противном случае реформатор из нанятого работника превращается в рэкетира, который переписывает на себя «реформируемый» объект. Вопрос о результатах реформ таким образом устраняется, выводится за границы дискуссионного поля. Некому спрашивать отчёта.
Поэтому реформизм как идеология ведёт не только к утрате нацией исторических перспектив, но и к потере самой исторической субъектности. Оформляется этот процесс, например, как «добровольный» отказ от коллективной идентичности под грузом исторического комплекса «коллективной вины» (о нём было сказано выше) и других коллективных фобий. Идея отказа от прежней идентичности была навязана России и в 1917 году, когда страна действительно испытывала кризис государственности, и в 1991-м, когда условия для рецепции данной идеи создавались искусственно, и ранее, в рамках церковного Раскола и позднейшего отказа от концепции «Москва – Третий Рим».
Культ реформизма представляет собой механизм легитимации антиобщественных, антинациональных политических и экономических решений компрадорской части правящего класса.
После разгрома гражданского сопротивления в 1993 году в стране окончательно утвердился режим либерального авторитаризма, который пришёл на смену авторитаризму коммунистическому. Вопреки конституционной форме правления (президентской республике) политику России определяли представители финансово-экономических групп в интересах игроков глобального рынка. Такие понятия, как социальные гарантии, долгосрочное развитие и национальные ценности, стали почти ругательными. Официальная пропаганда давала понять, что в новой России любой успех – это успех в тотальной конкуренции, в войне всех со всеми.
Одной из примет «реформаторской» деятельности новой (постсоветской) власти стала регистрация крупного отечественного бизнеса в иностранной юрисдикции. Исходя из этого легко понять, кто был выгодоприобретателем «рыночных реформ». Другая примета – полное отсутствие демократических механизмов контроля за «реформами». Меры общегосударственного значения принимались без референдумов и голосований. Например, решение 1992 года о ваучерной приватизации не имело аналогов в Восточной Европе. Налог на добычу полезных ископаемых в России не действовал, экспортные пошлины были отменены. Было заключено крайне невыгодное Соглашение о разделе продукции. Согласно Закону о Центральном банке Россия лишилась права на свободную эмиссию рубля, то есть на свободное распоряжение национальной валютой, а после вступления в ВТО – права на свободное определение объёмов социальных расходов.
Госбюджет принято было пополнять в основном за счёт внешних займов, несмотря на высокие нефтяные цены. Но поскольку Резервный фонд хранился в западных банках, внешние займы фактически превратились в заём у самих себя. При этом проценты уходили стране, в которой хранились российские резервы.
Можно привести примеры огромного ущерба для национальной науки, образования и медицины, для культуры и духовной сферы, для начавшегося процесса церковного возрождения и сохранения социальных механизмов, оставшихся с советских времён, к которому привёл реформистский культ, являвшийся частью российской версии неолиберализма.
Общим результатом наиболее мощной «волны» российского реформизма становится перманентный кризис, обнуление социального опыта, пренебрежение национальными интересами. Только при условии радикального слома этой тенденции страна сможет выйти из исторического тупика.
* * *
Миф о борьбе власти и либеральной оппозиции обычно описывается как вечный и неизменный циклический ход «заморозков» и «оттепелей».
Почему это так и откуда вообще этот образ порочного круга, можно понять, только мысленно выйдя за его границы.
Следующее утверждение представителям самых разных политических лагерей наверняка не понравится, но правда заключается в том, что Россия становилась придатком глобальной экономики и вассалом западных элит именно благодаря государственникам и державникам и выбранному ими либеральному курсу, который «либеральная оппозиция» лишь требовала всемерно ускорить. Это была борьба не хорошего с плохим, а плохого с неосуществимым. Плохое, разумеется, побеждало. В сущности, данное положение признавал и историк Николай Данилевский, приверженец «официальной» политической линии. Он писал, что даже на пике триумфа, после победы над Наполеоном, Россия не была принята в «концерт» европейских держав, а попытки решить «восточный вопрос» ничем для России не кончились.
К сожалению, сама российская власть, независимо от выбора той или иной политической стилистики, проводила курс на утрату суверенитета, торговлю национальными интересами, распродажу национального достояния, борьбу с национальными ценностями и гражданским обществом. Когда диссидент Андрей Синявский, будучи в эмиграции, сказал: «У меня с советской властью были стилистические разногласия», – он был абсолютно прав. Разногласия имели только стилистический характер, что и показал финал советского проекта.
Либеральные критики власти фактически являются составной частью её политического механизма, поскольку выступают за радикализацию и апгрейд «официальной» экономической и политической модели. Борьба власти и оппозиции – это борьба за монопольные права колониальной администрации. В действительности раскачивание российского либерально-патриотического маятника представляет собой исторический бег на месте. И соответствующая этому процессу описательная модель, так называемая смена периодов «реакции» периодами «оттепели», отражает не конфигурацию реальных сил русской истории, но лишь логику верхушечных взаимодействий на уровне внутриэлитных конфликтов.
Чтобы в ходе реального исторического анализа избежать этого бессмысленного хождения по кругу, необходимо перейти от рассмотрения истории правящих элит к рассмотрению истории русского народа. От «Истории государства Российского» – к истории православной нации, к истории Отечества.
* * *
Ещё одна устойчивая ложная дилемма российской истории – это советизм против антисоветизма. Её абсурдность неожиданно хорошо показана Сергеем Довлатовым, герой которого жаловался собеседнику: «Да ведь он советский! – Что ты, наоборот! Он антисоветский. – Ну, советский, антисоветский – какая разница?» Здесь тонко подмечен парадокс: советскость и антисоветскость – это две формы, позитивная и негативная, одной и той же субидентичности. Причём существенным признаком негативной советскости зачастую является именно боязнь так называемого «совка».
Сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию с антирусской идентичностью Украины – страны, которая видит свою миссию в том, чтобы быть «Не Россией», а точнее, «Антироссией». Характерно, что в угоду этому политическому курсу на территории Украины сносятся и разрушаются как советские памятники, так и русские памятники дореволюционной эпохи (например, М. И. Кутузову, Екатерине II).
К сожалению, и российское общество в 1990-е годы впало в похожую политическую фобию, но только по отношению к самому себе. Вместо того чтобы перезагрузить русский проект, который включал бы в себя живые элементы советского наследия и отбрасывал ненужные, страна поменяла его на «антисоветский», который одновременно оказался и антирусским[206]206
Этот феномен подробно разобран в статье В. Третьякова «Похищение советской идентичности» в сборнике «Плаха» (Плаха. 1917–2017: Сборник статей о русской идентичности. М.: Пробел-2000, 2015).
[Закрыть]. Отвергнув полностью советский проект, обновлённые, а точнее, поменявшие политическую окраску элиты не привели общество ни к какой новой системе ценностей, кроме пещерной «борьбы за существование» и «естественного отбора». В планетарном аспекте это означало, что страна, расставшись с советской моделью, вновь начала осваивать роль субъекта «третьего мира», сырьевого придатка глобальной экономики.
Где нет «собирания» традиции, там есть разрыв с традицией – третьего, к сожалению, не дано. И жёсткие исторические альтернативы, которые элита принудительно ставит перед обществом, – это всегда знак приближающегося или готовящегося разрыва.
* * *
Как уже отмечалось, важным симптомом архаизации общества стала возрастающая мифичность идеологического дискурса. Вполне закономерно, что и в основе российской политики лежит мощный мифоритуальный комплекс.
Например, российский культ реформизма предполагает жертвоприношение и коллективное очищение, иногда переходящее в политические чистки[207]207
Поэтому говорят, что российские «реформы» напоминают «перманентную революцию» в трактовке Л. Троцкого, с той лишь оговоркой, что речь идёт не о социальной революции, а о революции сознания.
[Закрыть]. В жертву на этом историческом этапе приносятся не только сами люди, но и их исторический ресурс – традиция. «Очищение» совершается в форме показательного всенародного отречения от предыдущего «режима», признания коллективных заблуждений, а затем и коллективной вины. Участие в коллективном покаянии как бы является пропуском в «цивилизованное будущее», то есть фактически приравнивается к прохождению обряда инициации.
Процесс выстроен по мифоритуальной схеме. «Вина» понимается не как индивидуальная, а как коллективная, то есть не как моральное, а как оргиастическое чувство. Отличие этого языческого концепта (прообраз «трагической вины») от христианского греха заключается в том, что это вина без ответственности. Речь идёт не о конкретных поступках конкретных людей, но о неком коллективном ощущении «скверны», от которой необходимо «очиститься». Иными словами, несмотря на немалую дозу морализаторства, которое сопровождает данный процесс, в основе компрадорского сознания лежит не моральный тип сознания, а магический. Моральный критерий – что, когда и почему было сделано неправильно – оказывается несущественным. Важен принцип: ты сам виноват в своих несчастьях. Он обращён к народу некоей социально-миноритарной группой, попутно утверждающей, что народ «всегда достоин правителей, которых имеет», и тем самым растворяющей ответственность конкретных людей, принимающих решения, в океане коллективной вины. Народ должен непременно впасть в экстаз самобичевания и захотеть разделить ответственность с «преступным режимом». А во искупление своего коллективного греха он обязан принести в жертву самое дорогое, что у него есть, – национальную традицию.
Вот почему «каждая следующая „российская реформа“ сопровождается ритуальным поношением дореформенного прошлого. Народу… прививается чувство вины – „как же мы могли жить в этой скверне? стало быть, мы и правда варвары и дикари“. И то и другое входит в планы реформаторов, поскольку легитимизирует их власть»[208]208
Консервативное совещание 1 июня 2005 г. Доклад «Контрреформация». URL: http://pravaya.ru/book/120/3453.
[Закрыть].
Главная презумпция, которую общество заставляют принять: наличие серьёзных проблем (и/или врагов) есть доказательство и показатель коллективной вины. Вины – перед кем? Не перед Богом и не перед духом и буквой евангельских заповедей, а перед безличным и неопределённым «судом истории» или абстрактным «цивилизованным миром». При этом на практике от имени мира и истории обычно говорит узкая группа людей, но вопрос «а судьи кто?» стараются тщательно обходить.
Евангельские нормы слишком конкретны и определённы, а для поддержания постоянного ощущения вины нужны более общие, «плавающие» понятия. Такие сущности, как «история» и «цивилизация», для этого очень удобны: их можно в зависимости от требований момента наполнить самыми разными смыслами.
Прагматика этой психологической модели достаточно проста. Конечная цель – заставить общество направить деструктивную энергию на себя. В таком состоянии общество становится объектом для манипулятивных практик. С помощью навязанного комплекса вины снижается критичность общества, его способность сопротивляться навязанной идеологии.
Политолог Глеб Павловский в ранний период своей деятельности (позднее его взгляды изменились) утверждал: «Если вдуматься, эта идея связана с глубоким расизмом. Не этническим, а политическим расизмом. Она связана с предположением о том, что есть нации, настолько повреждённые и потерявшие форму и облик, что они лишаются права на существование. Им может быть изменена предметная форма – путём подбора инструментов мягкой колонизации, навязывания формы… Это некая постоянная евгеника, евгенизация»[209]209
Консервативное совещание 1 июня 2005 г. Доклад «Контрреформация». URL: http://pravaya.ru/book/120/3453.
[Закрыть].
И далее в контексте новейшей российской истории он конкретизирует: «Русские в XXI веке становятся оптимальным объектом или субъектом, который удобно изолируется, удобно описывается изолирующими понятиями. Так же, как фашисты полагали, что евреи нуждаются в Освенциме, так и тут, русские нуждаются, но у них не получается. Надо им помочь. В какой-то момент просто появится идея, что России как мировой цивилизации для того, чтобы сохранить своё мировое качество, освободившись от оболочки, будет легче без самой России. Без государства, без Церкви, без всего, что обременяет»[210]210
Там же.
[Закрыть].
По сути, комплекс коллективной вины – это выморочная форма общественной солидарности, извращённый ответ на потребность в такой солидарности. Следование этой линии довольно быстро формирует в обществе модель негативной национальной идентичности, и пока эта модель существует, ни идеология, ни историческая миссия, ни постановка общественных целей и задач попросту невозможны. Принимая от неведомых менторов этот «данайский дар», общество теряет внутренние стимулы к развитию и иммунитет к внешним воздействиям, утрачивает историческую ориентацию.
С психологической точки зрения комплекс коллективной вины объясняется довольно просто. Удобнее всего это сделать, опираясь на теорию когнитивного развития швейцарского психолога Жана Пиаже, согласно которой комплекс такого рода есть очевидный признак инфантильного сознания. Попросту говоря, это «перевёрнутое» сознание ребёнка, у которого перепутаны причины и следствия. Ребёнок как бы говорит сам себе: «Если меня наказывают, значит, я виноват». Тогда как мысль взрослого человека строится от обратного: «Если я виноват – меня наказывают». Это состояние закрепляется и переходит в экзистенциальное обобщение: «Меня ругают, потому что я очень плохой».
Стоит подчеркнуть, что данная позиция представляет собой детскую форму аморализма, столь же далёкую от подлинной морали, как и аморализм взрослого, выступающего с позиции «всё позволено». Здесь, напротив, «ничего не позволено». Но в обоих крайних случаях не задействованы моральные критерии. Ведь моральное сознание предполагает, что человек или коллектив сам прекрасно понимает, где и какую нравственную черту он переступил и что необходимо предпринять, чтобы исправить сделанное.
Российскому обществу следует как можно скорее расстаться с сомнительными идеологемами «исторической вины» и «коллективной вины». Они в принципе не релевантны в контексте актуальной политики и социального строительства, независимо от того, идёт ли речь о советском, российском, немецком, британском, американском прошлом.
За неверные решения ответственны их заказчики и исполнители. Заслуги и достижения, напротив, принадлежат всему народу. Это важная исходная предпосылка, определяющая здоровое национальное чувство и в полной мере соответствующая принципам социал-традиции.
* * *
Подведём некоторые итоги. С одной стороны, мы имеем исторически устойчивый концепт русской традиции: православное общество, соборность, солидарность, социальная справедливость, коммунитаризм. С другой стороны, именно эти параметры русского общества диктуются ему политэкономической прагматикой, связанной с местом России в миросистеме.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































