Текст книги "Открытие Индии (сборник)"
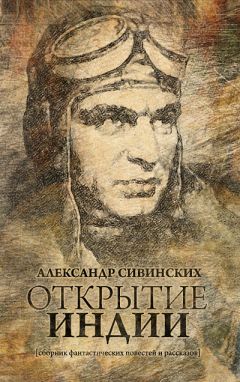
Автор книги: Александр Сивинских
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Включилось радио. Помехи отсутствовали абсолютно. Знакомый царапающий голос отчётливо сказал Черемше в самое ухо:
– Альбатрос, я Джаггернаутов, руководитель полёта. Как слышите? Приём!
Валерий сжал зубы и решил больше ни-че-му не удивляться.
– О'кей, шеф, – ответил он. – Слышу вас хорошо.
* * *
Приближалась северная граница СССР. Черемша отдыхал, всецело доверившись совершенно секретному автопилоту-умнице, и не без удовольствия беседовал с Инге. Звукоизоляция да и теплоизоляция кабины «Альбатроса» не оставляла желать лучшего, так что он давно расстегнулся и говорил не повышая голоса. Огорчало его лишь то, что под бесформенной одеждой невозможно рассмотреть фигуру девушки.
Сперва Валерий выяснил, почему все-таки её взяли штурманом. Всё просто, ответила Инге, она, помимо авиационной профессии, имеет другую – не менее, а может и более важную для экспедиции: лингвист, специализирующийся на ряде восточных и североевропейских языков. Языков она знает восемнадцать, включая несколько вымерших. Для чего нам вымершие языки, лениво поинтересовался Черемша. Разговаривать с туземцами, сказала Инге, пожав плечом. Черемша тут же рассказал анекдот о двух летчиках, попавших в лапы дикарям. «Да, бледнолицый небесный воин смел! Он умрёт, раз выбрал не трах-тарарах, а смерть… но умрёт через трах-тарарах!»
Затем они принялись наперебой рассказывать друг другу забавные истории из жизни. Глядя на веселую красивую девушку, Валерий чувствовал себя помолодевшим на добрый десяток лет. Кажется, изумился он, я начинаю влюбляться. Жаль, что спустя сутки-другие меня пустят в расход.
Инге раскраснелась, ей стало жарко, она расстегнула парку. Увидев её небольшую, но высокую, задорно оттягивающую свитер грудь, Валерий вдруг подумал, что если о серьёзной влюбленности говорить рановато, то о некотором половом возбуждении – самое время.
– Смотри, смотри, Валерий! – закричала Инге. – Железный Занавес! Как здорово!
Впервые о Железном Занавесе Черемша услышал, будучи ещё совсем пацаненком, когда работал сборщиком самолетов в Нижнем, и решил, что его разыгрывают. Учась в Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы и бомбометания, он прочел о Занавесе в газете и подумал, что досужих щелкоперов, беззастенчиво дурящих советский народ, стоило бы, пожалуй, шлёпнуть. Увидев же впервые грандиозную стену, опоясывающую СССР по границам, он до немоты поразился величию народа, сотворившего такое чудо. И благоговел перед Занавесом до сих пор.
Строго говоря, гофрированная, блестящая металлическим блеском стена, трепещущая на некотором расстоянии от них – прямо по курсу – железной не являлась. Составлявшие ее эманации были всего лишь отблесками сознаний, чувств, воли людей, населяющих страну Советов. Вокруг всякого государственного образования от начала времен и до времен современных, определённо знал Черемша, вздымается свой Занавес, но Железный – только вокруг СССР. Ибо прочнее его – нет.
Валерий как всегда проморгал момент, когда Занавес приобрел структуру. Только что он сверкал гофрами под низким декабрьским солнцем, готовым нырнуть за горизонт, – и вот уже ожил. Сотни, тысячи, десятки тысяч огромных человеческих лиц, влившихся в ткань Занавеса, наполнивших её своей энергией, гримасничали перед лётчиком. Все они смотрели на территорию отечества, и души их были открыты настежь. В них было всё: восторг, жалость, деловитость, благоговение и презрение. И ненависть тоже была. Основную массу составляли лица вполне довольные, разве что чуть напуганные. У Черемши никогда не хватало слов, чтобы описать эмоции, демонстрируемый лицами, да он и не пытался. Для этого существовали специальные люди, целые отделы с приданными им эскадрильями лучших самолетов и дирижаблей, непрестанно облетающими государственную границу. Валерий не охал, узнавая об аресте новой партии высокопоставленных шпионов или врагов народа. Они действительно были врагами страны – здесь они признавались в этом честнее и вернее, чем в застенках НКВД. Самое смешное, думал Черемша, что даже те, кто пытаются Занавес прорвать, тоже входят в его ткань. И на их месте вовсе не дыры – такой же монолит, как и везде.
Занавес рывком приблизился, и самолет пронзил его, в пену взбивая винтами отражения чьих-то душ. Оригиналы в этот момент умирали, знал Черемша.
– Ты когда-нибудь видел себя? – прерывая его мысли, спросила Инге.
– Нет, – ответил он. – И очень этому рад. Считается, что увидевший своё подлинное лицо человек больше не жилец.
– Как жаль, – сказала девушка. – А я видела. Вот только что… И знаешь, Валерий, оно улыбалось!
У Черемши захолонуло сердце. Девчонка… сколько же ей осталось? День? Неделя? «Ах, дьявол! – подумал он с остервенением, – как же так?.. почему так несправедливо? Знать – об этом – наверняка… Бедняжка!»
Он отвел глаза, пряча сочувствие, способное больно обидеть гордого человека.
– Слушай, Валерий, – сказала Инге, и голос её дрогнул от отчаянной решимости, – а ведь я всё ещё девственница. Не хочется умирать… вот такой, ущербной, – она поднялась с кресла.
Парка осталась висеть на кожаной спинке. Шапка упала на пол. С невообразимой грацией она избавилась от стеганых штанов и унтов, через голову стянула пёстрый вязаный свитер, кошкой выскользнула из бледно-розовых рейтузов с начёсом. Тонкие шерстяные носки порхнули как две голубки, опустились на приборную доску. И она осталась совершенно нагой – пунцовой с головы до пят, чуть полноватой… и рыжею – везде, где кудрявились волосы, волоски, шерстка, пушок… Она улыбалась. «У тебя были когда-нибудь рыжие литовские целочки?»
* * *
Откинутое пилотское кресло с трудом вмещало их. Они сплелись, свились, сомкнулись, они тяжело дышали и смотрели друг на друга – любовник на любовницу, муж на жену, самец на самку – не отрываясь и не закрывая глаз. Солнце давно скрылось. Полыхало северное сияние. Она сказала:
– Глупо, конечно, то, что я хочу спросить, и все же: тебе было хорошо?
– Было и есть, – ответил он. – И будет. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Вот покурю и продолжу.
– Покурим вместе? У меня есть кое-что получше «Казбека».
Она пролилась сквозь его объятия и возникла возле вороха своей одежды. Гибко наклонилась. Он не отрывал от неё жадного взгляда. Ему сразу захотелось её снова. Она зашуршала бумагой, вернулась с двумя самокрутками.
– Туркестанский табачок. Никогда не пробовал?
– Нет, – он привлек её к себе. – Потом попробую.
Она тихонько взвизгнула. Через мгновение они дышали, двигались и жили в унисон. Северное сияние бесновалось в одном ритме с ними. Из брошенных наушников раздавался подобный хору цикад треск радиопомех. Даже он был ритмичен. Да-же о-н. Да-же о-н. Да-же о-н. Да-же…
* * *
– Посмотри-ка, твоя туркестанская отрава чертовски благотворно влияет на мою репродуктивную способность! Не уверен, ой не уверен, что я докурю её до конца.
– Да я не только вижу, чувствую. Или это подлокотник? Не-ет, не подлокотник! Ах ты, мой крепыш неугомонный! Ну, иди сюда, озорник!..
* * *
Черемше словно плеснули ледяной водой на спину. Он проснулся, осмотрелся. Жрать хотелось – жутко. Инге прикорнула у него на груди, северное сияние погасло. Впереди, на фоне чёрного неба, бурел и клубился продолжительный облачный фронт в виде растопыренной уродливой пятерни, сгребающей брызги звёзд в раздутый мешок. Наверное, там уже лежало исчезнувшее северное сияние, а возможно, и солнце. «Альбатрос» обреченно влетел в тучи, став ещё одной жертвой загребущей руки. Из наушников донеслись странные, зовущие и тревожно будоражащие сердце звуки и слова. Где-то в другом мире и в другом времени они могли бы быть песней. Но не здесь. Демонический голос, демоническая музыка:
…Где разорвана связь между солнцем и птицей рукой обезьяны,
Где рассыпаны звезды, земляника да кости по полянам,
Где туманы, как ил, проповедуют мхам откровения дня,
Где хула, как молитва…
Черемша поспешно щелкнул тумблером, вырубая радио. Нельзя. Нельзя ему это слышать. Ему стало зябко. И ещё он вдруг осознал: пора вскрывать конверт.
Как Валерий ни ухищрялся, стараясь не побеспокоить девушку, вытаскивая конверты из планшетки, Инге проснулась-таки.
– Я оденусь?
– Угу, давай.
– А ты?
– Позже, – он торопливо рванул бумагу. Разрыв прошел точно посредине цифры 1.
В конверте оказался ещё один конверт. Обычный, почтовый. В нем шелестело что-то сухое, ломкое, кажется, травянистое. Стебли какие-то или, быть может, сосновая хвоя. Плакатным пером на нем было написано: «Черемше. Вместо прочтения – сжечь!»
Валерий крутанул колесико зажигалки, сделанной из пулеметного патрона, поднёс пламя к уголку конверта. Вспыхнуло быстро и ярко. На колени просыпался светлый пепел. «Альбатрос» нырнул в воздушную яму. И – всё.
Валерий быстро оделся, вскрыл две банки гречки со свининой и термос с чаем. Нарезал хлеб большими ломтями. Поели молча. Они ждали чего-то. И что-то произошло. Сзади громыхнуло два раза.
– Стреляли, что ли?! – разъярился Черемша. – Идиоты! – он вскочил и бросился к пассажирам.
Шамсутдинов, обнаженный, распятый на треугольной раме из дырчатых квадратных труб, которой Черемша не видел при взлете (видимо, собрали уже в воздухе), и которая перегораживала сейчас всё внутреннее пространство грузового отсека, был мёртв. Толедо окунал в кровавую лужицу, натекшую из простреленной груди, гусиное крылышко и рисовал на стенках самолета отвратительные каракули. Костров раскачивался, стоя на коленях, взад-вперёд и напевал: «Иду! Иду! Идём! Войду! Войду! Войдём!»
– Сергей Мироныч, вы не пострадали? – Черемша тронул его за плечо.
– Войду! Войду! Войдём! – провыл ему в лицо Костров. – Иду! ИДУ-У!
– Валерий Павлович, – деловито сказал Толедо, не отрываясь от кошмарной работы, – вам сейчас нужно быть в кабине. Через пару минут я допишу пароль, мы влетим во «фрамугу» и автопилот откажет. Поторопитесь, или мы все погибнем. А Ринат всё равно болел, неизлечимо. Мы ему дали морфия, и он ничего не почувствовал. Кроме наслаждения. Кроме восторга. Кроме эйфории. Кроме оргазма. Кроме блаженства. Кроме…
Черемша в ужасе бежал.
* * *
Он ухватился за штурвал и сжал его. Руки чуть подрагивали. Инге спросила:
– Кто?
– Шамсутдинов.
– Значит, на обратном пути Саше придется открывать «фрамугу» одному. Ему будет труднее.
– Костров останется там?
– Да.
– И… и ты?
– Да.
– Ты можешь мне объяснить, что происходит?
– Попытаюсь…
Перед самолетом, на фоне звездного неба, возник огромный пылающий белым треугольник, внутри которого ветвились, словно по стеклу, серебристо-морозные древовидные узоры. Они же покрывали силуэт распятого в середине треугольника стройного, широкоплечего человека, имеющего вместо лица переплетение желтых мерцающих каракулей подобных тем, что рисовал Толедо кровью.
«Альбатрос» проломил узорчатую пленку, с натугой пролетел сотню метров и завис с остановившимися пропеллерами в центре слабо светящегося ледяного тетраэдра. Создавалось стойкое впечатление, что вершины тетраэдра направлены не только вовне, но и внутрь. Осколки пленки, затягивавшей «фрамугу», кружились вокруг, легко проникая сквозь стенки кабины и сквозь тела людей. В тех местах, где они соприкасались с кожей, возникало на мгновение ощущение угловатого отверстия, в которое задувает холодный ветер. С противоположной стороны тела осколки вылетали спустя три-четыре секунды, причем совершенно неощутимо. Тетраэдр вращался, одновременно двигаясь навстречу, как бы наворачиваясь по мелкой резьбе на самолет.
Кружилась голова. Зверски хотелось есть.
Инге, покачиваясь, словно танцуя, подошла к Валерию, не выпускающему штурвал из рук (выпустить его означало катастрофу, отчетливо понимали оба), и принялась кормить чёрным хлебом. Хлеб, то приторно-сладкий, то лимонно-кислый, таял во рту. Было очень вкусно и сытно. Некоторые кусочки Инге отправляла в рот себе.
– …Мы, – говорила она, – Джаггернаутов, Ринат, Саша, я, другие люди, которых ты не знаешь – ваши не слишком отдалённые потомки. То есть не совсем потомки. Тела у нас, разумеется, современные. Перемещение живых организмов оттуда сюда невозможно. Перемещается только часть сознания, и только в тело недавно умершего человека. Смотри, – она протянула Черемше свои красивые, полные руки запястьями вверх. Поперек запястий пролегали короткие шрамы. – Подлинная Ингеборга, девушка-авиатор, девушка-штурман, вскрыла себе вены, мучимая неразделенной любовью к известному киноартисту. Подлинный Толедо утонул в Ялте. Подлинный Шамсутдинов скончался вследствие врождённого порока сердца. Вот так-то, Валера… – она умолкла на мгновение, оледенев лицом. Оттаяла, тряхнула коротенькими кудряшками, спокойно продолжила: – Кое-какие неодушевленные объекты переместить сюда удалось тоже. Двигатель «Альбатроса», полимерные смолы для пропитки корпуса, приборы авиационной навигации, оптико-волоконные кабели, чертежи…
Потомков совершенно не устраивала геополитическая ситуация, сложившаяся в мире к началу XXI века, и они ломали головы, как быстро и с минимальными затратами изменить её в пользу России. Обнаруженная из космоса «фрамуга» была мала, как детская игрушка и непонятна, как детский лепет. Тем не менее, её принялись изучать. И когда некий чудаковатый писатель обратился к своему школьному другу – генералу госбезопасности – с просьбой порыться в закрытых архивах, оставшихся со времён арктической экспансии СССР, генерал, курирующий исследования полярного феномена, пошел ему навстречу. Писатель, перебирая архивы НИИ ВВС, наткнулся на ссылки, как будто указывающие на существование засекреченного проекта, связанного с авиационными перелётами через Северный полюс. Генерал почуял запах дичи и подключил к архивной работе штат молодых, толковых офицеров ГБ и молодых толковых учёных из засекреченного НИИ проблем времени.
16 мая 1928 года на подмосковном полигоне сгорел экспериментальный танк. Весь экипаж погиб – танк вспыхнул как порох – за исключением командира, Ивана Джаггернаутова. Но и его уход в лучший мир был делом предрешенным, 30 % поверхности тела бравого танкиста со странной и даже страшноватой фамилией превратились в уголь. Меньше всего пострадали ноги, но и их пришлось ампутировать – началось заражение крови. Через шесть дней Иван Джаггернаутов умер, а через три минуты после окончательной остановки сердца ожил снова. И пошёл на поправку. Инвалидность ничуть не повлияла на его характер, решительный, твердый, настоящий коммунистический. Свежеиспечённый военный пенсионер пробился в состав создаваемой тогда Первой советской Индийской полярной экспедиции. С особым вниманием, строгостью и рвением относился он к ведению архивов. Его сподвижникам было невдомек, что внутри бывшего танкиста – со времени чудесного воскресения – поселился ментальный пришелец из будущего.
А в будущем, как и ожидалось, стали обнаруживаться любопытные документы. Сперва всплыло слово ИНДИЯ. Затем семь томов официальных папок под грифом «Особо секретно», озаглавленных «Первая советская Индийская полярная экспедиция» и ворох рукописных и печатных раритетов различного возраста, разной степени сохранности, где присутствовали даже египетские папирусы. Выяснилось, что в подготовке «Первой Индийской» участвовали не только путешественники, военные и учёные, но и практикующие мистики, шаманы, религиозные деятели. С 1934 года её возглавлял С. М. Костров, для всего остального мира павший жертвой террора.
12 августа 1937 года с аэродрома Щелково стартовал 4-х моторный самолет И-209. Экипаж возглавлял Герой Советского Союза Леваневский. Объявлено было, что самолет совершает трансполярный перелет, цель которого – США. Но цель была – ИНДИЯ. Вскоре связь с самолетом прервалась. Никто и никогда не узнал, достиг ли И-209 ИНДИИ, или погиб уже там.
В отличие, по-видимому, от американской экспедиции 1944 года, возглавляемой полковником ВВС Уинстоном Фростом; ибо США – там, в будущем – процветали прямо-таки бесстыдно.
Данными папок решено было воспользоваться. Во «фрамугу» пошёл автоматический летательный аппарат, способный передавать на расстояние изображение, звук, параметры окружающей среды. На треугольной раме в его шаровидном брюхе был распят рыжий кот Чубайс. Все металлические части зонда, имеющие площадь поверхности более трех с половиной квадратных дециметров, при вхождении во «фрамугу» испарились, а Чубайс обнаружился сидящим на ледяном торосе в сорока километрах западнее, дрожащим, но, тем не менее, преспокойно вылизывающим свои тестикулы. Смертельные раны, произведённые на его теле малокалиберным пистолетом с радиоуправляемым спуском, пропали без следа.
Второй зонд почти не содержал металлов; вместо кота Чубайса полетел морской свин Баб. «Фрамуга» была преодолена успешно, но сигнал прервался, едва начавшись. После расшифровки «обрывка» выяснилось, что он является чрезвычайно плотно сжатым пакетом информации, передаваемой зондом в течение нескольких суток; и означало следующее: время в ИНДИИ движется в тысячи раз быстрее, чем на Земле. А «фрамуга» вдруг катастрофическими темпами принялась сжиматься.
– …Когда меня отправляли сюда, она была уже с мышиный глазок, – сказала Инге…
ГБ совместно с НИИ проблем времени, понимая, что терять в случае неудачи уже нечего, а приобрести в случае успеха можно весь мир, осуществили заброску в прошлое массированного десанта спецов и безопасников. Материализовался десант в сентябре-октябре 1937-го. Джаггернаутов, ставший к тому времени вторым человеком в проекте после Кострова (на предыдущего заместителя быстренько свесили всех собак и, почти не мучая, шлепнули), посодействовал приему новых сотрудников. Ценных тем более, что многие из них прибывали не с пустыми руками…
В этот момент тетраэдр исчез, и в глаза Черемше ударило солнце. «Альбатрос» летел – низко-низко, двести метров по альтиметру – над ядовито-зелёным, сплошным лесом, кажется, тропическим. Черемша взял вверх. Самолет послушно задрал кургузое рыло к изумрудному небу. Спустя десять минут они летели кверху поплавками над точно такими же джунглями, а недавняя земля превратилась в зелёный небосвод. Валерий осторожно перевернул самолет. Альтиметр, плясавший только что без всякого толку, вновь показал двести метров. Инге захохотала. Валерий её веселья не разделял, но улыбнулся тоже.
Впереди блеснуло крошечное озерцо. Доверившись отменным лётным качествам «Альбатроса», своим чутью и опыту, Черемша повёл самолет на посадку.
* * *
Видимо, это было как раз то, что они искали. С трёх сторон озеро окружали растущие прямо из воды гигантские деревья, богато опушенные густой сочной листвой, а четвёртая манила широким галечно-песчаным пляжем. На пляже возвышались какие-то сооружения. Валерий лихо, с разворотом, подогнал самолёт вплотную к берегу, зарулив левым поплавком прямо на прибрежную гальку.
Винты ещё не успели полностью остановиться, когда аппарель откинулась, и по ней, сгибаясь под тяжестью длинного тюка, упакованного в чёрную клеёнку, побежал Толедо.
* * *
Черемша, отключив питание, вышел в грузовой отсек. Работа кипела. Костров, обнаженный по пояс, потный, таскал грузы наравне с Толедо. Труп Шамсутдинова куда-то исчез, как и кровавые знаки на стенах.
– Присоединяйся, Валера, – сказала Инге, поднимая за один конец связку тонких труб.
Черемша ухватился за другой конец. Трубы оказались на редкость легкими. Очевидно, тоже не металлические, мельком подумал Черемша.
Сооружений на пляже оказалось три. Они стояли как бы в вершинах равнобедренного треугольника со сторонами длиной восемь-девять шагов. Ближе всех к самолету находилась внушительная кровать красного дерева, опирающаяся на шесть золотых звериных лап, застеленная белоснежной овчиной. Затем, если совершать обход посолонь, следовал низенький столик с лежащими на нём: небольшой грифельной доской, тонким заостренным мелком и затейливо изукрашенным резьбою деревянным с золотом абаком. Последней была вросшая колесами в землю боевая колесница, отдаленно похожая на увеличенное в несколько раз инвалидное кресло Джаггернаутова из сна (или, может, не сна?) Черемши.
Любовь. Деньги. Война. То, что движет миром с начала времен.
Сергей Миронович и Толедо без раздумий устремились к колеснице и принялись возводить на ней знакомый каркас распятия.
– Так я и думала, – горько сказала Инге. – Валера, мы обязаны их остановить! Нельзя отдавать мир во власть военных! Лучше уж, как американцы – банкирам… Постойте! – она побежала к колеснице, увязая в рыхлом мокром песке. – Постойте!
* * *
Потомки продолжали ругаться и жестикулировать, не забывая попутно заниматься своими странными делами. Валерий же, пораженный внезапно полнейшей апатией ко всему, бродил босиком по теплой воде, и серебристые шустрые мальки принимались щекотать ноги, стоило ему остановиться. В зеленом небе, точно над головой, блестело круглое серебряное окошечко. Наверное, такое же озерцо. Местное светило, висящее точно посередине между зелеными небом и землей, заметно раскачивалось вправо-влево. Одуряюще пахло цветами.
Валерий наступил на что-то острое, наклонился, пошарил в донном песке, подняв облачко мути, привлекшее целые полчища мальков. Выпрямился. В руке его лежал потрясающей работы каменный, полупрозрачный – кажется, нефритовый – обоюдоострый нож с рукояткой в виде злобно ощерившегося пернатого змея. Валерий сунул нож за пройму подвернутых до колена подштанников, потуже обмотал ее вокруг ноги и застегнул на выщербленную пуговицу. Все остальное полярное обмундирование он давно уже сбросил – жарко! «А мы ребята-ёжики, за голенищем но-жи-ки», – фальшиво спел он вполголоса.
Гавкнул выстрел. Другой.
Валерий поморщившись оглянулся на круто, до стрельбы, повздоривших потомков. Толедо раз за разом палил Инге под ноги, вынуждая ее пятиться к самолету. Она взвизгивала после каждого выстрела, вздымающего султанчики песка, и громко ругалась, сопровождая слова непристойными жестами.
Черемша, раздраженно сплюнув, побежал разбираться.
Когда он наконец добрался до вершителей мировых судеб, Костров стоял на колеснице, распростертый внутри смонтированной из труб рамы, как бы стремящийся обнять этот крошечный мирок, и громко хохотал. Толедо возился с бежево-серым прибором на треноге, провода от которого тянулись к раме с привязанным Сергеем Мироновичем. Инге плакала, зажимая рукою кровоточащее плечо. Завидев Валерия, Толедо молча бросил ему медицинский пакет. Черемша принялся перевязывать девушку, чья нежная кожа чуть повыше верхней головки левого бицепса была глубоко расцарапана – по-видимому, срикошетившей пулей или камушком.
Раздался оглушительный треск. Костров заорал. В голосе его слышалась невыносимая мука. Валерий непроизвольно оторвал взгляд от бинтуемой раны. Сергей Миронович полыхал ярким белым огнем, колеса боевой повозки, выбрасывая в воздух фонтаны щебня, крутились, Валерию на миг почудилось, что перед нею гарцует огромный крылатый конь вороной масти, крик пылающего Кострова сорвался на почти ультразвуковой визг, и колесница, увлекаемая призрачным скакуном, сорвалась с места, круто забирая в гору – в воздух… Чудовищный громовой раскат сотряс пространство.
– Ну вот и все, – сказал устало Толедо, тщетно пытаясь отыскать взглядом быстро исчезнувшую, растворившуюся в зеленом небе метафизическую упряжку, – наша взяла. П…ц америкашкам!.. Валерий, помоги разобрать оборудование, когда закончишь перевязку.
Черемша затянул концы бинта, подошел к Толедо и ударил его кулаком в висок.
* * *
Толедо мычал и извивался. Огромный кляп, изготовленный из вязаного подшлемника, не позволял ему внятно говорить, а жестоко стянутые лентами из располосованной ножом нательной рубахи конечности – полноценно двигаться. Валерий и Инге уже второй час упоенно занимались любовью на потрясающе мягкой овчине, в несколько слоев устилающей львинолапую кровать – символ и алтарь Любви Всемирной. Инге таким образом намеревалась изменить судьбу мироздания, а Валерий… Валерия привлекал сам процесс.
Наконец Толедо изловчился и избавился от кляпа. Отплевавшись и откашлявшись, он прохрипел:
– Кончайте дурака валять! Без триоконтура и инициации один хрен ничего не добьетесь. Развяжите меня. Обещаю не дергаться.
Они, словно послушавшись совета, слаженно кончили. Валерий, отдышавшись и смахнув пот с лица, подошел к Толедо. Однако узлы затянулись так сильно, что развязать их нечего было и думать. Черемша вернулся к ложу, прихватил нефритовый кинжал, который, по словам эрудированной Инге, являлся ритуальным орудием не то ацтеков, не то тольтеков, предназначенным для принесения человеческих жертв, и несколькими небрежными взмахами освободил пленника от пут. Толедо, послюнявив свежие царапины и недобро зыркнув на любовников, взялся за привычное дело – монтаж рамы из трубок. Черемша стерег его с взведенным револьвером наготове, покуривая козью ножку, набитую туркестанским табачком.
* * *
Солнце било в лицо. Не спасали и плотно сжатые веки. Рот был забит распирающе-колючим, шершаво-мокрым, омерзительным на вкус, словно несвежая портянка. Собственно, это и оказалась портянка – зимняя, тонкой шинельной ткани, да не одна. Подлец Толедо воспользовался поразившим Валерия сном с наибольшей для себя выгодой. Воротил, так сказать, должок. Конечности, варварски завернутые за спину и онемевшие, не слушались Черемшу. Кроме того, были они крепко связаны – между собой и, вдобавок, верхние с нижними. Валерий замычал, с немалым трудом орудуя преимущественно головой и плечами, перекатился на другой бок и открыл глаза. В них тут же попал песок, поэтому за дальнейшими событиями Валерий наблюдал урывками, сквозь обильные слезы и частое моргание.
– Эй, товарищ пилот, – весело проорал Толедо, заметив, что Черемша очнулся. – Хотел бы ты подержаться за штурвал, который управляет миром? Да? Ну, так обломайся! Потому что рулить я буду! А ты отдыхай!
Инге билась на раме триоконтура, расположенной на сей раз горизонтально, – так бьется птица, попавшая в силок. Толедо с отвратительным слюнявым вожделением лизал и гладил ее обнаженное тело. Затем отлучился на минуту, произвел краткие манипуляции со своим бежевым ящиком на треноге и вернулся. Пока он карабкался на кровать, контур начал искрить голубым и белым. Девушка молчала. Когтистые золотые лапы, держащие ложе, вдруг разъехались, шевельнулись, точно живые, и потянулись к людям. Толедо словно метлой смело. Лапы ухватили края овчин и сомкнулись над телом Инге огромным белоснежным бутоном.
– Запомни, Валерий, – донесся до Черемши звонкий голос, наполненный неземной радостью, – миром – да правит! – ЛЮБОВЬ!
Ложе засверкало ослепительно, запредельно – солнцем, сверхновой звездой, а может – Божественным светом первого дня творения и – пропало…
* * *
– Постарайтесь понять, – говорил Толедо, направив на освобожденного Черемшу ствол револьвера, – возвращаться нет никакого резона. По крайней мере, для меня. Как бы ни повернулась ситуация на Большой Земле, каким бы раем или адом ни стал наш мир, я этого не увижу все равно. Для открытия «фрамуги» требуется человеческая жертва. Поскольку управлять самолетом я не умею, принести в жертву вас не представляется возможным. Принести в жертву себя не представляется возможным вдвойне, что более чем очевидно. Я остаюсь. Благо, климат здесь воистину курортный, а жратва, – он проследил взглядом медлительный полет над озером парочки упитанных утиц, – водится в избытке. Возможно, я соберусь вести дневник. Робинзон Толедо… Хотите стать моим Пятницей, Валерий Павлович?
– Нет, не хочу. Для этого, помнится, нужно быть чуточку людоедом. Но я, кажется, нашел себе замену. Обернитесь, товарищ Робинзон.
Из леса выходили люди. Десятки миниатюрных коричневых человечков с заваленными вперед узкими плечами, выпирающими животами и болезненно раздутыми суставами. Их черные волосы были связаны в неряшливые пучки, безбородые лица с правильными, очень крупными чертами напоминали неподвижностью маски. Срамные места выходцев из леса прикрывали скудные изжелта-белые тряпочки. Это были, кажется, одни только мужчины, и в руках они сжимали чертовски хищно выглядящие сабельки с изогнутыми, расширяющимися к концу клинками. Возглавляла дикарское воинство голая старуха, восседающая на крупном снежно-белом тигре. Старуха была седа, почти лыса, изо рта ее торчала, густо дымя, трубка с длинным прямым чубуком, украшенным цветными перьями. Высохшие лохмотья старухиных грудей свисали едва не до хребта тигра, а нечеловеческой длины руки волочились по земле, оставляя за собой заметные бороздки.
Толедо, медленно пятясь к самолету, выдохнул: «Б…дь!», и Черемша вынужден был с ним согласиться. Именно так!
Престарелая блудница выкрикнула длинную нечленораздельную фразу. Увы, Инге, специалиста по вымершим языкам, не было рядом, и смысл фразы остался загадкой для путешественников. Аборигены же определенно его поняли и разом вскинули сабельки над головами, пронзительно завизжав.
Толедо не стал дожидаться дальнейшего развития событий, пал на одно колено, выставил вперед сцепленные руки, в которых блеснул револьвер, и выстрелил. Стрелял он превосходно. Старуха всплеснула многосуставчатыми руками и ткнулась лицом в шкуру тигра.
– Валерий Павлович, – отрывисто бросил Толедо, – поспешите в самолет. Нам пора драпать.
Черемша, оглядываясь, двинулся к «Альбатросу». Подстреленная ведьма вдруг выпрямилась, выхватила изо рта трубку и протянула ее вперед. Валерию показалось, что дымящаяся чашечка вот-вот пронзит ему грудь. Человечки молча бросились в атаку, тигр грозно зарычал – так, что по воде пошла рябь, – а Толедо принялся стрелять с невообразимой скоростью.
Двигатели запустились с пол-оборота. Один за другим грохнули разрывы гранат, а Толедо уже нависал над пилотским креслом и орал: «Взлетайте же, Черемша! Взлетайте!»
– Не удалась робинзонада, – без капли иронии посочувствовал ему Черемша, когда самолет уже оторвался от воды.
– Кисмет, значит, моя такой, – вздохнул Толедо, прищурив по-татарски глазки. – Чему, значит, быть…
* * *
Невидящим взглядом Черемша смотрел на приборы. Криков или стонов кромсающего себя Толедо не было слышно – он, по-видимому, накачался морфием под завязку и боли не чувствовал. Черемша поглаживал одной рукою потерянный Инге шерстяной носок, невзначай обнаруженный им под штурманским креслом, и ему казалось, что он гладит нежную рыженькую шерстку на ее лобке. Он вспоминал почему-то только это – ее аккуратный лобок, да ещё, пожалуй, пухлые губы с зажатой в них дымящейся самокруткой. И яркую вспышку, в которой девушка исчезла, устремляясь к «штурвалу, управляющему миром».
Дверь, ведущая в кабину, медленно открылась. Толедо, гнусаво и нечленораздельно завывая, шатаясь, блестя выпученными глазами, голый, окровавленный, с пистолетом в левой руке и омерзительно липким гусиным крылышком в правой, прохромал вперед и уставился в лобовое стекло, опершись на приборную доску.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































