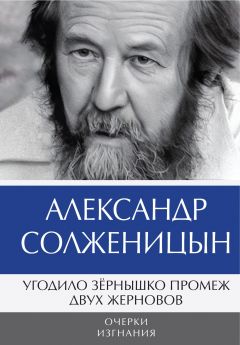
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Однако теперь я обнаружил, что в Гувере, в вихревом сборе материалов, собрал далеко не всё нужное. А вот ударила ранняя зима с начала ноября, строительство всё не кончалось, я всё сидел в летнем домике, – тут и кстати было ринуться ещё раз в библиотеку. Эмигранты Алексис Раннит – эстонский поэт и профессор Йеля, и его жена Татьяна Олеговна устроили мне замкнутое пребывание в Йельском университете на каникулярную неделю Дня благодарения. В номере для гостящих профессоров уже наставили они мне (натащили своими немолодыми руками) толстенные тома стенограмм Государственных Дум, «Красные Архивы», «литературу» народовольческую, Пятого года, – и взаперти и в упоении я прожёгся там неделю, ни разу не выйдя наружу, с сухим пайком. И так – заложил все новые обнаруженные проёмы. Теперь – только гнать писать!
В ту осень, пока в прудовом домике было холодно, ещё и в Нью-Йорк съездил я, в Колумбийский университет, поработал ещё в Бахметевском архиве, взял там тоже очень нужное. А по центральному Нью-Йорку прошёлся поздним вечером – какой чужой город! Слава Богу, я тут не нуждаюсь жить. Скорей к себе в Кавендиш.
Только под самый Новый год, уже в мятельном морозе, достучали молотки кровельщиков над рабочим-архивным домом. В том же доме с большой любовью достроил нам Алёша и домашнюю церковь. (Образы к царским вратам написала нам позже Мария Александровна Струве, жена Н. А., – сердечный иконописец, дочь известного священника о. Александра Ельчанинова. Освятить церковку, Сергию Радонежскому, приезжал епископ Григорий Аляскинский, с Аляски и антиминс[185]185
См. публикацию: «Биша-Гриша»: Из переписки епископа Аляскинского Григория (Афонского) с А. И. и Н. Д. Солженицыными (1975–1979) / публ., вступ. заметка и примеч. А. Ю. Никифоровой // Солженицынские тетради: материалы и исследования. М.: Русский путь, 2018. Вып. 6. С. 325–351.
[Закрыть].)
И в свой теперь светлооконный (даже и в крыше безчердачной есть окна), высокий, просторный, холодный, никогда и не мечтанный такой кабинет – я перетащил четыре письменные стола, для символа 31 декабря, – а 1 января 1977 начал работу.
С шуткою вспоминал пословицу: «Своя избушка – свой простор». Никогда я так не жил и не грезил! Под этакой сенью – можно писать эпопею!
И положил себе: ну, теперь только работа – и ничего не знаю больше. Это должен быть первый настоящий рабочий год в моей жизни.
На самом деле год оказался растереблен отвлеченьями и расстройствами. Но и, несмотря на то, он удался очень успешным – и рекордным по числу написанных страниц, и в нём же я выработал новую для меня методику «Марта Семнадцатого»[186]186
«Март Семнадцатого» – Узел III «Красного Колеса». См.: Собр. соч. Т. 11–14.
[Закрыть]. Вот была наконец передо мной – Революция! С юности я и знал в себе интерес и темперамент описывать именно революцию, и был готов и пристрастен к этой работе. Но не легко поддалась она – слишком непривычна по сравнению со всем, что я до сих делал. Ошеломлён я был ударившим в меня фонтаном февральско-мартовских событий – однако он же вознаградил многими находками. Вход в Февральскую революцию бешено швырял: вдруг обнаруживались противоречия между источниками – и найди же верный!
А документы – так и впиваются в тебя и требуют отражения. Исторические документы – упоительны, можно бы цитировать и цитировать обильно, но нет: это и развалило бы повествование, и увело бы от наилучшего их использования: держа в руках достоверное сообщение, протокол или запись важного телеграфного разговора – сосредоточиться и увидеть: из чего документ родился у его составителей? какие тут были скрыты обстоятельства, расчёты? Кто послал телеграмму – что он чувствовал? и что почувствовал, подумал тот, кто принял её? даже особенно в тот момент, когда пропускал телеграфно-буквенную ленту сквозь пальцы – и готовясь тут же ответить? (Подобно тому задышали и стенограммы тогдашних обильных совещаний.) Этот метод был насколько богаче – и психологически, и в политическом движении – и давал наилучшее поле для разработки исторических персонажей. А потом – влекло обнаружить и те последствия, иногда совсем неожиданные, как тут же, через безответственные газеты и через молву, исказились (и закрепились навсегда!) – самый факт, и смысл документа, и даже дата его.
И – совсем новый монтаж: почасовой, а для того и возможная краткость и даже стремительность глав. И даже: движение событий по часам, а где и по минутам. И охват по местностям и по общественным группировкам понадобился куда шире, чем я задумывал прежде. Но и никогда же с такой методичностью и полносчётностью я не прочёсывал исторических материалов: прежде вечно спешил и вечно не бывало комплекта.
Теперь всё, что я не спал, – всё работал, не отвлекаясь ничем, что́ не Февральская революция. Даже странно становилось вспомнить: ещё совсем недавно – два года назад и год назад, я там, кажется, пытался сплачивать Восточную Европу на освободительное движение, Западную Европу и Америку – на самозащиту? Теперь хотелось – чтоб ничего со мной не случалось, никаких внешних событий, нечего бы отметить в личном календаре, – это и есть признак счастливой жизни! Вот так бы поработать три-четыре годика, что-то бы и вышло. Работать – до тех пор, пока исчерпается опыт всей прожитой жизни и уже надо будет двигаться за обновленьем его.
А куда двигаться? Да только – в Россию. Будущую, полубудущую или хоть немного благоприятную. Только тогда откроется во мне и способность писать маленькие рассказы – уже о современности. Только тогда, в обновляемой России, захочется и действовать, и кинуться в общественную жизнь, попытаться повлиять, чтоб не пошла она опять по февральскому гибельному пути. Новый напор жизни, и читатели, наконец, русские, без перевода, – это и будет ещё одним рождением, ещё одной юностью, при седой бороде. (И хотя рассудок не видит, как бы это могло статься, – но всем предчувствием верю, что возврат произойдёт ещё при моей жизни.)
А здесь, на Западе, к чему мне и те позиции, где я крепко стою и где как будто слушают меня? Всё это – без истинной пользы, и душа к тому не склонна. Всё больше вижу я, что государственный Запад – и газетный Запад, да и, конечно, бизнесменский – нам и не союзник, или слишком небезопасный союзник для преобразования России.
Да уже и просквозил мой новый поворот, и уже его на Западе различили. Оглядываясь, теперь можно удивиться, что та слитная поддержка, которая так подносила меня в бою с Драконом, – поддержка западной прессы, западного общества, да и в СССР, – то невероятное и неоправданное усиление, которое я тогда получил, – создалось по взаимному недопониманию. А на самом деле всевершащему мнению западной интеллектуально-политической верхушки я так же мало угоден, как и советским правителям да и советской образованщине.
Тут ведь ещё: какая сомнительная двойственность позиции, когда нападаешь на советский режим не изнутри, а извне: в ком ищу союзника? В тех, кто противник и сильной России, и уж особенно национального возрождения у нас. А – на кого жалуюсь? Как будто только на советское правительство, но если правительство как спрут оплело и шею и тело твоей родины – то где разделительная отслойка? Не рубить же и тело матери вместе со спрутом. Например, в американских речах 1975 я призывал – не давать СССР электронной техники, сложного оборудования, но не сказал же такого о поставках зерна. Не сказал, однако получилось ли так в расширительном смысле, или говорили другие, а это наслаивалось в общественном впечатлении, – приехал в Нью-Йорк ценимый мною Олег Ефремов, главный режиссёр МХАТа, с Мишей Рощиным, драматургом, и говорили Веронике Штейн: «Зачем же Исаич к войне призывает и говорит: не давать зерна? А люди будут голодные сидеть?» – Боже, да я именно не призывал к войне, это переврала американская пресса, – но именно в таком виде докатилось до наших соотечественников, поди вот! И ни о каком зерне – я ни слова не говорил, а поди теперь докричись. Правда: как же выступать? и чего хотеть?
А ведь я живу – только для будущей России. Но вот безоглядным проклинанием вcего порядка в стране – я и России, может, не помогаю? и себя отсекаю от родины навек. Как бы – полегче?..
Всё, всё так совпадало, что лучше бы мне надолго замолкнуть, не выступать. И со временем какой-то плодотворный исход наметится сам собою.
__________
Но преодолеешь наянливость западной медиа – так не продремлешь от советской лапы. Как можно заключить перемирие с Дьяволом? Он-то всё равно не будет его соблюдать.
Хотя б вот я и замолчал, но наш Русский Общественный Фонд на территории СССР продолжал работать, вызывая у власти воистину бешенство: никогда ещё за 60 лет не была организована с Запада помощь преследуемым в СССР – и так, чтоб они не боялись брать (не «от империалистов»!). Брали – потому что я был заведомо свой зэк, и деньги – честные, архипелажные. Какими затайными путями мы (Аля и кто ей помогал) умели пересылать помощь сквозь Железный Занавес – удивляло многих, а власти бесило. Пока они грабили только 35 % денежных переводов – мы много слали официальными переводами. (Алик Гинзбург для этого нашёл с десяток «получающих», не боящихся, и потом передающих другим.) Другая успешная форма была: отъезжающие эмигранты оставляют Фонду в Союзе советские деньги, а на Западе Фонд им платит долларами по реальному курсу – доллар за 3, потом за 4 рубля. А когда большевики ввели грабёж переводов уже в 65 % – посылать деньги официально потеряло смысл. Но тут мы нашли изворотистую тайную форму. Хотя Советы объявляют дутый официальный курс, значительно выше доллара, сами меняют иностранцам по-другому, – но наказывают подданных за всякий обмен рубля, иметь валюту может только государство. Советские же граждане, попадая на Запад, с радостью меняют советские ассигнации сколько могут. И вот доброхотный неоценимый наш друг, затем и член правления Фонда В. С. Банкул, швейцарский гражданин, для начала прибегнув к помощи своего друга, русского армянина, живущего в Женеве, Сергея Нерсесовича Крикорьяна, а затем сам наладив дело в Цюрихе, стал производить обмен обратный: за франки выкупая наши родные советские рубли – но исключительно отбирая трёпаные, затёртые бумажки, а они среди хрустящих натекали не слишком быстро, и это одно задерживало размах нашего обмена: нельзя же посылать в СССР свеженькие, цельносерийные. (Называлось это всё у нас – «операция Ы».) Следующий труд был – перевезти эти деньги через границу в чемодане в Париж к Струве, это всегда делала Мария Александровна Банкул. А Струве всегда знал наших тайных связных по каналам в СССР – он и сам иногда поставлял на французскую дипломатическую службу в Москве своих бывших французских студентов-славистов. Эти героические помощники все названы в «Невидимках». И так в Москву тайно привозились многозначные, многотысячные пачки советских трёпаных денег – и через посредников передавались распорядителю Фонда – им был Алик Гинзбург, до его ареста в начале 1977. (Вот это «посредническое» звено – чаще всего Ева, потом и Боря Михайлов – было остро опасным: советский подданный, «накрытый» в момент, когда взял от иностранца огромную сумму денег и ещё не раздал её, – мгновенно получил бы тяжёлую статью; а у Бори Михайлова пятеро детей…)
Нелёгок путь – но немало сложностей и опасностей доставалось и дальше, распорядителям. Большими и неожиданными порциями получая эти тысячи, они должны были тотчас их рассредоточивать и хранить: или в безопасных домах, где не ожидается обыск, или на неподозреваемых сберегательных книжках. Перенос денежных пачек к местам хранения, а потом назад, к местам распределения, каждый раз представляет опасность для всех участников. А ещё сложность задачи: почти безо всяких записей (всякие списки опасны, нельзя держать) помнить множество фамилий, имён, адресов, составов семей, возрастов детей, нужд их, – а также самих арестантов, их сроки, состояние, место пребывания, – и в согласии с этим всем распределять помощь, да встречать притом не только благодарные слёзы, но выдерживать атаки обид, жалоб, подозрений (подогреваемых гебистами через их агентуру в зэках и бывших зэках). Во всех подробностях расскажут когда-нибудь сами деятели и даже отчёты опубликуют, если сумеют их сохранить.
Чтоб эту систему впервые создать и наладить – нужен был человек исключительных организационных качеств и сердечно-умственной направленности. Алик Гинзбург и был таким: его два предыдущих лагерных сидения наслоились и спрессовались в нём как вечная преданность узникам Архипелага и память (феноменальная) обо многих из них. И первые три трудных года Фонда – необычайность, дерзость! да разве стерпят власти? – обложенный слежкой, запретами, изматывающим преследованием гебистов, из своей злополучной глухой Тарусы – он сумел наладить всесоюзную, независимую, милосердную организацию, которая из года в год на деньги «Архипелага» помогала сотням узников и семей их и уже имела, помимо Европейской России, свои отделения на Украине (особенно активное), в Литве, в Сибири, у баптистов.
И может быть, до сих пор бы терпели опешенные власти – если б Гинзбург не сделал крупной ошибки: кроме своего распорядительства вступил в Хельсинкскую группу. Отначала было ясно: многое уже стерпев – ещё такой группы, кто будет «проверять», как советское правительство выполняет внешнеполитические соглашения, – оно не потерпит. Руководство благотворительным Фондом обязывает не включаться в политическую борьбу, не подписывать никаких заявлений, кроме как по нуждам Фонда.
И в феврале 1977, едва успев дать важную пресс-конференцию о работе Фонда, Гинзбург был арестован[187]187
В связи с реальной угрозой ареста Александр Гинзбург созвал пресс-конференцию в Москве 2 февраля 1977 года, где впервые сообщил детали своей работы в качестве представителя Фонда помощи политзаключённым. Деньги поступают от Фонда Солженицына, частично от жертвователей в СССР. В 1974 году помощь была оказана 134 политзаключённым и их семьям, в 1975-м – более чем 700 семьям, в 1976-м – 629 семьям. «Если меня теперь арестуют, – сказал, обращаясь к журналистам, А. Гинзбург, – я прошу вас отнестись к работе тех, кто меня заменит, с большим вниманием, в чём они безусловно будут нуждаться» (Хроника текущих событий. 1977. 16 марта. № 44). На следующий день, 3 февраля 1977, Гинзбург был арестован.
[Закрыть].
И – как же мне «помолчать»? Как мне выполнить самозадуманное перемирие? Разве возможно оно с этой глотающей Пастью?
Тотчас я и делал заявление об его аресте – но не в затасканной форме «это неприемлемо, я негодую и решительно протестую», а остро напрокол советской власти[188]188
«Арест Александра Гинзбурга, главного представителя Русского Общественного Фонда в СССР… выражает решимость советских властей задавить голодом и нищетой сотни семей преследуемых и заключённых и заставить бояться и замолчать тысячи других» (Об аресте Александра Гинзбурга (4 февраля 1977) // Публицистика. Т. 2. С. 469; Solzhenitsyn assails arrest of Ginzburg // St. Louis Post-Dispatch. 1977. 6 Febr. P. 110).
[Закрыть].
А тут вослед надо было слать и подбодрение наследникам Гинзбурга, перенявшим Фонд, в ответ на их письмо ко мне. Уж это я написал как мог примирительно, подчёркивая одно лишь дело милосердия, умягчая, – чтоб этих не схватывали следом. Письмо послали по левой, оно сперва появилось в Самиздате, лишь потом опубликовали его на Западе[189]189
«Вы замечательно верно пишете, что нас так согнули, так унизили, что даже шаги милосердия оказываются для советского человека шагами смелости, шагами в страшную неизвестность. Но тем выше гордость и радость, что всё больше находится людей, переступающих эту границу страха. Нам нанесено уродств, язв и ран гораздо глубже, чем только политических, и излечение от них лежит не на путях политики» (Письмо распорядителям Русского Общественного Фонда (25 мая 1977) // Публицистика. Т. 2. С. 470).
[Закрыть].
Аля отчаянно начинала долгую, шумную, изнурительную кампанию в защиту Гинзбурга и Фонда. Я, в этот же заветный год «молчания», посылал ещё и телеграмму римским Сахаровским слушаниям, затем не избежать было телеграммы коалиции демократического большинства Сената, а там – лишили гражданства Ростроповича и Вишневскую – из-за кого ж, как не из-за меня? и как же мне смолчать?[190]190
Сахаровским слушаниям в Риме (Ноябрь 1977) // Публицистика. Т. 2. С. 478; Телеграмма коалиции демократического большинства (26 января 1978) // Там же. С. 479; О лишении советского гражданства М. Ростроповича и Г. Вишневской (17 марта 1978) // Там же. С. 480; New York Times. 1977. 26 Nov. P. 7; Chicago Tribune. 1978. 1 Febr. P. 36; Ithaca Journal. 1978. 18 March. P. 17.
[Закрыть]
И какое ж возможно перемирие с большевиками?
Но и то – прошёл год без крупного от меня выступления, и моё молчание конечно не осталось незамеченным и неосуждённым среди Третьей эмиграции и в западной образованщине. Когда я непрерывно выступал – брюзжали: «Что его гонит? Его съедает честолюбие». Вот я замкнулся – озлоречили: «Он отдался гордыне, воображает себя сверхчеловеком». Годами я страстно вмешивался в политику – кривились: «Это не уровень для писателя, он уже исписался». Вот я стараюсь не касаться политики, сосредоточился только писать – присудили: «Он изменил всем принципам и покинул соратников в беде». Достаточно было дочери Сталина с какого-то налёту прервать свою многолетнюю бытовую немоту и послать телеграмму персидскому шаху, чтоб он не выдавал Советам перелетевшего советского лётчика, – и сразу эмиграция гудела, и даже нью-йоркская газета печатала: «Аллилуева выступила, а почему Солженицын молчит?»
Кампания за Гинзбурга потребовала огромных сил, каких как будто не было у нас, и настойчивой изобретательности – в чужой стране, где мы никого не знаем, ни с кем не связаны. Всё это взяла на себя моя жена – и вскоре обнаружила немало, немало горячих сочувственников и соделателей. У меня никак не нашлось бы столько сил и порыва, у меня – слишком велик весь фронт, и вглубь истории и по Земле. Но Аля считала: ни за что нельзя спускать арест распорядителя Фонда, тогда погибли и все следующие, и сам Фонд, – должны знать власти, что мы будем биться до последнего. И пришла удавшаяся идея: просить виднейшего вашингтонского адвоката Эдварда Беннетта Вильямса – «защищать» Гинзбурга (советские власти, несомненно, были смущены). Я написал ему письмо [21] с такой необычной просьбой – и Э. Б. Вильямс взялся, из соображений высоких, и от гонорара отказался. Ксеромашина наша делала много сотен копий – по левой присланных самиздатских материалов о Фонде, о Гинзбурге, о ходе следственного дела, о преследованиях всякого милосердия к заключённым, – и всё это рассылалось из нашего дома сенаторам-конгрессменам, то разным американским организациям, особенно христианским.
Сколько писем – по-английски, французски, немецки, итальянски, сколько телефонных звонков! А это взяла на себя Ирина Алексеевна Иловайская, тут место сказать о ней. Она была из второго поколения Первой эмиграции, образование получала в русской гимназии в Белграде до Второй войны. Мы познакомились с ней ещё в начале 1976 в Цюрихе, перед отъездом в Америку, и уже тогда сговорили её быть у нас тут секретарём, помощником, переводчицей – многообразно. Вдова итальянского дипломата, она покинула свою римскую квартиру, двух взрослых детей и осенью 1976 переехала к нам в Пять Ручьёв. Ей доставалось быть и «пресс-секретарём», отвечать на неотступные запросы печати, и вести дела с американской администрацией разных отраслей и уровней, и вести нашу западную переписку (она свободно владела семью языками). А уж от сердца – находила время вдобавок нашим с Алей урокам давать мальчикам и свои (при возрастах 4, 5 и 7 лет многое приходилось вести в отдельности), очень привязалась к ним, и они к ней тоже. Её же собственный поглощающий, настойчивый интерес – дело христианского просвещения[191]191
Прожив с нами в Вермонте два с половиной года, И. А. уехала весной 1979 в Париж, где стала, после З. А. Шаховской, главным редактором «Русской мысли». Православная по рождению и воспитанию, она, однако, нашла себя в католичестве. В середине 80-x организовала христианское радио «Благовест», вещавшее на русском языке из Европы в СССР, а в середине 90-х – устроила «Христианский Церковно-общественный радиоканал» в Москве. – Примеч. 1997.
[Закрыть].
Дальше в борьбе за Алика Гинзбурга посоветовали нам: по-американски надо создавать «Комитет защиты». Тут незаменима оказалась Людмила Торн, дочь русских второэмигрантов, выросшая в Америке. Вместе с неутомимой Патришей Барнс им удалось собрать в «Комитет защиты Александра Гинзбурга» крупные американские имена: писатели Артур Миллер, Курт Воннегут, Эдвард Олби, Сол Беллоу, известные сенаторы и конгрессмены, яркие общественные фигуры, всего 49 человек. Людмила стала секретарём Комитета, его неустанным мотором. В годовщину ареста Гинзбурга, в феврале 1978, Комитет объявил о себе пресс-конференцией в Нью-Йорке, публиковали крупное объявление о Комитете в «Вашингтон Пост», с портретом Алика. Со дня на день ожидался суд над ним. Аля ездила помогать кампании в Нью-Йорк, Вашингтон, потом и в Париж и в Лондон, давала интервью, встречалась с влиятельными людьми, с Маргарет Тэтчер, – кампания удивительным образом закружилась громко и внушительно. (Советские власти ещё прежде оценили мою жену: в октябре 1976 отдельным указом лишили гражданства и её.) И ещё я дал интервью телевизионной компании Эй-би-си к годовщине ареста Гинзбурга – они же его проглотили, не передали. И ещё тотчас после Гарвардской речи, на кампусе, где много было прессы, я сделал заявление – именно и только о Гинзбурге[192]192
К суду над Александром Гинзбургом (8 июня 1978) // Публицистика. Т. 2. С. 481; Baltimore Sun. 1978. 11 June. P. 8.
[Закрыть]. Прогрессивная гарвардская студентка подошла туда с плакатом: «Не поддерживайте фашистов!» – вот и так они понимают… Но совсем иные плакаты держали члены Комитета, демонстрируя перед советской миссией при ООН в Нью-Йорке. В июле, накануне суда в Калуге, фотографии Воннегута, Миллера, Олби и других знаменитостей с плакатами в защиту Алика облетели все Штаты[193]193
После 17-месячного следствия присудили Гинзбургу 8 лет в лагерях особого режима (это уже третий его срок). И вдруг весной 1979, после двух с лишним лет отсидки, – освобождён! Невозможно было представить победу – а вырвали! – чего не бывает. Говорят, в Госдепартаменте, при подборе кандидатов, кого требовать в обмен на выпускаемых советских шпионов, учли размер поднятой кампании. – Примеч. 1982.
[Закрыть].
__________
Но у нас, внутри, это отозвалось черезкрайним напряжением Али: и воспитания детей не прервёшь («деток родить – не веток ломить»), а первый год мы решили не отдавать их в американскую школу: до того как нырнут в англоязычный океан, уже бы хорошо читали по-русски. И очередной том собрания сочинений – и готовить, и набирать ей же. И первичную обработку стариковских мемуаров, и своевременные ответы им, и поощрения к новым писаниям, уточняющие вопросы, – да иные старики и умирали, не дождавшись отзыва. За всё приходится платить кусками сердца. Уж не говоря, что наши архивы и до сих пор не распечатаны после Цюриха, и живая переписка ещё не разложена систематически, бывает трудно найти прежние письма для справки и ответа.
И в эти же месяцы случилась беда с русским Бахметевским архивом, Л. Ф. Магеровский прислал мне вопленное письмо, умоляя вмешаться, заступиться.
История архива такова: с 20-x годов русская эмиграция собирала в Праге богатый архив воспоминаний и документов – ведь целая мыслящая Россия выехала, это был большой кусок живой России, клад для истории. Но в 1945 Советы оккупировали Прагу – и проглотили архив, увезли в Москву. С тех пор его концы наружу не подавались: очевидно, он – «спецхран», спецдопуск или вовсе закрыт. Можно рассчитывать только, что большевики его не уничтожили и не успеют потом, и сохранится архив для нашей истории дальней, но не ближней[194]194
Да! сохранился (уж там насколько полно). И теперь кто добьётся (у нас и все архивы в прикрытости) – читает. – Примеч. 1996.
[Закрыть]. Однако русская эмиграция, в основном перевалившая в ту войну за океан, – нашла в себе энергию начать в Нью-Йорке собирать новый архив, второго эшелона, а главное: нашла людей, память и факты для новых воспоминаний, доказав свою глубину и жизненность. Душой и хранителем стал профессор Лев Флорианович Магеровский, один из сотрудников прежнего пражского архива, главные организаторы кроме него – Б. А. Бахметев, последний посол Временного правительства в Штатах, и американец Филипп А. Мозли, друг России. Бахметев распоряжался и оставшимися русскими деньгами (Бахметевский фонд), так что некоторые средства были, – а как с помещением, статусом? В это время ректором Колумбийского университета был генерал Эйзенхауэр, в последний год перед своим президентством, – и предложил архиву приют в университете. Никакого делового письменного соглашения при этом заключено не было (но и что ж Бахметев смотрел?), а – по-джентльменски. Так и пошло, с 1951 года. Дали вентилируемый подвал без окон, и в тесноте да не в обиде Магеровский четверть века собирал и собирал воспоминания – большого охвата, от давнего революционного движения, и более всего Белого, находил возможных авторов, уговаривал их, пока живы, писать, сдавать на хранение, лично на себя принимал условия: от некоторых – секретности, от других – непременного возврата по требованию. Бился он всё сам, без штатов, за малое вознаграждение из Бахметевского фонда, да помогал ему сын, кончавший тот же университет. Не было ни людей, ни средств, ни места для научной обработки, каталогизации, аннотирования. Магеровский, высохший изящный старичок, всё держал в памяти, среди тесных полок и по нескольку архивных дел в одной коробке, – всё находил преотлично, быстро, а ещё был властен не допускать коммунистически-подозрительных лиц – и не допускал. Архив скромно действовал – для эмиграции, для честных учёных. Таким я его застал летом 1975.
С тех пор, однако, произошла дурная история, и вполне в американском юридическом духе: Эйзенхауэра, Бахметева и Мозли давно нет в живых, никакого письменного соглашения с Колумбийским университетом не осталось, а джентльменское – держи карман! Здесь – признают только юридически закреплённые соглашения, от которых не отвертишься. В мае 1977 года безконечно преданный делу и знающий Магеровский приказом по Колумбийскому университету был внезапно отстранён от архива (самым физическим образом устранён, без допуска) – архив перевезен в другое помещение и безраздельно передан университетской библиотеке. Поразительно! – университетские функционеры проглотили, присвоили русское духовное наследство – не собрав представителей эмиграции, пренебрежа завещаниями умерших вкладчиков, правами оставшихся живых, а ведь были надписи «секретно» или «вернуть по требованию».
А от кого ждал Магеровский помощи? От Романа Гуля, от «Нового Русского Слова» (Андрей Седых) да от меня. Так как в 1976 он водил меня к вице-ректору Колумбийского университета и директору Русского института при университете, и те тогда рассыпались, – я написал теперь требуемое письмо. На него получил от колумбийских джентльменов холодно отклоняющий ответ. И – всё.
Да, конечно, наше кровное русское дело, но разве сил на это постяжет? Сверх могуты и конь не скачет.
Не прошло и полугода от ареста Гинзбурга – тут же по Фонду грянул второй удар, с неожиданной стороны – из Швейцарии. Ещё выстаивалась там обида от нашего скрытного отъезда – а тут появился на французском и немецком «Ленин в Цюрихе», и левая пресса стала разжигать, приписывая мне ленинское презрение к Швейцарии и его прямые высказывания (взятые мною из его текстов) вроде «республики лакеев». Взнялись на меня: «“Республика лакеев” – как Солженицын после своего поспешного отъезда обругал издалека Швейцарию, давшую ему гостеприимство». Ах, советовали мне прежде Видмеры, чтоб я опубликовал «прощальное письмо» к Швейцарии, но я упустил, упустил… А вот теперь пришлось давать опровержение в «Нойе Цюрхер цайтунг» [22]. Не знаю, много ли подействовало. Ленина они терпели, и все его подрывы простили ему. А вот мне – не прощают и литературы.
А тут – подвернулся новый громкий повод. Деньги за «Архипелаг» все годы изо всех стран поступали прямо на счета Фонда, не на мой, но никто не обратил внимания на неточность оформления гонорара из Штатов: «Харпер энд Роу» тоже переводил правильно, на счёт Фонда, но при этом на сопроводительном распоряжении секретарша или бухгалтерша надписывала: «Солженицыну» (вместо «Фонду»). Теперь, спустя год, по обычному взаимоосведомлению, американские налоговые власти сообщили швейцарским, сколько было уплачено «Солженицыну» («Архипелаг» же, целиком отданный мною Фонду, приносил вчетверо больше гонораров, чем все вместе остальные мои книги). В цюрихском налоговом управлении ахнули – от негодования, сколько ж этот Солженицын не доплатил! В Швейцарии принято, чтобы государственные руководители не имели влияния на налоговое ведомство, чистота демократии. Но именно поэтому младшие чиновники приобретают большое самостоятельное значение. Когда пришла из Штатов эта ошибочная бумага – ещё и начальник налогового ведомства был в отпуску, а заменявший его чиновник Исаак Майер поспешил дать делу быстрый – и нервный – ход. Какой? В их практике было посылать запросную бумагу: почему по такой-то сумме не уплачен налог, и дожидаться объяснения; и лишь при ответе неудовлетворительном – действовать. Однако чиновник двинул обвинение безо всякого запроса, без обсуждения со мной.
Немедленно со мной поступили как с уголовным жуликом: прежде всего арестовали мой швейцарский счёт, затем объявили фантастическую цифру недоплаченных налогов, ещё и умножив её штрафом – до 4 миллионов швейцарских франков! Когда я эту цифру прочёл в пришедшем мне извещении – нарочито грязной копии и с крючком неразборчивой подписи, мне померещилось уже даже что-то смешное, как, бывало, смешны казались нам в момент объявления приговоров сроки в 15 и 25 лет, – а смешного ни там, ни здесь не было.
Вот когда ударил промах Хееба, его неквалифицированность, неготовность к крупным делам. От приезда в Швейцарию учредивши Фонд, вскоре утверждённый швейцарскими властями, я передал ему все гонорары от «Архипелага», отныне и навсегда вперёд. По моему поручению Хееб указал всем издательствам – и гонорары потекли, минуя меня, прямо в Фонд, год за годом. Однако Хееб не надоумился и не сказал мне, что этого недостаточно, что для такой передачи гонораров надо ещё изготовить отдельный необратимый дарственный акт. Одна страничка – вот и всё, и тогда никакая ошибка никакой бухгалтерши нам бы не повредила. Но это всё мне объяснили потом, а в тот миг я ещё ничего не понимал, а только – обезкураженность: как же так? ведь я ещё из Москвы объявил, что все средства от «Архипелага» отдаю на помощь заключённым, и так и сделал, и счёт Фонда отдельный, туда шлют прямо, не через меня, и Фонд вовсю работает, сотни семей получают из него помощь, – какое ж тут сомнение, и какое ещё нужно доказательство?! Нет, без дарственного акта 1974 года все деньги за «Архипелаг», перечисленные в Фонд, рассматриваются как мой личный доход и обкладываются налогом.
Это был июль 1977. Вязкое чувство, состояние растерянности: как же жить на Западе? Жернов КГБ никогда не уставал меня молоть, я привык, а тут вплотную к нему подблизился и стал подмалывать (и уже не первый раз) жернов западный. Как же жить? Во всех деловых, финансовых, организационных отношениях я на Западе то и дело попадаю впросак, в потери, неразбериху, так что минутами просто отчаяние берёт: я как будто утратил всякий рассудок, разучился действовать, поступаю только, что ни раз, неправильно. Насколько зорко ориентировался я на Востоке – настолько слепо на Западе. Как разобраться в этой сети правил и законов? (Не так же ли безпомощен и западный человек, впервые попадая в СССР?)
У меня сохранилась запись погорячу тех дней, когда это разразилось. Сейчас – настроение уже стёрлось, не восстановить, а вот – из той записи.
«…Унизительное, контуженное состояние – что я все эти годы был рохля и осёл, вопреки всем моим навыкам жестокого советского общества. И как же я так уверенно жил прежде, владея лишь копейками и рублями? То были не сотни тысяч, другие навыки, и всё помещалось в маленьком карманном кошельке. В череде разнообразных испытаний, которые посылала мне жизнь, вот пришло и ещё одно: испытание финансовой западной системой. И надо признаться, я выдерживаю его плохо: зачем-то это послано, но переживается трудно. Да шут бы с ним, как переживается, если б я мог освободить мысли и душу для работы. Вот это и унижает, что топит лужа, а не бурное море (впрочем, как и полагается). Да ведь я был твёрд и даже весел бывал в лагере, в тюрьмах, не сломился в раке, перенёс мучительное семейное испытание, переносил годы страхов, что провалится конспирация, – и всегда легко жил в нищете, привык к ней, приспособлен только к ней, а в условиях безбедственного достатка меня раздражает, что никто ничего не жалеет, разбрасывает, безсмысленно тратит, допускает портиться. Но, с другой стороны, достаток, освобождение на много лет от заработков для большой семьи дали мне возможность удалиться от треклятых городов в тишину и чистоту, высвободить простор и время для главной работы. Откуда теперь брать 4 миллиона франков? Вспоминаю: а мой бедный дедушка как мог пережить и что испытывал свои последние 12 лет после революции, когда не просто отняли кровно нажитое, но и само осмысленное дело жизни?»
Что ж, посылается мне ещё новое жизненное обучение. (Да каковы правила: с налогов более списывается деятельность коммерческая, а не творческая. В Штатах мне посоветовали заявить, что моя текущая работа направлена не к написанию будущих книг, а к продаже старых, – тогда намного выгоднее, льготная шкала для налогов. Я отверг. Или: с налогов списывается «зарплата, уплаченная собственным детям», – то есть поощряется, чтобы дети помогали родителям не безкорыстно, а за деньги.) Пока я разлетался по вершинным проблемам – а швейцарские бюрократы преследуют меня как мелкого жулика.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































