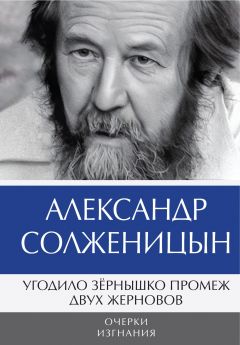
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Но мало того: документ с обвинительными цифрами против меня был скопирован кем-то из сотрудников и подан в цюрихскую социалистическую газету «Тагес анцайгер», которая с радостью и напечатала сенсацию: каков же вор Солженицын![195]195
Tages-Anzeiger. 1978. 28 Jan.; Arizona Republic. 1978. 29 Jan. P. 14.
[Закрыть] Лучшей находки нельзя было придумать для всей левой европейской прессы (все кинулись перепечатывать сенсационно) – а уж в КГБ-то сколько радости! Вот уж – первая крупная мина против меня, которую не они подвели. (Но поддержали рьяно, нажали западные свои кнопки.) И поднялась новая свистопляска в швейцарской печати (опять вспоминали «республику лакеев» и моё «бегство»), но теперь и во всей немецкоязычной, да в датской, скандинавской, французской, итальянской. Теперь стало понятно – и почему Солженицын «поддерживал испанских фашистов», и почему нельзя верить «Архипелагу», и почему он не моральный авторитет, а в Швейцарии и сам Фонд вызвал вопросы: что за односторонние жертвы, всё советским преследуемым? а почему ничего не пожертвовано, например, нуждающимся швейцарским художникам и артистам? Туполобие ярилось, ему недоступно было поверить в зэческую солидарность, в жертвенную помощь дальним соотечественникам.
Этот западный свист, видимо через «Немецкую волну», достиг и ушей в СССР – и бедные наши там поняли так, что арестован и подавлен на Западе Фонд, – знать, так далеко протянулась рука КГБ! Да как иначе это можно понять изнутри Советского Союза? кто ж у нас там вообразит такой лютый безсердечный формализм западного юридизма? И спешили наши загнанные, затиснутые преследуемые – и вообще-то еле живые – делать защитное заявление, что Фонд продолжает действовать, вот и в последнем году помог 707 семьям.
Вся картина будет ещё не полна, если не сопоставить, что эти швейцарские расследования и западное улюлюканье вокруг Фонда были в разгаре как раз к годовщине ареста Гинзбурга: в СССР уже год КГБ вело следствие по Фонду и набирало лжесвидетелей против него.
Славно, отлично мололи совместно Восточный и Западный жернова!
__________
Жестокая эта суматоха растянулась в бурной стадии – на полгода, в кропотливой – дотянет ещё на полтора, наверно. У меня же был первый год работы над «Мартом», напряжённый поиск формы его, определялась судьба всей книги – сперва, как я думал, двухтомной, потом – нет, трёхтомной, потом, нет: четырёх! И дать же всему зданию расти на моих плечах (и сколько же – на плечи Али!).
А верней – это я на нём рос, «Март» – возносил всё моё внимание и всю душевную отдачу.
На таких больших событийных пространствах, какие ожидались в «Марте», – череда равномерно повествовательных глав может утомить читателя. Никак не возможно писать одним лишь старинным методом рассказа от автора – рельеф текста должен быть разнообразен, с поворотами, с неожиданностями.
Долго я искал: как правильно понять возможности каждого из врастающих, сами по себе, в «Колесо» жанров и как же осуществить их. Они рождались день ото дня в работе, в находках.
Киноэкраны, на которые я было размахнулся в первых волнениях февральских толп, оказались очень неэкономны в объёме, хоть покинь их вовсе. Так и намерился. Но наталкивался дальше на сцены, которые никак иначе не хотели изображаться, кроме как на экране, зримо в каждом движении: разгром «Астории», колотьё государственных гербов, убийство адмирала Непенина[196]196
Этим эпизодам в «Марте Семнадцатого» посвящены соответственно главы: 169 (Собр. соч. Т. 11. С. 719–722), 386 и 418 (Т. 13. С. 135–138, 253–256).
[Закрыть].
Трудоёмче всего была разработка глав фрагментных – с их неисчерпаемым богатством реальных случаев, с их возможностями строить цепочку сюжета, не выделив ни одного персонажа, – и на них же я учился закону новой сжатости.
Но ещё не больше ли открывалось в главах газетных – не только по незаменимости их прямой информации, а ещё ярче в передаче Воздуха Эпохи – как именно понимали или заблуждались современники, как им дышалось (и распадаясь на направления: интеллигентское, обывательское, крестьянское; буржуазное, социалистическое, большевицкое). И скольким, скольким поразительно не было ничего видно вперёд, даже на один день, – можно прийти в отчаянье. В главах повременных долгой передвижкой отдельных сообщений, через цепочку их, смежность, развитие или контраст, – открывался совсем не хаос, но тоже свой сюжет, мелодия, струящаяся меж газетных клочков.
А ещё: после мучительно грязного ощущения от газетного потока революционных дней – находка: да вот, цветики этой лжи и собрать отдельными главками февральского новоказённого «фольклора», саморождаемой поэмой: «Февральская мифология», «Февральский образ выражения»[197]197
См. в «Марте Семнадцатого» главы: 546” (Собр. соч. Т. 14. С. 75–80), 503” (Т. 13. С. 622–625).
[Закрыть]. (Несмываемо яркие главки получились.) Или искажённые газетные изложения – ставить рядом с главами, как события шли в натуре.
А ещё сколько надо было пробираться между противоречивыми (особенно о датах и часах) показаниями свидетелей, в самых наитрудных случаях само исследование (вместе с читательским домыслием) превращая в главу.
В захват «Колеса» попадала вся Россия сразу – и вся в движении. И писать обще́й, короче – была бы не Революция, а лишь рецензия на Революцию.
__________
Да, бишь: а со швейцарским скандалом же как?
На Западе известно: любое жизненное осложнение – значит, нужен адвокат. Но уж о Хеебе и речи, конечно, не было: Хееб и завязил меня в болоте. По совету Видмеров пригласил я нового адвоката – энергичного умницу Эриха Гайлера (они вместе когда-то служили в швейцарской армии), – да если б раньше я когда знал, что в Цюрихе есть такие орлы-адвокаты, не то что Хееб! Пригласил – потому что так полагается, не ездить же в Швейцарию самому, но не предполагал я, что слишком много достанется Гайлеру работы по доказательствам: ведь дело такое ясное, ведь совершенно чисто. О нет! О нет! Уж как вцепились – эта вязкая история длится вот уже больше года, и окончательного постановления всё нет. Хееб настолько ничего не оформил в начале, что теперь, чтобы не случились подобные неприятности в будущем, пришлось составить акт дарения от нынешнего числа, но уже не только гонораров, а самого «Архипелага», то есть авторского копирайта. То есть не оставалось выхода, как мне, писателю, лишиться права распоряжаться судьбой, изданиями своего собственного произведения: уже никогда я сам не имею права решить вопрос о печатании «Архипелага»: это может решить только Русский Общественный Фонд! Но и такой выход был лишь на впредь, в Америке или где я там буду жить, а Швейцарию он нисколько не удовлетворял: ведь я для них – «злостный неплательщик», и доказательства – что не я получатель тех гонораров, не я, а Фонд, и что пожертвовать весь доход за «Архипелаг» были мои намерения отначала, – доказательства потребовались столь разветвлённые и тонкие, что привлекли экспертом высшего цюрихского профессора права Майера-Хайоза.
Доказательства должны были теперь углубиться назад по времени ещё до моей высылки. И хотя ещё в январе 1974 из Москвы, не думая ни о каких швейцарских налогах, я публично отдал все гонорары с «Архипелага» советским политзаключённым – этого недостаточно. И тогдашнее публичное заявление – не доказательство. В тот момент, когда я бился с КГБ насмерть, когда каждый исходящий документ грозил мне отсечением головы, – я должен был уже предусмотреть все будущие юридические сложности. Вот так продирали бока вместе жернов Восточный и жернов Западный! Вот те наши тайные «левые» письма – на клочках, крохотным почерком и в иносказательных выражениях – должны были теперь чётко явить моё юридическое намерение. Запрос Бетте в Австрию, она копирует всю ту переписку и шлёт нам в Штаты, мы всё теперь пересматриваем, ищем, что-либо убеждающее и достаточное. И теперь этим швейцарским преблагополучным налоговым чинам – надо терпеливо изъяснять ту нашу обстановку, как опасно было писать и особенно держать копии писем, и как жена должна была дожигать последние не отправленные в ночь моего ареста.
Но уже несколько успел с доказательствами адвокат Гайлер (привлекали к свидетельству и Бетту, всё ещё скрывающую имя своё от публичности), отчасти и пресса уже слишком перегалдела, перебрала, – и в феврале 1978 цюрихские финансовые власти признали и дали газетное коммюнике, что со стороны Солженицына не было никакого злого умысла, а лишь могла быть ошибка, размеры которой продолжают выясняться[198]198
См.: Neue Zürcher Zeitung. 1978. 10 Febr. S. A47; Arizona Daily Star. 1978. 11 Febr. P. 4.
[Закрыть]. (Что всё проистекло от ляпа своего же швейцарского адвоката – этого их корпорации признать было невмочь. Так они и прикрыли промах Хееба до самого конца, и самая солидная «Нойе Цюрхер цайтунг» – и та вычёркивала строчки, намекающие на Хееба. Гайлер указывал мне, что можно юридически возложить вину на Хееба и это сразу снимет с меня обвинение, – но не по-нашенски это, не по-русски, начинать такой судебный процесс. Ведь Хееб упустил просто по недомыслию.)
Пролежал у меня этот швейцарский скандал на сердце змеёю целый год, вот и больше. От горького осадка ко всей Швейцарии спасли меня, слава Богу, несколько благородных и трезвых голосов, вновь показывающих, что никакую страну нельзя судить огульно. Известный журналист Ульрих Кэги напечатал: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». (Позже он устроил в Цюрихе пресс-конференцию о Фонде.) И ещё несколько газет отозвались сочувственно. Профессор Хильдрих Кёльбинг в «Базлер цайтунг»: «Александр Солженицын сделал для свободы несравненно больше, чем все мы». Доктор медицины Хайнц Каррер писал моему адвокату Гайлеру: «Этими мерами и Цюрих, и вся Швейцария делают себя смешными. Становится стыдно быть швейцарцем». Профессор Майер-Хайоз из уважения к «Архипелагу» великодушно и демонстративно отказался взять гонорар за свою трудоёмкую тонкую экспертизу[199]199
Тяжба грозила затянуться ещё и на второй полный год, но Гайлер настаивал на решении – и через 19 месяцев дело кончилось признанием полной моей невиновности и было закрыто. – Примеч. 1982.
[Закрыть].
А против покражи информации из налогового ведомства было возбуждено расследование, со швейцарской неспешностью длилось полгода. Велено было «Тагес анцайгеру» назвать источник её в налоговом ведомстве – но газета благородно возмутилась этим посягательством на незыблемую свободу прессы, которая выше всякого суда!
Однако как ни сердись, а приходится поклониться Швейцарии с благодарностью: всё же нигде в мире не было б нам так легко создать благотворительный Фонд и открыть поток денег на родину. Нет, Швейцария – ещё благодеяние. Промежуточная наша остановка в ней уже тем и оправдалась, что создали Русский Фонд. Как он уже работает и сколько ещё поработает для России.
А замечаю я, как за эти заграничные годы уже притерпелся, что меня со всех сторон не поддерживают, а лишь ранят и теснят. Если не до самой высылки, то по крайней мере до появления «Августа» в 1971 радостной лёгкостью моей было то, что, кроме государства, у меня как будто не было врагов, ни одного личного врага, все кругом как будто друзья. И я удивлялся: да почему у всех всегда бывали враги, завистники, а я и понятия такого не знаю? А просто – держала меня общественная волна, а кто и возникал враг (кого моё открытое высказывание правды ставило в неловкое положение угодников власти), тот – вынужденно сдерживался.
От «Письма вождям» снят был общественный самозапрет ругать меня или искать на мне, и вдруг – зазвучали, зазвучали негодующие голоса. Одни – по убеждённости: как? Солженицын – изменил демократии? Да как можно ждать чего-либо другого, кроме немедленного перехода к демократии?? (Я писал: переходный период авторитарной власти, чтобы не разгрохать всеобщую жизнь разом, – и не услушали доводов даже, но: «авторитарист»!) Другие – теперь могли дать волю своим накопленным прежним личным зложелательствам, и уже удивительно стало, что совсем недавно они ходили в моих сторонниках. (И уж конечно в эту громкость влились и советские агенты влияния: не упустить пристукнуть недобитого.) От волны враждебных рецензий на «Письмо вождям» множились уже целые сборники (я их и не читал) против наших «Из-под глыб», третьеэмигрантские газетные статьи и выпады, а больше – враждебные слухи и низкие сплетни, в центре которых, нельзя не отметить, стоял многоусердный Синявский: он как будто потерял способность говорить с кем-либо о чём-либо, не сводя на гадкого Солженицына, душевно заболел мною. Из разных мест доносился до нас глумливый хохоток эссеиста. (И чего только не несли на меня супруги Синявские! кроме «тоталитариста», «теократа» и «вождя русских фашистов», в последний год ещё: что высылка моя – спектакль, по совместному с ГБ сценарию; и что якобы Гинзбург хотел бросить Фонд и эмигрировать, а я его «заставил остаться и сесть в тюрьму».)
Западная образованщина и по-своему спохватилась, что со мной надо бороться, – а теперь от публицистов Третьей эмиграции перенимала и личные импульсы. И вот уже, куда ни оглянись, со всех сторон лихостились мои противники, а друзья далеки или не слышны.
А с крайне националистического фланга эмиграции то «Нива»[200]200
«Нива» – ежемесячный иллюстрированный журнал литературной и современной жизни (Mobile, Alabama, USA).
[Закрыть] печатала фальшивую фотографию «Солженицын у гроба Сталина» (чей-то коллаж из фотографии моей у гроба Твардовского) – и комментарий всерьёз: а? так ещё в 1953 его допустили до Гроба, ясно, что и с тех пор он – советский агент! И польский писатель эмигрант Ю. Мацкевич пустил легенду, будто советские власти благосклонно разрешили мне безпрепятственный вывоз архивов (не мог же я в те годы напечатать, как и кто помог тайно вывезти архив!), – а значит, я им союзник, и вот моя критика Запада ослабляет его и играет на руку большевикам. Как раз тут подоспела и Ольга Карлайл со своей ядовитой книжкой против меня.
За море, по еловы шишки.
__________
Году в 1975 Рой Медведев надумал выпускать в Москве самиздатский журнал «ХХ век», но после первого же номера его вызвали в ЦК и запретили. Жалко! Но брат Жорес стал выпускать «ХХ век» в Лондоне и утверждать, что этот журнал широко ходит в самиздате, чего никто из Москвы нам не подтверждал.
И вот в № 2, с выходной пометкой «Лондон 1977», напечатана была статья близкого братьям Медведевым В. Лакшина против меня – предлинная, как он всегда пишет, 70 страниц[201]201
Лакшин В. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Двадцатый век: общ. – полит. и лит. альманах. London: T.C.D., 1977. Вып. 2. C. 151–218.
[Закрыть]. «Замечательный очерк», предваряет редакция, «одного из лучших литературных критиков русской литературы, блестящего публициста и историка литературы». Захвалено высоко, однако по нынешнему безлюдью Лакшин – критик, конечно, заметный, хотя с годами всё более зауряднеет и после «Нового мира» мало чем отличился от казённого приспособленца, стал в фаворе у властей.
Но какая смелость! – до сих пор столь лояльный, Лакшин решился печататься прямо на Западе??[202]202
Выехавший на Запад Б. Г. Закс, бывший ответственный секретарь «Нового мира», в письме ко мне от 30.7.1984 передаёт историю этой публикации «со слов Лакшина»: вскоре после выхода «Телёнка» его дважды вызывал секретарь Союза писателей Верченко, дал ему книгу надолго и требовал написать публичный на Западе ответ, а «мы ведь не только в коммунистической печати поместить можем, но и в буржуазной». Пишет Закс и: Валентина Твардовская свою статью против «Телёнка» согласовала в ЦК, потом отдали в «Униту». – Примеч. 1986.
[Закрыть]
__________
Не ждал я там дружественного и не нашёл, а прочёл не только с пользой для себя, но даже с каким-то внутренним удовлетворением. Есть равновесность: выйдя из пыла боя, поправиться, где был неправ, не в том кого-то упрекнул, истолковал не так.
Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение «первого» и «второго» этажей. Я рад, что он меня поправил. Да, наверное, об этом выскажутся потом ещё другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было ещё сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» – разве только когда обманув цензуру (они это и делали), – а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и своё предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, – ему было видней. И в эти дни разгона – какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Что они могли сделать – не независимые издатели, а государственные служащие? Только – дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редакции это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, – но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А. Т. «кулацким поэтом», – как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал. (А ещё – Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в «Телёнке» я упрекнул А. Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намёка, в какой я опасности, а моё провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото – ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают. Тут нашу всеобщую подгнётность – о, её помнить надо!)
Однако дальше-больше Лакшин подложничает едва не в каждой фразе. Пишет обо мне: «домогался доверительности А. Т.» (зачем же? такого стиля не было у нас, а – взаимное свободное расположение); «каяться должны все, кроме него» (да кто же публично каялся больше меня?); совсем несуразное обвинение, что я «печатался бы у Косолапова [заменившего А. Т. на редакторстве в «Новом мире»] с не меньшей охотой, чем у Твардовского», – не мог я такого бреда даже обсуждать, хотя бы потому, что я давно ушёл со всех путей советского печатанья и не искал возврата. А вот если верхушка «Нового мира» покорилась разгону лояльно, не проявила бунта, – почему они ждали и требовали бунта от рядовых работников аппарата («уходить» – где ж те работу найдут?), от печатаемых авторов («забирать рукописи» – куда?). Равновеснее будет признать, что все они поступили по каторжной связанности советскими условиями – и не могли поступить иначе. Так же и сам Лакшин пошёл на предложенный ему казённо-литературный пост, который кормит его и даёт положение – достаточно крепкое, чтобы наконец вот безстрашно выступить против заклеймённого «отщепенца и врага народа» Солженицына; и даже, для Запада, будет выглядеть теперь смелым инакомыслящим.
Составлять текст ему надо было так, чтоб и выразить мысль в уровень свободного читателя, и не перейти лояльных советских границ и своего членства в Коммунистической партии. Кое-что можно отнести за счёт этого балансирования, как: «Солженицын обречён очень ошибочно, лишь по отношению к себе и к своим ближайшим обстоятельствам, оценивать общие социальные перспективы», – это пишется после «Архипелага»! Сам «Архипелаг» и называть нельзя, и не назвать же нельзя, торчит. Но оценку дать ему достойно-партийную: «…преувеличения ненависти. Пока история не найдёт более объективных летописцев, пристрастный суд Солженицына останется в силе». Увы, увы, останется. (Да, наверное, в группе Роя Медведева уже всю ту Историю и переписывают.)
Но в этой статье у Лакшина проступает и истинный его уровень, и искренние убеждения – и они не веселят. Странный вопрос задаёт критик писателю: какова его цель? – вот и с напечатанием «Архипелага». Восстановить память народа в её ужасных провалах – это, оказывается, не цель литературы, критик требует от меня «позитивной социальной программы». А «Новый мир» был «ростком социалистической демократии». «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости». Моё «Раскаяние и самоограничение»[203]203
«Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» (ноябрь 1973) – одна из трёх статей Солженицына, вошедших в сборник «Из-под глыб», см.: Публицистика. Т. 1. С. 49–86.
[Закрыть] его «насмешило» (?). И напротив, настолько обронил слух к иронии, что доказывает «неправильность» подзаголовка «Телёнка»: «Очерки литературной жизни». А уж «“Вехи” – ущербная книга (хотя и “по-своему блестящая”)». Но самое жуткое: «Всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике… Виной ли тому “дурная природа” людей, генетическая незрелость рода [так надо было Марксу раньше голову иметь! – А. С.], неподготовленность нравственного сознания… или скверная изгаженная почва предшествующих социальных традиций». Так! вали на Россию-матушку! «А может быть, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически…» И вот коммунизм очищен! – это монархисты во всём виноваты!
Вот эти «вершинные» суждения Лакшина и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание. (И на мои страницы о нём в «Телёнке» ни словом теперь Лакшин не отзывается. Трудно ответить? Но и вряд ли я тогда ошибся.)
Однако хуже. Лакшин систематически искажает цитаты из «Телёнка» – либо усечением, либо недобросовестным истолкованием. Вот несколько примеров, выделяю курсивом отрезанное Лакшиным[204]204
В 1994 эта статья Лакшина перепечатана в его книге «Берега культуры» (М.: МИРОС). Для удобства читателей наряду с упоминаемыми страницами «Телёнка» – страницы из Лакшина здесь даю по его новейшему изданию. Однако возникает ещё трудность: в новой перепечатке Лакшина изменён его исходный текст 1977: из прежнего текста убран большой неприязненный абзац об А. С. Берзер («амбиции её были велики», «она не испытывала брезгливости к двойной игре» и т. д.) и часть перещедренной брани обо мне. – Примеч. 1996.
[Закрыть].
О Твардовском: «…какими непостоянными, периодически слабеющими руками вёлся “Новый мир”… – (тут оборвано) – и с каким вбирающим огромным сердцем» («Телёнок», стр. 103[205]205
Цитаты из «Телёнка» выверены и даются по Собр. соч. Т. 28.
[Закрыть]; Лакшин, стр. 338, 349). Два раза он приводит эту цитату и оба раза обрывает! – уж никак не случайно. – «Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному “Новому миру” надо относиться с обычной противоначальнической хитростью» («Т.», 93; Л., 356). – «А сдержанней всех и даже почти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости» («Т.», 26; Л., 356), – всё неудобное Лакшин отсекает. – У меня: описывается яростное моё выступление в Институте Востоковедения, где я публично обличал КГБ и зал внятно опьянел от свободы, и затем фраза: «Кажется, первый раз, – первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю» («Т.», 162). У Лакшина – это пример, как я «любуюсь в литературном зеркале»: «я вижу, как делаю историю» (Л., 355); без моего контекста фраза становится напыщенной, что Лакшину и надо. – У меня – в откровенно потешном стиле описан «бой» на Секретариате, и как против сорока присутствующих я умудряюсь получить слово и, пугая секретарей Союза писателей: «голосом, декламирующим в историю, грянул им» («Т.», 193). Лакшин повторяет закавыченное без контекста, без обстановки на том совещании, и: «так в литературных мемуарах о себе, кажется, ещё не писали» (Л., 355). – Я пишу, что «в плохое всегда верю легче, с готовностью», – в смысле худых обстоятельств, худого исхода, – он извращает смысл: легче верю, что люди дурны («Т.», 45; Л., 358). – Или: Солженицын «просил посодействовать встретиться с Твардовским», «устроить что-то, что ему было нужно» (Л., 357), – и прячется, хотя знает: «что было ему нужно» – это чтобы Твардовский поехал ко мне читать «Архипелаг». А Лакшин лишил его этой возможности, Твардовский так и умер, не прочтя. – Я пишу, что рак – это следствие обиды, подавления («Т.», 284), – Лакшин переиначивает: «следствие малодушия» (Л., 371). – И нисколько не «жалостным призывом», а вспышкой умной души звучит у меня улыбчатая реплика Твардовского: «Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма» («Т.», 256; Л., 350).
Всю статью Лакшин имитирует скрупулёзность – он указывает номера страниц «Телёнка». Но когда появляется необходимость передёрнуть посильней, он вдруг именно в этом месте «случайно» не указывает страницы. Это – моя 268: «Прощался я от наперсного разговора – а за голенищем-то нож», – и Лакшин цитирует в этих пределах и разражается судом: «вот так, с ножом за голенищем, оказывается, и разговаривал автор “Ивана Денисовича” со своим крестным отцом… “двойничествовал” без видимой причины» (Л., 357). А читатель – где будет проверять (редкому москвичу моя книга попадёт, и то на неполные сутки): что «нож за голенищем» – это разгромное моё обращение к Секретариату СП, которое показать Твардовскому никак нельзя, он будет удерживать от борьбы.
Вот с такою честностью ведёт Лакшин дискуссию. Уж тогда тем более легко ему судить (там – цитировать нечего), что Солженицын «умело организовал своё появление» подле гроба А. Т., – в самом деле, умело: просто пришёл в ЦДЛ, барбосы легко могли и не пропустить, не член Союза.
А уж начать мухлевать – так дальше не оглядываться. Выгодно Лакшину обругать мои «Американские речи» – то без усилия повторяет он самые грязные клеветы советской пропаганды, будто призывал я американцев: «никакой продажи зерна», «пусть не будет хлеба, пусть голод и война», «не воюет ли он уже с многомиллионным народом, населяющим эту страну?» – и никаких подтверждающих ссылок, конечно, потому что лжёт, не жмурясь.
«Не дворянское это дело», – манерно присваивает Лакшин былую присказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке (а «дворянское» – подделывать цитаты?). Но отписавши полсотни страниц, наш критик спохватывается, что не успеет отделать этого Солженицына по заслугам, и лепит почти уже сплошь: «наивно хвастлив… самоуверен и слеп… надут и смешон… удерживаюсь, чтоб не смеяться над ним… впитал яды сталинизма… безплодное самоупоение ненавистью и гордыней… Злоба, нетерпимость, самообожание переливают через край… ненасытимая гордыня… фанатическая нетерпимость (к коммунизму, в «Архипелаге»)… жадно ловя мерцающий свет популярности… смешное безумие, амбициозный бред… ощутил себя человекобогом… годами лгал… злой бес разрушения… волчье одиночество… лагерный микроб… лагерный волк» – и обиняком: «гений зла… дюжинный прохвост… мародёр».
Вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина.
Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил ещё пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины свободных журналов на русском языке – и, кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, – а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» – а ведь тот был перепутан и размозжён цензурным гнётом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир», в своих жёстких рамках, закованный. И сколько национально-народного всё же прорывалось в «Новом мире» – этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдёшь, в них – безконечная даль от жизненных русских проблем, и это ещё в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлечённый горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, – а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведеньями своей среды, а не общенародными. В те годы, в штурме на власть – нет врагов, кроме коммунистического режима! – мы все казались частицами единого потока, – нерасчленённость исторического сознания. Я переоценивал свою близость к «демдвижу»; в этой оценке вилось и наследство дореволюционной «освобожденческой» идеологии, от которой я тогда ещё сильно не был свободен. Да диссиденты вели себя как отважные жертвенные люди, без потайки и корысти. Я от души восхищался ими, особенно, конечно, выходом на Красную площадь в 1968, против оккупации Чехословакии.
А на самом деле – мы были разных корней, выражали разные стремления, лишь совпали по месту и годам действия. Моя линия начиналась куда-куда раньше по времени, чем их линия, и вперёд протягивалось моё упорство против большевиков – не на такой слом и не на такие шуточки, как «выполняйте вашу конституцию!». (Но призна́ем: кто и не желая развалить сам коммунизм – диссиденты отлично пошатали его авторитет.)
Наше различие вполне прояснилось и нам и им, начиная с «Из-под глыб» и России-суки Синявского[206]206
См. в наст. изд. коммент. 56 к гл. 1.
[Закрыть]. ХХ съезд партии они держали своим знаменем, всегда были неотзывчивы к бедам русской деревни, тем более к гонениям православия. С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция – и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило своё существование. Один их идеолог, Чалидзе, так и объяснил, эмигрируя, что «просто устал» защищать права человека. (Потом, за океаном, набрался сил защищать уже всемирные.) Другой, Амальрик, подвёл теорию: «Эмиграция – тактический ход в борьбе за изменение своей страны», «политическая эмиграция всегда предшествовала революции». И так ещё придумали: «Сейчас быть патриотом – значит уехать». Многим диссидентам только угрозили, что посадят, только лишили привилегированной работы (чёрной-то не отнимали) – и они потянулись в «изгнание». А другие и вовсе без угрозы. И на Западе величали их всех изгнанниками.
Ещё с ранних писем, хлынувших в Цюрих, письма Третьей, современной, эмиграции как-то сразу отличались своим коротким дыханием – от устойчиво-протяжённой выдержки Первой и Второй. В Москве я не только не испытывал к отъезжающим никакого недоброжелательства, напротив, из ненависти к коммунистическому режиму, мною, как и многими, побеги Анатолия Кузнецова и Белинкова[207]207
…побеги… Белинкова… – В 1968 году А. В. Белинков, воспользовавшись туристический поездкой в Венгрию, перебрался в Западную Европу, а затем в США.
[Закрыть] воспринимались чуть ли не героическими. (Хотя и тогда различали безтактность Белинкова, как он в своих радиорекомендациях из-за границы призвал швырять членские билеты Союза писателей. И Н. А. Струве писал мне ещё в Москву, как поражён был встречей с ним: Белинков пытался ему доказать, что уже Пушкин не любил свободы, настолько рабская Россия. «Новым эмигрантам – России уже не жалко», – с сокрушением писал Н. А.) А на Западе – сразу, с первых этих писем – чётко: э, нет, я не ваш! э, нет, простите, я не эмигрант, и во всяком случае не третий. И, отделяя от других эмиграций, завёл для Третьей папку писем отдельную. Ещё я не предвидел ожесточённости их скорых нападок на меня – но инстинктивно отстранялся. Очень меня покоробила в марте же 1974 в «Вестнике» статья, подписанная «X. Y.» (потом оказался – Б. Шрагин), предлагавшая православному журналу отказаться от православия, которое «потеряло доверие интеллигенции»[208]208
X.Y. Опыт журнальной утопии // Вестник РСХД. Париж, 1973. № 108–110. С. 6–23.
[Закрыть], – я немедленно ответил[209]209
Реплика (Март 1974) // Вестник РСХД. Париж, 1974. № 111. С. 7; Публицистика. Т. 2. С. 75.
[Закрыть], почувствовав тут весь корень надменной чужести.
Насколько уважал я Первую эмиграцию – не всю сплошь, конечно, а именно белую, ту, которая не бежала, не спасалась, а билась за лучшую долю России и отступила с боями. Насколько я просто и хорошо чувствовал себя со Второй – моим поколением, сёстрами и братьями моих тюремных односидельцев, несчастными советскими измученниками, по случайности вырвавшимися на волю задолго до гибели советского режима, всего лишь после четверти века рабства, и потом изнывавшими на скудных беглянских путях. Настолько безразличен я был к той массе Третьей эмиграции, кто ускользнул совсем не из-под смерти и не от тюремного срока – но поехал для жизни более устроенной и привлекательной (хотя и позади были у множества привилегированные сытые столицы, полученное высшее образование и нерядовые служебные места). Что ж, они воспользовались естественным правом каждого бы человека – уехать оттуда, где не хочешь жить, да штука в том, что не все, ой не все советские такую избранную возможность имели. Да пусть. В укор им можно было поставить разве то, что для выезда использовали имя государства Израиль, а поехали вовсе не туда. Мне пришлось о них высказаться тогда же[210]210
Речь идёт о большом интервью с Уолтером Кронкайтом, ведущим журналистом американской компании CBS, где один из вопросов касался третьей волны эмиграции. См. в наст. изд. коммент. 38 к гл. 1.
[Закрыть]. В их ряду протекли, правда, и посидевшие в лагерях, психушках, но это были считаные, всем известные единицы. Однако в их же ряду проехало и немалое число таких, отборных, кто активно послужил и в аппарате советской лжи (а ложь простиралась куда широко: и на советские газеты, и на массовые песни, и на кинематографию), потрудились в дружбе с этим аппаратом, – как бы назвать эту эмиграцию? – пишущей. Но главное: теперь с Запада, с приволья, они тут же обернулись – судить и просвещать эту покинутую ими, злополучную, безполезную страну, направлять и отсюда российскую жизнь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































