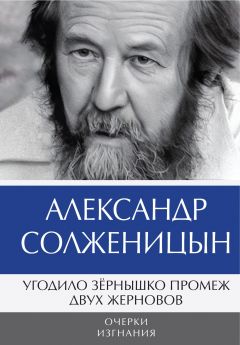
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
А Запад встречал Третью не так, как первые две: те были приняты как досадное реакционное множество, почему-то не желающее делить светлые идеалы социализма, те приняты были изнехотя, недружелюбно, образованные люди пошли чернорабочими, таксёрами, обслугой, в лучшем случае заводили себе крохотный бизнес. Эту – Запад приветствовал, материально поддерживал и чуть ли не воспевал («отдали свою жизнь ради достойного поведения»), в их отъезде (изнутри СССР видимом как самоспасительное бегство) Запад видел «проявление русского достоинства». Эти – часто с сомнительным (пробольшевиченным) гуманитарным образованием – почётно принимались как профессора университетов, допускались на виднейшие места западной прессы, со всех сторон финансировались поддерживающими организациями – и уж тем более свободно захватывали поле эмигрантской прессы и руссковещательное радио, отталкивая оставшихся там стариков. К сегодняшнему дню напряжённость и неприязнь между ними и их предшественниками необратимо обострена.
Но тут следует и очнуться: таковы ли бывают в эмиграциях стычки и ненависть? да так ли жгло обидами, взаимными обвинениями внутри Первой эмиграции, обнимавшей растерянное множество изгнанников от великих князей, митрополитов, генералов – черезо всю кадетско-интеллигентскую толпу – и до Керенского, Бурцева и эсеровских террористов? Им-то, сразу после сокрушительного поражения и деля его ошибки, приходилось куда раскалённей и столкновенней (только они всегда выдерживали приличный тон дискуссий, а пишущая Третья сразу позволила себе и ругательно-площадной). А наши сегодняшние разногласия – хоть не в дележе совершённых нами ошибок, а в спорах о русском будущем[211]211
Так я думал. Но иные из третьеэмигрантов с большой откровенностью высказывались, а теперь даже и публикуют: что борьба их на печатных полях Европы и Штатов и в эфирном пространстве шла совсем не об идеях, а о хорошо оплачиваемых, но не слишком многочисленных местах. За них и боролись, выдвигая перед «шефами» угодные идеи и черня соперников. – Примеч. 1982.
[Закрыть].
Особняком стоял непримиримый Владимир Буковский: он боролся отчаянно и был воистину выслан (обменен на лидера чилийских коммунистов[212]212
…обменен на лидера чилийских коммунистов… – Обмен В. К. Буковского, находившегося в заключении в общей сложности 13-й год, на генерального секретаря коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, арестованного после переворота генерала Пиночета в сентябре 1973 года, произошёл 18 декабря 1976-го в аэропорту Цюриха, куда Буковского из Владимирской тюрьмы доставила спецгруппа «Альфа».
[Закрыть]). Он представлялся мне подлинным национальным героем: вот, занят совсем не «правом на эмиграцию», но коренною жизнью страны, безстрашный, самоотверженный, умный, молодой – вот из таких борцов вырастут будущие политические кадры России, да может сам он и есть будущий премьер-министр – если выживет? Минутами казалось: его замучат и загноят. И вдруг – он уже в Швейцарии! Мы тотчас с ним связались. Затем, едучи в Штаты, он написал, что непременно хочет увидеться, – и я пригласил его заехать в Вермонт, по́лтора суток он у нас пробыл. Да, человек чести, с упорным азартом борьбы и подлинным мужеством, политическое быстрое соображение, находчивость в выступлениях. Он сочувствует и готов помогать отдельным схваченным, придавленным. Но всей глубины русской боли, нашего падения, оскудения, жажды народного выздоровления – этого не проявилось мне в нём.
А ведь он в Третьей эмиграции – из лучших, из умнейших.
А тогда – на кого ж мы надеемся? В каких же, ещё следующих, поколениях мы дождёмся тех родных рук? Ещё когда же Россия сможет родить их и выдвинуть? Какие же вожди ждут нас после коммунистов?
Все, все исторические сроки оттягиваются – сравнительно с моей постоянной нетерпеливой погонкой.
И вполне бы тут, на Западе, в отчаяние прийти, если б не своя работа. Горы работы – на годы и годы. Надо сперва самому исполнить – а потом уже требовать от Истории.
__________
А сыновья – подрастают. Тёплые полгода, с апреля по октябрь, живу внизу, в прудовом домике, – и рано утром они, цепочкой, друг за другом, по крутой тропе, сквозь величественный храмовый лес спускаются ко мне молиться. Между порослями становимся коленями на хвойные иглы, они повторяют за мной краткие молитвы и нашу особую, составленную мной: «Приведи нас, Господи, дожить во здоровьи, в силе и светлом уме до дня того, когда Ты откроешь нам вернуться в нашу родную Россию и потрудиться, и самих себя положить для её выздоровления и расцвета». А в нескольких шагах позади нас камень-конь, очень похож, ноги поджал под себя, заколдованный Крылатый Конь, ребята мне верят: ночами слегка дышит, а когда Россия воспрянет – он расколдуется, полностью вздохнёт и понесёт нас на себе по воздуху, через Север, прямо в Россию… (Ложась спать, мальчики просят: а ты ночью пойди проверь – дышит?)
Несколько раз в день прибегает ко мне кто-нибудь из них, топая с горы, приносит от мамы очередных несколько страниц набора с её редакторскими предложениями. Спустя время – другой сын, забрать результат.
А вот, затеваю я с двумя старшими и занятия по математике. (Просмотрел новейшие советские учебники – не приемлет душа, не то, не чутки к детскому восприятию. И учу сыновей – привезла Аля из России – по тем книгам, что и сам учился.) Есть у нас и доска, прибитая к стенке домика, мел, ежедневные тетради и контрольные работы, всё, что полагается. Вот не думал, что ещё раз в жизни, но это уж последний, придётся преподавать математику. А – сладко. Какая прелесть – и наши традиционные арифметические задачи, развивающие логику вопросов, а дальше грядёт кристальная киселёвская «Геометрия».
После урока сразу – купанье. В пруду, он местами мелок, местами очень глубок, учу их плавать и страхую. Вода проточная, горная, очень холодная. Старшие рвутся: «Папа, а можно – до водопада?» – плотинка метрах в двадцати.
Впрочем, выше по течению одного ручья есть и подлинный водопад, метров пятнадцати высоты, ребята гуськом пробираются почтительно глазеть на него. Да впечатляет он и взрослых. Ещё на два-три года повзрослеют ребята – начнут, с Ермолая, со мною пилить и колоть дрова.
Второй год в вермонтском уединении – кажется, только и работай? Я и работаю упоённо – но вон уже сколько тут страниц исписано внешними помехами и досадами. В зиму же на 1978 – вдруг приглашение: выступить с речью на выпускном акте Гарвардского университета. Конечно, можно и тут отклонить, как отклонил уже их приглашение в 1975 и как уже сотни приглашений отклонены. Однако весьма примечательное место, будет хорошо слышно по Америке. А уже два года не выступал – и темперамент мой толкает снова вмешаться. И я – принял приглашение.
Когда же стал весной готовиться, то обнаружил, что, сверх стилистического отвращения к вечным повторениям, – я вообще уже не способен, не хочу повторять в прежних направлениях и на прежних нотах. Много лет в СССР и вот уже четыре года на Западе я всё полосовал, клевал, бил коммунизм, – а за последние годы увидел и на Западе много тревожно опасного и предпочитал бы здесь – говорить о нём. И, давая исход новым накопившимся наблюдениям, я строил речь по поводам западным, о слабостях Запада.
Эту речь, в исключение, я готовил в письменном виде, переводить же её на английский досталось И. А. Иловайской. Хорошо зная Запад, она очень волновалась и огорчалась над речью, уговаривала меня смягчать мысли и выражения, я отказался. После того, переводя и печатая, со слезами говорила Але: «Этого ему не простят!»
О речи моей объявлено было заранее, и от меня ждали прежде всего (писали потом) – благодарности изгнанника великой Атлантической державе Свободы, воспевания её могущества и добродетелей, которых нет в СССР. И ждали, конечно, антикоммунистической речи. Накануне, при процедуре торжественного ужина, я имел честь сидеть с президентом Ботсваны сэром Сереце Кхама, утомлённым фиолетовым негром, и экс-президентом Израиля Эфраимом Кациром (Качальским), очень напоминающим добродушного сельского хохла, но с задумкой. А нервно подвижный Ричард Пайпс, столь влиятельный в Гарварде и чуть не направитель всей здешней науки о России, подходил знакомиться, с разведкой: верно ли, что речь моя будет о Камбодже[213]213
…речь моя будет о Камбодже. – В 1975–1979 годах власть в Камбодже принадлежала красным кхмерам – радикальному движению аграрного толка, созданному в 1968 году Коммунистической партией Камбоджи; за время их правления было уничтожено по разным оценкам от 1,7 до 3 млн человек.
[Закрыть]. (А о Камбодже – ещё как бы стоило говорить.)
На другой день на университетском дворе рассаживались под открытым небом, выпускники – по специальностям, дальше – гости, и стоя вокруг, – всего, говорили, двадцать тысяч. Ректор университета поздравлял оканчивающих, затем вручались нам – с президентом Ботсваны, с Кациром, датским антропологом Эриком Эриксоном, замечательное лицо, – докторские степени, и, к моему удивлению, меня приветствовали общим вставанием и долгими аплодисментами, ещё миф обо мне не развеялся тут. Затем по университетскому двору долго маневрировали выпускники Гарварда (начиная со старичка, выпуска 1893 года), вели нас, почётных гостей, под студенческие приветствия, потом опять все рассаживались. Вскоре дошли и до моей речи – а между тем пошёл изрядный дождь. Мы-то, президиум, находились под навесом, но всё сборище – под дождём, и я, в речь, изумлялся: кто зонтики достал, а кто и безо всяких – сидят под дождём, не разбегаются! А заняла речь, с переводом, целый час, время удваивалось. Динамики разносили её по всем углам двора.
И ещё я удивлялся, совсем не ждал: как сильно и часто аплодировали, особенно когда я говорил об уходе от материализма, это меня порадовало. Иногда они свистели, а это у них, оказывается, тоже знак одобрения, но и ещё бывал звук: протяжное «с-с-с», как наш призыв к тишине, – а это, напротив, осуждение. (Потом я узнал: на этом же кампусе в своё время и раздавались самые резкие протесты против вьетнамской войны.)
После речи университет попросил у меня текст[214]214
Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета (8 июня 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 309–328; Solzhenitsyn A. A world split apart: Commencement address delivered at Harvard University. New York: Harper & Row, 1978.
[Закрыть], и тут же размножил, раздал в две тысячи рук, и началось вакханальное распространение в произвольных выдержках и цитатах по Штатам и по всему миру. Из 12 стран университет получил больше пяти тысяч запросов. (Вот, опять этот эффект: чего из других мест не слышали – теперь, из Америки, весь мир услышал, как в первый раз.) А неутомимое телевидение, всё время снимавшее, в тот же вечер передавало речь и дискуссию по ней. Изо всего этого мы с Алей до ночи только успели поймать, что «Голос Америки» передал целиком речь на СССР, моим голосом.
Затем по́лтора суток у нас была как экскурсия в прошлое: вечером в университетском столовом зале давало нам ужин издательство «Харпер» – и притащился смотреть на меня тот старик Кэсс Кэнфильд, который когда-то капризничал над «Кругом» и диктовал унизительные безправные условия. Старые обиды не вспоминать, но и смотреть на него неприятно. – А на другой день мы поехали в коннектикутский дом Томаса Уитни, и друг его Гаррисон Солсбери был там, – прежние, посвящённые, теперь принявшие не сторону Карлайлов, а мою. К вечеру хозяин собрал избранных гостей, Артур Миллер и его круг, из нью-йоркской элиты.
А ещё на следующий день мы вернулись домой – и начали приноситься, и приносились – два месяца! – возбуждённые газетные отклики на речь, затем и поток прямых писем американцев ко мне. Письма читала и делала их сводку Ирина Алексеевна, статьи я многие прочёл сам. И, надо сказать, изумился. Тому, как эта критика соотнеслась (не соотнеслась) с содержанием моей речи.
Названье я дал ей «Расколотый мир», с этой мысли и начал речь: что человечество состоит из самобытных устоявшихся отдельных миров, отдельных независимых культур, друг другу часто далёких, а то и малознакомых (перечислил некоторые)[215]215
Я самостоятельно ощутил эту мысль. Только в 1984 прочёл Шпенглера, только в 1986 Данилевского, снизившего свой мастерский ботанический, с переносом по аналогии на человечество, анализ навязчивой идеей панславизма, – будто без него Россия не могла бы отважиться на самобытную цивилизацию. – Примеч. 1986.
[Закрыть]. И надо оставить надменное ослепление: оценивать все эти миры лишь по степени их развития в сторону западного образца. Такая мерка возникает из непонимания сущности всех тех миров. И надо же посмотреть трезво на свою собственную систему.
Западное общество в принципе строится – на юридическом уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие свободы переклонено в необуздание страстей, а значит – в сторону сил зла (чтобы не ограничить же никому «свободу»!). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. «Права человека» вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. Особенно своевластна пресса, никем не избираемая, но приобретшая силу больше законодательной, исполнительной или судебной власти. А в само́й свободной прессе доминирует не истинная свобода мнений, но диктат политической моды – к неожиданному однообразию мнений (тут-то я более всего их раздражил). Вся эта общественная система не способствует и выдвижению выдающихся людей на вершину власти. Царящая идеология, что накопление материальных благ, столь ценимое благосостояние превыше всего, – приводит к расслаблению человеческого характера на Западе, к массовому падению мужества, воли к защите, как это проявилось во вьетнамской войне или в растерянности перед террором. А все корни такого общественного состояния идут от эпохи Просвещения, от рационалистического гуманизма, от представления, что человек – центр всего существующего и нет над ним Высшей Силы. И эти корни безрелигиозного гуманизма – общие у нынешнего западного мировоззрения и у коммунизма, и оттого-то западная интеллигенция так долго и упорно симпатизирует коммунизму.
И, к завершению речи: моральная нищета ХХ века в том, что слишком много отдано политико-социальным преобразованиям, а утеряно Целое и Высшее. У всех у нас нет иного спасения, как пересмотреть шкалу нравственных ценностей, подняться на новую высоту обзора. «Ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как – вверх», – закончил я.
Во всей этой речи я ни разу не употребил даже слова разрядка (повторного осуждения которой больше всего от меня ждали), ни даже призывов к преодолению коммунизма, – и только на третьем плане, глухим фоном, проплывало: «следующая война может похоронить западную цивилизацию окончательно…»
И что́ же в этой речи центровая образованность и пресса услышали – и как ответили?
Не тому изумился я, что газеты меня вкруговую бранили (ведь я же резко задел именно прессу!), но тому, что полностью пропустили всё главное (изумительная способность медиа), а изобрели такое, чего в речи вообще не было, – и били туда, били туда, где я ожидался, но вовсе не оказался. Ошалело газеты загалдели так, будто речь моя была именно о разрядке или войне. (Заранее приготовились отвечать как бы на речь в Вашингтоне – Нью-Йорке три года назад?) – «Концентрируется на крестовом походе против коммунизма… Автократ с ностальгией по царским временам… Плохо продуманный политический анализ» (выше политики и не видят).
В прессе первых дней неслась горячая брань: «Бросил перчатку Западу… Фанатик… Православный мистик… Жестокий догматик… Политический романтик… Консервативный радикал… Реакционная речь… Одержимость… Потеря баланса… Не попал в цель… Звучало как высказывание расколотого разума» (игра слов с названием речи «Расколотый мир»).
И, уже с переходом к «оргвыводам»: «Если вам здесь не нравится – убирайтесь!» (Это – в нескольких газетах, не раз.) «Если жизнь в Соединённых Штатах столь скверна и продажна – почему он выбрал жизнь здесь?.. Мистер Солженицын, когда вы будете выходить – пусть ручка двери не ударит вам в зад… Вам ничто здесь не нравится – не будет с нашей стороны нелюбезно указать, что не обязательно вам здесь оставаться… Любите нас – или оставьте нас!.. Пусть пошлют ему расписание самолётов на восток». – Особенно раздражало, что я в речи называл «нашей страною» не Америку, а всё ещё СССР. «Не переношу, когда гость… читает лекцию о наших недостатках. Еле ноги унес от КГБ, а вот обернулся и осуждает нас за избыток свободы (это и правда смешно), – а сам живёт в роскошном аскетизме. Америка спасла его родину от гитлеровских орд». (Это ещё – кто кого спас.)
До гарвардской речи я наивно полагал, что попал в общество, где можно говорить, что думаешь, а не льстить этому обществу. Оказывается, и демократия ждёт себе лести. Пока я звал «жить не по лжи» в СССР, это – пожалуйста, а вот «жить не по лжи» в Соединённых Штатах? – да убирайтесь вы вон!
Ещё отдельно особенно упрекали, что я критикую ту самую западную прессу, которая меня спасла в моём бою. Да, получается вроде неблагодарно. Но я шёл в бой, готовый к смерти, а не рассчитывая, что меня спасут целёхоньким. Я тогда и писал в «Телёнке»: «накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной». А вот они уже и раскаиваются, что мне помогли. Сослали бы большевики меня в 1974 в Сибирь – Запад легко бы простил, особенно узнав «Письмо вождям». Киссинджер и папа Павел VI ещё и осенью 1973 поняли, что защищать меня не надо.
Почти в тех же часах, что я в Гарварде, выступал в Аннаполисе в военной академии президент Картер и всячески хвалил Америку. «Картер описал американский путь почти в евангельских терминах. А Солженицын обрушился…» – горевал «Ньюсуик». Через несколько дней, едва ли не нарушая правила приличия, жена Президента в Национальном клубе печати выступила специально с ответом мне: что никакого духовного упадка в Америке нет, но всесторонний расцвет[216]216
Mrs. Carter. Solzhenitsyn was wrong about US // Boston Globe. 1978. 21 June. P. 2.
[Закрыть]. Широкая волна оправданий Соединённым Штатам прокатилась и по всей печати: «Не ухватывает американского духа… Мы безответственны? Но мы ставим на первое место свободу, а ответственность потом – [именно потому, что] мы свободный народ…»
Крупные газеты не печатали самой речи, хотя копирайта не было объявлено, а лишь – отрывки, удобные им для разноса. «Он приехал с уже выработанными предубеждениями об упадничестве и трусости Америки… Не видит прока в свободе, а в демократии – весьма относительный… Не постигает, что в нашей слабости большая сила, даже в наивности и немонолитности правительства. Это непостижимо для традиционного русского». И так – сквозь многие отклики: слишком русский, неисправимо русский, с русским опытом, ему не понять. «Голос из российского прошлого. Славянофил XIX века… Он презирает нашу прессу… Все молчаливо ожидали, что после трёх лет американской жизни он должен признать наше превосходство. Мог бы хоть раз поприветствовать общество, в котором всем так доступна свобода… Разве мы не опубликовали его книги? И это – недостаточная причина благодарности?.. Большинство американцев съёжится от утверждения о “праве не знать” – (я сказал об «утерянном праве людей не знать, не забивать своей божественной души – сплетнями, суесловием, праздной чепухой» – А. С.) – или что коммерческие интересы “душат” духовную жизнь… По сравнению с этой речью утверждения Освальда Шпенглера в “Закате Европы” кажутся безрассудно оптимистичными… Гигант нас не любит… Очень неопределённо: возрождение “духовной жизни”… Гарвард, очевидно, не смог найти достойного американского оратора. Благодарю Бога, что я американец».
Гаррисон Солсбери, защищавший меня по телевидению в первый же день: мол, сельский философ из уединения может отлично охватить общую картину, теперь тоже удивлялся: «Может ли Солженицын быть оппозиционным правительством и для СССР, и для Штатов? Невероятное бремя для одних плеч».
Но даже и в первом слитном хоре осуждения, а день ото дня всё сильней, звучала оценка речи не как политической, а то и дело, десятки раз, сравнивали её с библейскими пророчествами, а меня – со старинными американскими пуританами: «Как из ведра вылил угрозы Страшного Суда… Возродил традицию апокалиптического пророчества… Глубоко затронул сердца многих американцев… Уже давно не слышали мы такого пуританина. Инкриз Мэзер, президент Гарварда во время оно, показался бы нравственно расслабленным в сравнении с Солженицыным… Прямой преемник проповеднической традиции Новой Англии. Место, где он выступал, было самым подходящим, потому что в Новой Англии призывы такого рода раздавались в течение трёхсот лет… Критика, исходящая из более древней, более суровой и пессимистической духовной традиции, чем Просвещение… Превосходил опыт слушателей. Никто не был подготовлен к восприятию таких идей… Потряс страну землетрясением в 9 баллов, горькая правда…»
А вот уже можно было прочесть и оценку недавних газетных откликов: «Лавина непонимания… Болезненная реакция [прессы]… Интеллект большой силы и потенции, Солженицын взбудоражил осиное гнездо… Редко отдельная речь частного гражданина возбуждала так много ревностных споров, и редко столь превосходящее множество ответов так далеко уклонялось от цели… Банда журналистов концентрированно хочет опорочить Солженицына… Он напал на медиа за её самоуверенность, лицемерие, обман, они этого никогда ему не простят… Либералы краснеют при слове “зло”. [А Солженицын] видел один из ликов ада».
И чем чаще стали вмещаться в газетные колонки просеянные и усеченные редакциями отклики читателей и статьи раздумчивых журналистов, и чем шире вступала в обсуждение провинциальная пресса, тем больше менялся тон в оценке речи: «Крик Солженицына в Гарварде скорбно выстрадан… Самое лёгкое – сделать вид, что это всё ерунда, а мы понимаем лучше. Однако эти слова могут быть правдой, и кто произнёс их – пророком, даже если его не почитают ни в своей стране, ни в приёмной… Сказанное им – неразбавленная правда, а от правды бывает больно… Нет лучшего дара, какой может принести нам изгнанный иностранец… Если бы он не любил то, чем мы были и могли бы быть, – он не предупреждал бы нас по поводу того, чем мы стали… Нам не хватает своих Солженицыных… Можно было пожелать, чтобы он более явно высказал благодарность своей приёмной стране… но в этом, может быть, дальнейшее проявление его мужества – та соль, которая больше нужна нашей стране, нежели тот сахар, который она хотела бы… Какое было облегчение это услышать!.. Поблагодарим, что у него хватило мужества встать перед нашей молодёжью и указать на более праведный путь… Нам подобает прислушаться к его мудрости… Захватывает мощность его убеждений… Красота его речи – в том, что она духовна и вызывает размышления. Он хочет отблагодарить за гостеприимство самым искренним и содержательным путём, давая самое ценное своё имущество – Мысль… Искусство и художники имеют высшую обязанность – постигать и выдвигать свои постижения без компромисса… Если восхищаемся его прямотой в одном географическом пункте (СССР) – надо уважать её и в другом (США)… Писал к советским вождям, теперь продемонстрировал сравнимое “письмо к западным руководителям”… Справедливые слова в нужное время и нужной публике… Речь превосходная, реакция прессы жёлчная… Какой писатель в конюшне Белого дома писал те жеманные слова для Розалины Картер? Жалкие возражения… Его речь преподнесёт американцам пищу для размышления… “Анализы” прессы исказили речь и показали именно то, на что нападал Солженицын: технику, как ставят “окаменелый панцырь вокруг голов”… Пусть говорит ещё!.. Жизнь духа – в опасности везде в мире… Переосмыслить гарвардскую речь не как атаку в первую очередь, а как призыв ко всей человеческой семье».
И наконец, прорвалась в газету и одна выпускница Гарварда, слушавшая мою речь, Ванда Урбанска: «Потревожил многие наши представления о себе самих и о мире, которые Гарвард так тщательно выхолил». Почему газетный критик смеет отвечать от лица выпускников? Солженицын «бросил нам вызов, растормошил нас и останется с нами»[217]217
Urbanski [Urbanska] W. He will be remembered // Portland (ME) Press Herald. 1978. 28 June. P. 12.
[Закрыть].
Теперь уже можно было прочесть и много признаний, выказывающих совсем не ту надменную нью-йоркско-вашингтонскую Америку: «В глубине мы знаем, что он прав… Мы хуже, чем он говорит, если не можем стать лицом к лицу с нашими пороками и попытаться их исправить… Он прав, слишком ужасно прав… Та самая слабость, в которой он нас справедливо обвиняет, и мешает нам принять требуемое лекарство… Выводы Солженицына мучительно близки к цели… Мы боремся за деньги и не ведаем подлинных ценностей жизни… Запад духовно болен и страдает глубокой потерей воли… На место диктаторского правительства мы поставили авторитет групп с особыми интересами. А необходима способность к жертве… На банкнотах мы пишем “In God We Trust”, – надо или доказать это, или снять надпись… Америка – не моральный Прометей, и Солженицын призвал нас не поклоняться коммерческим интересам, а искупить моральную нищету… Мы – духовно больное и нравственно плоское общество… Вы [газета] не понимаете Солженицына, потому что он смотрит в корень проблемы… Нравится нам это или нет, но Солженицын прав… Нет страны в здравом разуме, которая приняла бы нашу преступность и наркотики, порнографию, секс как центр разговоров, и ублажение детей. Мы напоминаем Содом и Гоморру… Свобода, предоставленная сама себе, может произвести хаос… Общество, которое дозволяет технологии развиваться в моральном и этическом вакууме, подобно злополучному пациенту, чья вегетативная жизнь поддерживается искусственными лёгкими и почкой… Блестящая и смелая гарвардская речь как двуострый меч разрезала мякоть Америки!.. Американский народ поддержит Солженицына… “Вашингтон пост” может посмеиваться над русским акцентом г-на Солженицына, но не может умалить универсальное значение его слов… Будем благодарны, пока не поздно… Его речь должна быть выжжена в сердце Америки. Но её не прочитали, а убили… Плоский стиль “Detroit Free Press” доказывает правоту Солженицына. Журналисты – последние оставшиеся бароны-разбойники капитализма… Газеты, в том числе ваша, разделяют нас как народ и как нацию… Может ли пресса быть плюралистической, если она в руках малого числа дельцов?»
Так постепенно разворачивалась передо мной и другая Америка – коренная, низовая, здоровая, которую я и предчувствовал, строя свою речь, к которой, по сути, и обращался. И теперь высвечивалась надежда, что с этой коренной Америкой я могу найти единство, и могу предупредить её нашим опытом, и могу даже повернуть. Но – сколько ж на то лет? и сколько ж это сил?
Да и как вести эту борьбу, поощряя их стоять насмерть против коммунизма – и ни разу не дать направить против России? И ещё в обстановке, когда поворотливые полемисты из Третьей эмиграции не только наносят, натягивают дурманную ложь на Россию, но ещё и с таким неожиданным заворотом: что национальная Россия – наибольшая опасность для Запада сравнительно с благодушным нынешним коммунистическим режимом, который и надо, сдерживая, поддерживать умелыми переговорами.
С гарвардским приглашением впримык пришло и приглашение из Военной академии Вест-Пойнт: генерал предлагал собрать больше 5 тысяч курсантов, полный состав, и лекция – на любую тему. Очень значительная точка приложения для поворота Америки! Вест-Пойнт – это трибуна американских президентов. И сочувственная сильная аудитория, а не гарвардская рефлексирующая. Да кого важней и убеждать? Грозное, решительное место: эти самые курсанты будут военачальниками на полях Третьей Мировой и администраторами привоенных местностей. Через кого, как не их, спешить отвратить американскую ненависть от России? Кому, как не им, первым бы и рассказать о предательствах Первой и Второй Мировых войн, им первым бы и разъяснить разницу между СССР и Россией. И по коммунистам будет отличный удар! И я уже очень склонялся ехать, но Аля верно отговорила: как это будет выглядеть на родине у нас? Если от речей профсоюзных мне клеили, что я призываю задушить Россию голодом, то речь в военной академии будет выглядеть совсем как братание с «американскими империалистами». Получится – совсем не то, что я хочу. Верно. Пришлось отказаться.
Гарвардская речь вызвала гулкое эхо, и куда раскатистее, чем я мог предвидеть[218]218
Год за годом всё продолжают откликаться статьями. – «Редко когда голос одного человека побуждает к духовным поискам весь западный мир… [Выступления в Гарварде и у профсоюзов] взбудоражили сознание западного мира даже сильнее, чем красноречивые речи Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля… Непрекращающиеся разговоры о Гарвардской речи свидетельствуют о силе слов Солженицына и о серьёзности его критики наших фундаментальных ценностей». Теперь оценивают, что: «его общий анализ западных представлений не так уж легко опровергнуть… Просвещение проявило вполне поверхностный оптимизм в понимании человеческой природы… Речь Солженицына – произведение более сложное и трудное для понимания, чем обычно думают… Наиболее важный религиозный документ нашего времени… Он рассуждал в плюралистической манере, не прибегая к символам русского православия… Между Солженицыным и его критиками разница более высокого порядка, более тонкая и неуловимая, чем большинство этих критиков думает». Многое из моей критики признали, хотя и поправляют в терминологии. Верно говорят: Он не Запад критикует, «а спрашивает: есть ли выход вверх из современности?» Конечно, Р. Пайпс продолжает настаивать, что критика моя «хаотичная», «погромная» и вся «в русской интеллектуальной традиции», и даже списана у Победоносцева (я его и не читал никогда). Гулаг есть результат славянофильской идеи, американцы же – народ более добродетельный и щедрый, чем русские. Но другие голоса уже не считают мои высказывания «неискоренимо русскими», а даже относят к традиции лучших западных умов, находя мне предшественников – Свифта, Бёрка. Эта речь – «прочтение Запада западными же глазами», и даже: «её идеи найдутся в любой приличной “библиотеке” западной мысли». Да ведь им невдомёк, и я не спешу признаться: да я никого тех не читал, когда б это в моей жизни было время на их чтение? я шёл – одной интуицией и жизненным опытом. Кто-то и заметил: «Интуиция приводит его к выводам, которые толпа сначала отвергает». – Примеч. 1982.
[Закрыть].
__________
И густота приглашений не падает, и можно носиться молнией между конференциями, конгрессами, университетами, телевидениями – и всё время выступать. В этой суете легко замотаться. И одна политическая активность неизбежно тянет за собой ещё десять и сто. А ещё если б весной 1974 я приехал бы в Штаты, как меня рвали и звали, и тогда несомненно получил бы почётное гражданство, – каким бы бременем оно сейчас на меня легло, когда я сюда переселился! Уж тут бы не отбиться так легко, а – участвовать, отзываться, высказываться. Больше почёта – больше хлопот. А так – живи себе свободно, отрешённо, не обязанный срастаться с этой страной.
Ещё и язык. На восстановление и развитие английского пойдёт больше времени, а безумно жаль его, когда по истории революции томятся десятки тысяч ещё нечитанных страниц, когда столько воспоминаний стариковских ждут, – и всё же время писать. Нет смысла отрывать время от русской работы, да и тексты моих выступлений должны быть взвешены и отточены всё равно по-русски.
Да что! – я даже и пейзаж, вот этот вермонтский, вот эти кусочки леса, и даже перемены погоды, и даже игру солнца, неба, облаков – здесь не воспринимаю с такой остротой и конкретностью, как в России. Тоже – как будто на другом языке, что-то стоит между нами.
Не случайна эта пословица: на чужой стороне и весна не красна.
А дома – верю, возобновится. Для того времени и живу, и пишу.
Ещё когда были мы в Цюрихе, одна старая эмигрантка подарила мне крупный цветной фотоснимок высокого качества с поленовской картины: изгибистая малая русская речушка, к мосткам подчалена одинокая пустая лодка без вёсел, тот берег – в диковатой траве и с песчаной осыпью, чуть видна за ней соломенная избяная крыша – и нигде ни человека, никого живого. Печаль, тоска – и сладкая привязанность к родине. Снимок этот теперь всегда прикноплен за моим письменным столом, не нагляжусь.
А вот уже в Вермонт – ещё один эмигрант, из Швеции, прислал, с сертификатом экспертизы, в раме, крупный левитановский эскиз «Дорожки»: заброшенная полевая дорожка, шире тропки, – через прясельные воротца по низкому травяному месту, в пасмурный день. И тоже – никого. И тоже – ах, Россия!
А вот ещё кто-то прислал по почте видовую открытку: в солнечном утре малый пролесок, через не видный нам ручей внизу высокие досчатые лавы с одним поручнем – так и зовут: перейди через нас, вот сюда, на лужайку. И тоже – ни фигурки, но может быть, перейдя, кого-то и встретишь дальше? И сколько же таких чудных местечек в России – где я не бывал, и никогда не буду? Сладкая тоска. (Поставил и эту открытку перед собой на столе.)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































