Текст книги "Москва 1812 года глазами русских и французов"
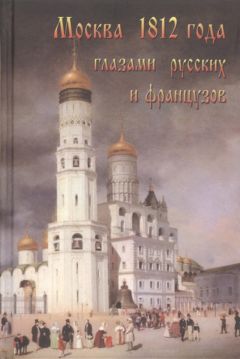
Автор книги: Александр Васькин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Удино, маршал и герцог Реджио, хотя и не одарен блестящими военными способностями, но бесспорно один из храбрейших генералов Франции, по своей отваге он может стать наравне с маршалом Массеной, своим прежним начальником или вернее наставником. Он превосходно управлял главным штабом Массены во время войны в Швейцарии и храброй защиты Генуи. В 1805 году в войне с Австрией он командовал лучшим корпусом, которым когда-либо располагала Франция и который состоял из 15 или 16 тысяч гренадер и артиллерийского полка: в прусскую кампанию с этим самым корпусом Удино почти все время находился в авангарде и принудил Данциг к сдаче. В 1809 году им возобновлена война против Австрии, после сражения при Ваграме он был сделан маршалом и герцогом Реджио, потом он перешел с 30-ти тысячным корпусом в Голландию и овладел ею именем Наполеона. В 1812 году маршал Удино, командуя 2-м корпусом «великой армии», вступил в бой с войсками графа Витгенштейна, и несмотря на свое мужество, проиграл сражение, причем получил рану в левое плечо. Во время отступления «великой армии» Удино с остатками своего корпуса облегчил Наполеону переправу через Березину и был вторично ранен. Маршал Удино – один из самых горячих патриотов и происходит от богатой, но неизвестной фамилии Бар-ле-дюка, в Латарингии.
Алексей Бестужев-Рюмин: «Припадаю к стопам Вашего Императорского и Королевского Величества»
2 сентября 1812 года московский генерал-губернатор Федор Васильевич Ростопчин в спешке покидал вверенный ему императором Александром I город. Оказавшись в гуще отступающих через Москву колонн русской армии, устремившейся на Рязанскую дорогу, в полдень Ростопчин уже проехал заставу. В этот момент он услышал далекое и гулкое эхо пушечных выстрелов. Это в Кремле французы разгоняли горстку храбрецов, засевших в Арсенале и пытавшихся отстреливаться.
Своеобразный артиллерийский салют прозвучал уже не в честь, а в память о Москве. Ростопчин же расценил эти выстрелы как окончание своего градоначальства над Москвой: «Долг свой я исполнил; совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя, и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество, с оружием в руках и не были свидетелями торжества Наполеона».
А в это время из окон третьего этажа здания Сената в Кремле за разворачивающейся трагедией наблюдал чиновник Вотчинного департамента надворный советник Алексей Дмитриевич Бестужев-Рюмин. Он, в отличие от Ростопчина, не покинул Москвы, оставшись охранять архив Вотчинного департамента.
2 сентября 1812 г. А.Д. Бестужев-Рюмин, оказавшийся среди тех москвичей, кто действовал согласно принципу
«Спасайся, кто может», в поисках избавления от входящих в город французских войск направился в Вотчинный департамент, прихватив с собою жену и малолетних сыновей. Там уже находились и другие чиновники, не сумевшие эвакуироваться из города. Департамент располагался в здании Сената.
Ворвавшиеся в Кремль французы принялись рыскать по всем зданиям и помещениям. Попавшихся им чиновников Вотчинного департамента они обобрали до нитки, выгнав их на улицу. Среди обездоленных оказался и Бестужев-Рюмин с семьей.
Нелегко представить, что творилось тогда на заполоненных французами улицах Москвы, по которым семья Бестужевых-Рюминых пыталась вернуться на свою квартиру. Однако, возвращаться было уже некуда: дом разграбили мародеры, а вскоре он и вовсе был поглощен пожаром. Временное пристанище семья нашла под крышей Медико-хирургической академии[53]53
Ныне Рождественка, дом 9/13.
[Закрыть].
Надо ли говорить, в какой нужде оказались Бестужев-Рюмин и его жена (с грудным младенцем на руках). Перебиваясь с хлеба на воду, вновь и вновь в своих скитаниях по Москве пытались они найти кров и спасение, на этот раз их приютили в доме князя Одоевского на Петровке, где жил один из сослуживцев Бестужева-Рюмина.
А в это время Наполеон уже задумался над необходимостью организации в Москве местных органов управления и полиции, решив создать Муниципальный совет и полицию. Только где было взять столько желающих «управлять» москвичей в опустевшем городе? Вот и хватали на улице тех горожан, кто хоть как-то мог изъясняться по-французски. Одним из первых, попавшихся под горячую руку, стал Алексей Дмитриевич Бестужев-Рюмин. Первый раз его схватили прямо на Тверской улице, потащили к Наполеону. На предложение императора поступить к нему на службу Бестужев-Рюмин ответил, что считает «противным долгу, чести и присяге служить двум императорам». Наполеон приказал отпустить его с миром.
Во второй раз у Бестужева-Рюмина отказаться не хватило мочи. После того, как пожар выгнал его семью из дома Одоевского, несчастные укрылись было в избе посреди огородов Полевого двора, народу набилось там, как сельдей в бочке. Но вскоре и это жалкое жилище подожгли. Тогда Бестужев-Рюмин повел своих голодных и холодных детей на Самотеку в бани, но и бань уже не было: они сгорели.
Случайно встретившийся им старый хромой солдат поделился мукой, которую размочили и накормили детей. Услышав от таких же бедолаг, что где-то на Москве-реке затонули барки с мукой, Бестужев-Рюмин кинулся туда, дабы раздобыть хоть какое-то пропитание. Здесь-то его и поймали. И как не отмахивался он от такой чести, но ему пришлось-таки поступить на службу к Наполеону, войти в Муниципальный Совет, носить алую ленту на левой руке.
По разным оценкам, общая численность органов власти, созданных французами в Москве, составляла почти полторы сотни человек. Подчинялись они назначенному Наполеоном новым губернатором маршалу Мортье и главному интенданту Лесепсу (последний Россию хорошо знал, т. к. до начала войны десять лет жил в Петербурге в качестве дипломата). Не остались москвичи и без афишек, к которым так привыкли при Ростопчине, – первое наполеоновское обращение к горожанам появилось уже 2 сентября. В нем москвичей призывали «ничего не страшась, объявлять, где хранится провиант и фураж».
Интендант в своем «Провозглашении» к горожанам (на французском и русском языке) предложил им без страха вернуться в Москву, а крестьянам – вернуться в свои избы. Половина текста – это рассказ о торговле, разрешенной в Москве, и предпринятых французскими властями мерах по защите обозов: «Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были, вас взывается исполнять отеческие намерения Его Величества Императора и Короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами».
Находился муниципалитет в доме графа П.А. Румянцева на Маросейке[54]54
Ныне дом 17.
[Закрыть]. Трудным и длительным для французов был процесс его создания. Подавляющая часть членов совета была включена в него в добровольно-принудительном порядке, помимо их воли. Во главе совета находился городской голова – мэр Петр Нахоткин. Бестужев-Рюмин был назначен товарищем городского головы и отвечал в муниципалитете за снабжение продовольствием бедных и попечение больных. На его доме была повешена доска с надписью: «Резиденция помощника мэра города».
Современники отмечали, что «в это время низшие французские чины считали Бестужева городским начальником. Он умел пользоваться этим как нельзя лучше; брал у Французов хлеб и раздавал беднейшим из своих соотечественников, в особенности семейным и, таким образом, облегчал участь многих несчастных. Он заботился и о сохранении в целости Вотчинного Департамента. Так, бывши однажды в Кремле, он увидел, что Французы из окон архива выкидывали книги и дела в вязках; тотчас же отправился к Наполеону, как член Муниципального Совета был допущен к нему и донес ему об этом. Наполеон, по просьбе его, приказал к архиву приставить караул».
Когда после изгнания оккупантов началось расследование деятельности оставшегося в городе чиновничества Бестужев-Рюмин был отстранен от работы в Вотчинном Департаменте по распоряжению обер-прокурора Огарева. А 17 марта 1813 г. указом Правительствующего Сената Бестужева-Рюмина и вовсе от занимаемой им должности уволили «с причислением к Герольдии». Один из сослуживцев написал донос, в котором обвинил его в краже казенных денег – Бестужеву-Рюмину пришлось долго оправдываться, чтобы снять с себя подозрения.
В результате расследования выяснилось, что Бестужев-Рюмин «во время исправления им сей должности, действовал он, как видно из дела, наравне с другими членами муниципалитета и особенных услуг его неприятелю по исследованию не обнаружилось; но он навлек на себя крайнее подозрение тем, что по изгнании уже неприятеля из Москвы, не только не явился с прочими к вошедшему в оную российскому генералу Иловайскому 4-му, но 12 октября и совсем выехал из сей столицы в деревни братьев и гр. Бобринского; в Москву же не прежде возвратился как 22 ноября и то потому только, что узнал из газет о донесении генерал-майора Иловайского Его и.в. о том, что он Бестужев-Рюмин скрылся»[55]55
Земцов В.Н. 1812 год. Пожар Москвы. М., 2010.
[Закрыть]. В ответ он вынужден был объяснять свой поступок тем, что остался без средств к существованию и потому выехал из Москвы. Однако, следствие установило, что Бестужев-Рюмин приехал из Москвы в деревню с обозом, и немалым. В итоге следствие обязало его уплатить в казну в счет утраченного казенного имущества более 8 тысяч рублей.
Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина, опубликованные в 1896 г. в «Русском архиве», представляют собою интереснейший документ эпохи, в подробностях раскрывающий малоизвестные страницы истории Москвы 1812 года. Будучи привлеченным французами к созданию оккупационных органов власти в Москве, автор записок стал непосредственным участником трагических событий, случившихся в Первопрестольной в сентябре-октябре 1812 г. Большой интерес представляет письмо Бестужева-Рюмина к Наполеону, перевод которого впервые публикуется здесь.
Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина
Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году
Вступление
Прежде нежели приступлю к описанию происшествий в столице Москве в 1812 году, которых я был очевидным свидетелем, я должен сказать несколько слов о том положении, в каком находилась Москва с 1 января 1812 года, то есть о бывших в это время начальниках в ней, и о себе самом, как о человеке, игравшем некоторую роль во время пребывания в ней неприятеля, и показать причины, почему я остался в его власти.
В начале 1812 года был главнокомандующим в Москве генерал-фельдмаршал граф Иван Васильевич Гудович; гражданским губернатором – Николай Васильевич Обрезков, обер-полицеймейстером – Петр Алексеевич Ивашкин, а полицеймейстерами – Александр Александрович Волков и Егор Александрович Дурасов (что ныне сенатор). С 1806 года я жил постоянно в Москве, числясь при Герольдии для определения к делам.
С половины еще 1811 года стали поговаривать в Москве о разрыве мира, который заключен был в 1807 году с Французами в Тильзите; однако ж ничего не было приметно, и все оставалось спокойно; напротив, еще в С.-Петербургских и Московских ведомостях величали Наполеона великим. Я часто ходил в Греческие гостиницы читать иностранные газеты, и хотя из многих листов видел, что что-то неладно между нами и Французами, но все это большого вероятия не заслуживало; потому что газеты иностранные часто наполняются всякими неосновательными слухами единственно для того, чтобы что-нибудь печатать. Но когда многие листы иностранных ведомостей были задерживаемы, то стали догадываться, что что-нибудь да есть, а движение войск наших, которые отовсюду стремились к западным границам, делали догадки вероятными. В конце же 1811 года явно уже говорили, что с Французами будет война, и война жестокая. Однако ж 1812 год начался весьма спокойно и, благодаря Богу, Москва ничем возмущена не была: масленицу провели очень весело, не подозревая никаких опасностей, и не думали даже о них.
Так как статс-секретарь Петр Степанович Молчанов еще в прошедшем 1811 году объявил бывшему тогда министром юстиции Ивану Ивановичу Дмитриеву, что Его Императорское Величество высочайше повелеть изволил определить меня к должности, то вследствие сего высочайшего повеления в половине февраля месяца 1812 года директор Департамента Юстиции, граф Сергей Петрович Салтыков, уведомил меня письмом, что открылась вакансия в губернском городе Вологде губернского стряпчего, и предлагал мне это место, но я от него отказался.
В конце марта-месяца я опять получаю письмо от директора Департамента Юстиции, графа Салтыкова, в котором он уведомил меня, что открылась вакансия в Москве в Вотчинном Департаменте, и я охотно принял оную.
По изъявлении моего согласия на принятие службы в Вотчинном Департаменте 2-го мая указом Правительствующего Сената я определен вторым членом, а 20 того же мая, присягнув на службу, вступил в отправление моей должности.
Место, которое я занял в Вотчинном Департаменте, принадлежало до сего коллежскому асессору Дмитрию Ивановичу Дмитриеву (родному братцу бывшего тогда министром юстиции Ивана Ивановича Дмитриева). Сей Дмитрий Иванович Дмитриев, место которого я занял, вступил в Вотчинный Департамент в ноябре месяце 1811 года из отставных майоров, а в марте месяце 1812 года по представлению министра юстиции, родного своего братца, за отличное служение пожалован в надворные советники и посажен в Сенат за обер-прокурорский стол с жалованием по тысяче рублей в год. Таким образом сие место и очистилось для меня. Провидение избрало меня, чтоб сохранить архиву сего Департамента от совершенного истребления оной неприятелем. Сия архива необходима для общего спокойствия.
Вотчинной Департамент с его четырьмя архивами находился, как и ныне находится, в 3-м этаже Сенатского здания, что в Кремле, и имеет из окон своих вид в три стороны города.
Присутствующими в Вотчинном Департаменте были: 1-й член или председатель оного, г. статский советник Адриан Федорович Аничков, имевший тогда около 77 лет, если не более; 2-й член был я; 3-й член был надворный советник Матвей Кузьмич Иванов, из приказнослужителей сего департамента, имевший тогда более 75 лет, и в личном его ведении были деньги, принадлежавшие департаменту. Вотчинной Департамент по производству дел своих состоял под непосредственным главным надзором Правительствующего Сената г. обер-прокурора, графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. При департаменте служили: экзекутор, четыре секретаря, да 138 чиновников и приказнослужителей; караул состоял из инвалидов, которых департамент нанимал.
Происшествия в столице Москве до вторжения в оную неприятеля
Май 15 дня. По прошению главнокомандовавшего в Москве, генерал-фельдмаршала графа Гудовича, Государь Император всемилостивейше дозволил ему сложить с себя звание сие для поправления расстроенного его здоровья[56]56
Замена Гудовича Ростопчиным на посту московского генерал-губернатора была пролоббирована сестрой императора великой княжной Екатериной Павловной и ее мужем герцогом Ольденбургским, возглавлявшим Тверскую губернию. Именно в салоне герцога Ольденбургского и встречались недовольные засильем иностранщины в России оппозиционеры. Как рассказывает Ростопчин, «Государь накануне приезжал провести с ними вечер и выражал, что затрудняется в выборе преемника фельдмаршалу Гудовичу, которого не хотел оставлять на занимаемом месте по причине его старости и слабости. В. К. (Великая княгиня – А.В.), относившаяся ко мне всегда весьма добродушно и дружелюбно, назвала ему меня, и государь тотчас же решился и благодарил ее за эту мысль, которую назвал счастливою». 13 мая 1812 г. император отправил Гудовича в отставку, назначив 24 мая на освободившуюся должность Ростопчина. Но поскольку к должности генерал-губернатора прибавлялось прилагательное военный, а Ростопчин с 1810 г. был обер-камергером, то еще через пять дней последовал указ о переводе графа в военную службу с чином генерала от инфантерии.
[Закрыть].
Май 29 дня. Действительный тайный советник и двора Его Императорского Величества обер-камергер граф Растопчин всемилостивейше переименовывается в генералы от инфантерии и назначается военным губернатором в Москву.
Я не имел чести знать лично графа Гудовича, не видывав его никогда, но в достоинствах его нисколько не мог сомневаться: ибо он и в царствование Великой Екатерины занимал важные места, а потому заслуги его должны быть известны Отечеству; но графа Растопчина я очень хорошо знал по многим отношениям, а особливо по несправедливому поступку его с приятелем моим, Петром Петровичем Дубровским, который 25 лет находился вне пределов Отечества при разных посольствах и служил всегда с честью и похвалою. Граф Растопчин не знал даже лица его, но при вступлении в звание вице-канцлера, в царствование императора Павла I, исключил его, Дубровского, из службы единственно потому, что он не был никому знаком из приближенных к графу, и такою несправедливостью ввергнул его в самое затруднительное положение возвратиться в отечество; и потом, когда он, Дубровский, кое-как возвратился и явился к нему, Растопчину, он оболгал его пред Государем, и Дубровский выслан был из С.-Петербурга.
Признаюсь откровенно: лишь только я узнал о сей перемене начальства, сердце облилось у меня кровью, как будто я ожидал чего-то очень неприятного.
Июня 15 дня напечатан был в «Московских Ведомостях», № 50, высочайший рескрипт на имя председателя Государственного Совета, генерал-фельдмаршала, графа Николая Ивановича Салтыкова, коим Государь Император уведомляет, что Французские войска вошли в пределы нашей Российской Империи. Рескрипт сей служил объявлением войны с Французами, и с 54 номера сих же «Московских Ведомостей» начали печатать известия о военных действиях.
Июля 3 дня выдано в Москве следующее печатное объявление: «Московский военный губернатор, граф Растопчин, сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где, между прочим вздором, сказано, что Французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих Российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын Московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранцем и развращенный трактирною беседою. Граф Растопчин признает нужным обнародовать о сем, полагая возможным, что списки сего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же сочинитель и губернский секретарь Мешков, переписчик их, преданы суду и получат должное наказание за их преступление».
Я нужным поставлю приложить при сем точные копии с сих двух дерзких бумаг.
1
«Письмо Наполеона к Прусскому королю.
Ваше величество! Краткость времени не позволила мне известить вас о последовавшем занятии ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца; будьте уверены, ваше величество, в моих к вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что вы, как курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный ваш союз с потомками Чингиз-Хана желанием присоединиться к огромной массе Рейнской монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит вам мою волю и желание, которое, надеюсь, вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут теперь меня в мой воинский стан. Пребываю вам благосклонный Наполеон».
2
«Речь, произнесенная Наполеоном к князям Рейнского союза в Дрездене.
Венценосные друзья Франции! Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю как глава Рейнского союза для общей пользы удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством в поле чести. Вам объявляю мои намерения: желаю восстановления Польши. Хочу исторгнуть ее из неполитического существования на степень могущественного королевства. Хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы! Мои союзники! Мои друзья! Думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы».
Читая эти бумаги, с первых строк можно было заметить, что двадцатилетний купеческий сын Верещагин, от какого бы иностранца образование свое ни получил и какою бы трактирною беседою развращен ни был, таких бумаг не напишет; а потому и объявление это главнокомандующего Москвою всем показалось ложью, что, конечно, не могло поселить к нему ни доверия, ни искреннего уважения.
Я люблю правду, и всякий гражданин, приверженный не одними словами, но душою и сердцем к престолу законного Монарха и Отечеству, должен любить правду: ибо помазанник Божий, Государь, изрекает суд по правде и тогда уже не подвергает себя Божескому суду. Итак, я объясню дело о Верещагине следующею истиною. Дня за четыре до напечатанного объявления графом Ростопчиным с пришедшею из С.-Петербурга почтою были получены и иностранные ведомости, и в Усть-Эльбских эти, так названные, дерзкие две бумаги были напечатаны. Каким же образом Верещагин прочел те газеты и успел перевести из них речь Наполеона на Русский язык, я не знаю; но списки его перевода скоро разошлися по рукам: я сам видел их у многих моих чиновников в департаменте и списал для себя копии, но, прочитав в «Московских Ведомостях» объявление графа Ростопчина, и чтоб не подвергнуть себя неприятностям, сжег их у себя тогда же, и потом уже, в 1814 году, списал их вновь из печатной Русской книги, заглавия которой не запомню.
Между тем главный Московской почт-директор, тайный советник Федор Петрович Ключарев, человек с большими достоинствами, обремененный летами и дряхлостью, но личный враг графу Ростопчину, был в ночь арестован новым третьим полицеймейстером столицы Москвы, г. Брокером.
Для пояснения тогдашних отношений считаю нужным сказать несколько слов о г. Брокере. Адам Фомич Брокер, с давних лет приверженный к графу Ростопчину и самый короткий человек в его доме, служил в Главном Московском Почтамте экзекутором, и по назначении графа Ростопчина военным губернатором Москвы по покровительству его получил место третьего Московского полицеймейстера с переименованием его в военный чин; и этому чиновнику граф Ростопчин поручил арестовать Ключарева, чиновнику, который за две недели назад находился под непосредственным его, Ключарева, начальством! Арестованный старец под стражею выслан в город Воронеж, а оставшееся имение его сделалось пищею пламени и расхищено в неприятельское нашествие.
Поступок сей с Ключаревым еще более утвердил ложь Ростопчина относительно Верещагина, потому что, если бумаги писал Верещагин, то не было никакого повода так беззаконно поступать с заслуженным старцем, генералом; если же, напротив, Верещагин перевел сии списки из иностранных ведомостей, то не следовало объявлять, что Верещагин сочинил их: ложь была очевидна в обоих случаях.
Впрочем, бумаги сии и сами по себе не сделали особенного впечатления в народе. Народ говорил: «Мы-де, Русские и должны держаться Русской пословицы: Бог не выдаст, свинья не съест». И не знали чему дивиться: дерзости ли Наполеона, которую оказывал он к венценосным друзьям своим, или кротости и снисхождению сих венценосных его друзей.
В самое то же время слух прошел в Москве, что будто в С.-Петербурге открыта измена в особах Государственного Совета: секретаре Михаиле Михайловиче Сперанском и Михаиле Леонтьевиче Магнитском, что они уже арестованы министром полиции Балашовым и что их везут под стражею чрез Москву в определенные им города для жительства. Говорили притом, что лишь только они в Москву въедут, то будут истерзаны народом; но, слава Богу, они с Твери поворотили в другую сторону и в Москве не были[57]57
Падение Сперанского тесно связано с возвращением на государственную службу Ростопчина, которое состоялось 24 февраля 1810 г., когда он был назначен обер-камергером с правом числиться в отпуску. Назначению предшествовала встреча Александра I с Ростопчиным в ноябре 1809 г. в Москве. Среди сопровождающих императора была и все та же великая княгиня. Не без ее влияния царь дал Ростопчину первое поручение – провести ревизию московских богоугодных заведений, что тот и сделал, подготовив очень обстоятельный и подробный отчет. Но получив должность обер-камергера, Ростопчин все же не мог часто бывать при дворе, т. к. один обер-камергер там уже был, и при том действующий, – А.Л. Нарышкин. Все это указывало на нежелание Александра приближать к себе Ростопчина, а может, и на желание приберечь его на будущее. Это был и определенного рода знак недовольным, что их голос услышан и принят во внимание. Ведь 1810 год – это начало реформ Михаила Сперанского, создателя совершенно нового для Российской империи учреждения – Государственного Совета. «Манифест об открытии Государственного Совета» подписал 1 января 1810 г. император, а председателем совета стал канцлер Николай Румянцев, государственным секретарем – Сперанский. Госсовет выполнял роль совещательного органа и должен был обсуждать и готовить законопроекты на подпись императору. Хотя первоначально речь шла о более радикальном шаге – создании Государственной Думы. Сперанского люто ненавидела подавляющая часть дворянства. Своей активной деятельностью он раздражал при дворе многих. Велась и соответствующая работа по дискредитации реформатора с целью сместить его, что было непросто, т. к. он все еще пользовался доверием государя. Император же в этой ситуации, похоже, пытался усидеть на двух стульях. Он пошел на полумеры. И Госсовет учредил, и Ростопчина назначил. Противники Ростопчина использовали его для борьбы против Сперанского, которого в чем только не обвиняли: в краже документов, в шпионаже, продаже российских интересов за польскую корону, обещанную ему Наполеоном и т. д. Ростопчин сумел облечь обвинения против Сперанского в «научную» форму, написав в 1811 г. «Записку о мартинистах», т. е. масонах. Кому как не Ростопчину было писать эту записку. Ведь если верить ему, еще в 1796 г., разбирая архив покойной императрицы, обнаружил он секретные бумаги о масонском заговоре с целью убийства Екатерины и довел эти сведения до Павла. Император же в 1799 г. и вовсе запретил масонские ложи в России. По Ростопчину получалось, что тайные общества никуда не исчезли после запрета их деятельности, а лишь на время законспирировались. А Сперанский и есть главный покровитель масонов, вражеского общества «нескольких обманщиков и тысяч простодушных жертв», «поставившего себе целью произвести революцию… подобно негодяям, которые погубили Францию». Злободневность записке придало и упоминание Наполеона, «который все направляет к достижению своих целей, покровительствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения, сколько опасном». Записка получила широкое распространение и дошла до адресата, которому она и была предназначена, хотя поначалу писалась для его сестры Екатерины Павловны. Арестовывать его явился сам министр полиции Балашов. Сперанского сослали в Нижний Новгород, несмотря на то, что сам император весьма сожалел об этом: «Прошлой ночью отняли у меня Сперанского, а он был моей правой рукой». Как заметил Ростопчин, «низвержение его (Сперанского – А.В.) приписывали В. К. К. И кн. О. – да и меня заставили играть роль в этой истории – меня, который был одним из наиболее изумленных, когда узнал на другой день о его высылке». Граф не расшифровывает инициалы, но и так понятно, что то В.К.К. И кн. О – это благодетели Ростопчина, великая княгиня Екатерина Павловна и ее муж. Ряд историков считают, что Ростопчин намеренно преуменьшил свою роль в заговоре против Сперанского. Ведь со стороны взаимосвязь была очевидной: либералы (Сперанский) уступили места консерваторам, среди которых и был Ростопчин, а также А.С. Шишков, ставший новым государственным секретарем. Нам кажется, что граф не покривил душой, и его фраза: «Меня заставили играть роль» – является наиболее точной характеристикой его участия в данном деле.
[Закрыть].
Июля 5 дня. Первый член Вотчинного Департамента статский советник Аничков по случаю ваканции уволен был от должности на 28 дней; ему дан был паспорт, и он из Москвы выехал, а я остался начальником департамента.
Июля 11 дня. Государь Император изволил прибыть в столицу Москву. С Его Величеством прибыли гг. обер-гофмаршал граф Толстой, генерал от артиллерии граф Аракчеев, генерал-адъютант, министр полиции Балашов, вице-адмирал, государственный секретарь Шишков, генерал-адъютант князь Волконский, генерал-адъютант граф Комаровский.
В сей же день рано утром читали мы следующий печатный манифест:
«Первопрестольной столице нашей Москве.
Неприятель вошел с великими силами в пределы России! Он идет разорять любезное наше Отечество. Хотя пылающее мужеством ополченное Российское воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие, однако ж, по отеческому сердоболию и попечению нашему о всех верных наших подданных, не можем мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности, да не возникнет из неосторожности нашей преимущества врагу. Того ради, имея в намерении для надежнейшей обороны собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве: она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ея из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны отечества для защиты оного. Никогда не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасение веры, престола, царства того требуют. Итак, да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляют Бог и Православная наша церковь; да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России! Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»
На подлинном: «Александр».
В лагере близ Полоцка, 6 июля 1812 года
Всякий, кто читал это воззвание к столице Москве, был тронут до глубины сердца, всякий готов был жертвовать собой для защиты престола и Отечества. Я в сей день, со многими другими, обедал у начальника моего, графа Дмитриева-Мамонова. Сей вельможа Российского государства, истинный сын Отечества, без лицемерного притворства, приверженный к престолу Монарха, при своем состоянии, решился сформировать пехотный полк из крепостных своих крестьян и на свой счет; он приглашал меня способствовать ему и вместе служить в оном полку с ним. Я охотно согласился и подал прошение об увольнении меня из Вотчинного Департамента; но, к сожалению, дней через шесть граф Дмитриев-Мамонов переменил свое намерение и вместо пехотного полка вздумал сформировать конный полк; а так как я не только не умею ездить верхом, но, откровенно говорю, боюсь даже сесть на лошадь, и потому поданную мною просьбу об увольнении меня из Вотчинного Департамента взял обратно, изорвал и остался при своем месте.
Июля 15 дня. В сей день собраны были дворянское и купеческое сословия в залах Слободского Дворца. Я сам был там лично. По прибытии Государя Императора в залу, в которой собралось дворянство и по прочтении воззвания к первопрестольной столице Москве, оное общим согласием положило обмундировать и вооружить с одной Московской губернии, для отражения врага, восемьдесят тысяч воинов. Государь, приняв сие пожертвование с душевным умилением, изрек дворянству: «Иного я не ожидал и не мог от вас ожидать. Вы оправдали мое о вас мнение». Потом Государь Император вошел в залу, в которой ожидали его купечество и мещанство, и я туда пошел, чтобы слышать, что они будут говорить; и по прочтении того же воззвания, они общим голосом отвечали: «Мы готовы жертвовать тебе, отец наш, не только своим имуществом, но и собою». И тут же началась подписка денежного пожертвования. Я возвратился в квартиру свою.
С чувством истинного прискорбия, невольно делаю некоторое замечание, совершенно однако же справедливое. Оно может показаться весьма неприятно, но правда всегда священна. До воззвания к первопрестольной столице Москве Государем Императором, в лавках купеческих сабля и шпага продавались по 6 р. и дешевле; пара пистолетов Тульского мастерства – 8 и 7 р.; ружье, карабин того же мастерства – 11, 12 и 15 р.; дороже не продавали. Но когда прочтено было воззвание Императора и учреждено ополчение против врага, то та же самая сабля или шпага стоила уже 30 и 40 р.; пара пистолетов – 35 и даже 50 р.; ружье, карабин не продавали ниже 80 р. и проч. Купцы видели, что с голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своего обогащения. Мастеровые, как то: портные, сапожники и другие, утроили или учетверили цену работы своей; словом, все необходимо нужное, даже съестные припасы, высоко вздорожало. Граф Растопчин, главнокомандующий в Москве, мог бы легко такое беззаконное лихоимство властью своею остановить и предать виновных суду; но он смотрел на это зло равнодушно, и за неделю только до входу неприятеля в Москву публиковал в ведомостях следующее: «Дабы остановить преступное лихоимство купцов Московских, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение против врага, он, главнокомандующий, открыл государственный цейхауз, в котором будет продаваться всякое оружие дешевою ценою».
Действительно, цена продаваемому оружию из арсенала или цейхауза была очень дешева, ибо ружье или карабин стоили 2 и 3 рубля, сабля – 1 рубль, кортик, пики и проч. – все очень дешево; но, к сожалению, все это оружие к употреблению не годилось: ибо ружья или карабины были или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, или измятые, сабли без эфесов, у других клинки сломаны, зазубрены, и лучшее, что было в цейхаузе, то скуплено уже было купцами; но, невзирая на негодность оставшегося оружия, покупали еще оное, и арсенал или цейхауз был полон народу.
Итак, пожертвования дворянства были гораздо действительнее и полезнее для отечества, чем пожертвования купцов, мещан, мастеровых. Первые шли на защиту отечества сами, с детьми своими, несколько возмужалыми, жертвуя не только имуществом, но и жизнью, для отражения врага, брали с собою еще дружину из крепостных своих дворовых людей и крестьян от 10 душ одного, или и двух; а вторые приносили в жертву одни только деньги в ассигнациях, которые в то время никакой цены не имели, и тот еще излишек денег своих, которые они лихоимственно получили от действительных защитников Отечества за оружие и прочие необходимые вещи; сами же они со своими поверенными, приказчиками и сидельцами удалялись заблаговременно из Москвы на нескольких сотнях троек лошадей, чтобы не быть свидетелями ужасов нашествия неприятеля, оставляя в домах своих только то, чего увезти с собою не могли.
Повторю, что я с большим прискорбием сделал сие замечание.
Вот еще одно обстоятельство, которое случилось во время пребывания Государя в Москве и о котором умолчать я почел бы преступлением.
Дворянство Рязанской губернии, в которой имел я небольшую деревню, узнав о воззвании Императора к первопрестольной столице Москве, немедленно выслало своих депутатов, состоящих из уездных предводителей дворянства, с тем, чтобы они, по приезде в Москву, повергнув себя к стопам Государя, донесли Его Величеству, что Рязанское дворянство готово поставить на защиту Отечества шестьдесят тысяч воинов, вооруженных и обмундированных. Сам же губернский предводитель сего дворянства, Лев Дмитриевич Измайлов, в числе депутатов, по болезни своей, не был.
Депутаты, частью мне знакомые люди, по приезде в Москву остановились в доме губернского своего предводителя Измайлова, что у Мясницких ворот, и на другой день явились к министру полиции, генерал-адъютанту Балашову, прося его, чтоб он доложил об них Государю Императору.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































