Текст книги "Москва 1812 года глазами русских и французов"
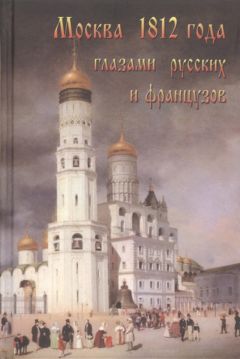
Автор книги: Александр Васькин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Генерал Балашов принял их самым неблагосклонным образом, кричал на них, говоря, как смели они отлучиться от должностей своих; и когда депутаты отвечали, что они это сделали по общему приговору дворянства и с личного дозволения г-на Рязанского гражданского губернатора Бухарина, тогда Балашов сказал, что он сделает строгое взыскание, и почти выгнал их от себя.
Хотя депутаты Рязанской губернии чрезвычайно оскорбились и огорчились таким неделикатным поступком с ними генерала Балашова, однако ж не отчаивались и обратились к главнокомандующему в Москве, графу Растопчину, который и принял их очень вежливо и ласково. Они, объяснив ему причину своего приезда в Москву, не умолчали о поступке с ними генерала Балашова, и граф Растопчин, порицая поступок Балашова, обещал в тот же день доложить об них Государю Императору. На другой день рано через Московскую полицию приказано им было выехать немедленно из столицы. Они с сердцем, преисполненным горести, что не видели Государя и не выполнили на них возложенного препоручения Рязанским дворянством, возвратились восвояси. Что должно думать о генерал-адъютанте, министре полиции Балашове? Искренно ли он любил благодетеля своего, Государя Императора, и истинный ли был сын Отечества? По поступку его можно усомниться.
Июля 18 дня. Обнародован состав военной Московской силы, и Государь Император изволил выехать из Москвы в С.-Петербург.
С отъездом Государя Императора движение народа было необыкновенное. Множество приезжих из деревень наполняло вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было; все почти были в мундирах Московского ополчения, вооруженные, готовые кровью своею искупить мать Русских городов; но мало-помалу эта толпа становилась реже и реже, а недели через три бульвары и вовсе были пусты.
Граф Растопчин, по отъезде Государя Императора, редкий день не выдавал печатных афишек, как о действии армии наших, так особенно и от себя в народное известие, писанных особенным слогом, который некоторые находили соответствующим времени и обстоятельствам, но большая часть – пошлым и площадным. Он писал, что глаз у него болел, а теперь глядит в оба; что Француз не тяжелее хлебного снопа, и мы его на вилы-де, подымем; чтобы народ не пугался, когда увидит шар воздушный и на нем
50 человек; этот шар истребит армию неприятельскую, и проч. и проч. Однако ж, смеясь над шаром, я должен упомянуть, что многие этому верили от души. Я говорил о воздушном шаре с вельможею, сенатором, которого имени не хочу называть; он был точно уверен, что воздушный шар истребит неприятельскую армию, и доказывал, уверяя честью своею, что уже сделана проба, и собрано было стадо овец, над которыми поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено.
Августа 9 дня. Первый член Вотчинного Департамента Аничков возвратился из отпуска к должности своей, и так как вакантные дни еще продолжались, то испросил и я себе увольнение на 28 дней. Мне дан был на сей срок законный паспорт, и я не присутствовал уже в Вотчинном Департаменте.
В день, в который дан был мне паспорт, нисколько еще не помышляли, чтобы неприятель мог овладеть Москвою; а как срок моему увольнению должен был окончиться около 9 числа сентября, а неприятель овладел Москвою 2 сентября, следовательно, без малейшей ответственности для меня и подозрения, что я будто в духе труса бежал от неприятеля, не заботясь нимало о сохранении сокровищей отечественных, которые заключаются в архиве Вотчинного Департамента, мог я с семейством свободно уже удалиться без потери моего имущества, и не быть притом свидетелем ужасного нашествия врага. В оном достаточно оправдывало меня данное мне законное увольнение.
Августа 18 дня. Главнокомандующий в Москве, граф Ростопчин, предложил письменно Вотчинному Департаменту следующее: «Вотчинный Департамент должен уложить все дела свои и иметь оные в готовности к отвозу в безопасное место, если необходимость может того потребовать; а нужное количество лошадей на отвоз сих дел чтобы департамент сам уже от себя испросил от Московского гражданского губернатора».
Так как я не совершенно еще воспользовался данным мне отпуском и из Москвы не выезжал, то первый член Вотчинного Департамента Аничков, получивший выше прописанное предложение графа Ростопчина, прислал ко мне в оригинал оное и, вместе с сим, прислал сегодня же, то есть 18 августа, вышедшее печатное объявление от него же, графа Ростопчина, следующего содержания:
«От главнокомандующего в Москве.
Здесь есть слух, и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по нескольку тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах, в будущих, отправились без возврату. Если по их есть опасность, то непристойно; а если нет ея, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода Русских сил и надо всеми начальник; у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска; генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 тысячами пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков через три дня придет в Можайск с 24 тысячами нашей военной силы, а остальные 7 тысяч вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 тысяч пехоты. А если этого мало для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина Московская! Пойдем и мы!» И выйдем сто тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 пушек, и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 000 человек; кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и Государь Император на днях изволит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте; понять можно, а толковать нечего».
Я не смею делать никакого замечания на это объявление, но спрошу только: как надобно было понимать оное?
Сей день 18 Августа был черный день для меня. Я поздно узнал, что не надобно мне было возвращать паспорта, а идти по указанию случая; нас всегда губит мудрование! Прочитав с большим вниманием, как предложение графа Растопчина Вотчинному Департаменту, так и объявление его к жителям Москвы, помещенные в сем последнем слова: «…непристойно, стыдно», меня как громом поразили. Я думал, что сделаю постыдное преступление, если воспользуюсь счастливым случаем, данным мне законным увольнением, и удалюсь из Москвы. Я страшился, чтоб удаление мое в такое время, когда самим Провидением испытуется усердие служащего чиновника и сына Отечества, не постановлено бы мне было поступком, близким к измене или предательству, и полагал: чем кто имеет именное происхождение свое, тем более обязан служить престолу и Отечеству по правде. И в таковых-то мыслях решился я возвратить данный мне паспорт и остаться при своей должности.
Сего ж 18 Августа граф Растопчин дал письменное приказание Московскому Магистрату, чтобы он «людям купеческого и мещанского сословия не давал уже паспортов о выезде их из Москвы, кроме жен их и малолетних детей».
Вышедшее вышепрописанное от графа Растопчина печатное объявление, равно как и приказание его Магистрату, чрезвычайно скоро разошлись по уезду, и толковали слова «непристойно, стыдно» всякий по-своему; запрещение же Магистрату давать купцам и мещанам паспорты о выезде из Москвы совершенно вложило в голову, что сие запрещение есть всем вообще, и потому те люди, которые не имели нужды просить особенных паспортов, удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян, чрез селения которых должны были ехать. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед тем, которые мимо селений ехали: «Куда, бояре, бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам не мила уже». И которые из удалявшихся по необходимости должны были останавливаться в селениях для отдохновения и корму лошадей, то таковые вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить себе за овес и сено втридорога, и сверх того просто за постой не по пяти копеек с человека, как то обыкновенно платили, но по рублю и более, и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвою негодования против своего побега освирепевшего народа. Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвращались опять в Москву пешком, лишившись дорогою и лошадей своих с экипажем, и имущества. Я свидетельствуюсь в истине сих происшествий теми, кои удалялись в то время из Москвы и сами рассказывали со слезами о горестном своем положении. Между тем в самой Москве так вздорожал наем извозчичьих и даже крестьянских лошадей, что за 50 верст просили с нанимающего на три лошади триста рублей и более, потому что богатые господа и купцы всех лошадей забрали; следовательно, обремененный семейством человек в недостатках своих поневоле должен был остаться во власти неприятеля, тогда в скором времени овладевшего Москвою.
Августа 19 дня. Возвратив данный мне паспорт или свидетельство об увольнении меня от должности на 28 дней, я присутствовал в Вотчинном Департаменте с прочими членами оного. Мы имели рассуждение относительно предложения графа Растопчина, «чтоб были дела наши в готовности к отправлению оных в безопасное место», и по предмету сего заключили определением, всеми тремя членами подписанным и за скрепою секретаря, следующего содержания: «Так как по справке оказалось, что при Вотчинном Департаменте, кроме текущих дел, которые оставить можно на произвол судьбы, находится много самых нужных документов к разрешению споров тяжущихся между собою по вотчинным делам, и документы сии состоят частию в огромных книгах в переплете, частию в связках и в свертках, всего числом 42 160; и по математической истине сделанному вычислению, полагая на каждую крестьянскую лошадь 18 пуд, то потребно будет до тысячи лошадей», и проч. и проч. Мы представили это наше определение на рассмотрение главному нашему начальнику, графу Дмитриеву-Мамонову, который, со своей стороны, немедленно, с приложением этого нашего определения в оригинал, отнесся к графу Растопчину, и просил меня, чтоб я конверт его лично доставил в собственные руки графа, дабы избегнуть дальнейшей переписки и проволочки по сему предмету: ибо я, как член департамента, мог дать ему нужные сведения и объяснения.
Граф Растопчин в сие время жил вне Москвы, в загородном своем доме, и потому доставил я конверт графа Дмитриева-Мамонова на другой уже день, и отдал оный, как приказано мне было, в собственные руки его сиятельства; но граф, спросив меня только: «От кого?», не удостоил более разговором и не оказал большого внимания к отношению графа Дмитриева-Мамонова, даже не распечатал конверта и кинул оный на стол (надобно знать, что граф Растопчин был личный враг графу Дмитриеву-Мамонову). После двух часов ожидания ответа, правитель канцелярии его мне объявил, что граф Растопчин сам будет в Правительствующем Сенате трактовать о делах и архиве Вотчинного Департамента. С таковым ответом и возвратился я к графу Дмитриеву-Мамонову.
Августа 27 дня в Москве узнали о кровопролитном сражении при селе Бородине, расстоянием от Москвы 120 верст.
Первый член департамента Аничков испросил себе от графа Дмитриева-Мамонова опять увольнение от должности на 8 дней и просил меня не только убедительно, но даже униженно, чтоб не сделал я ему препятствия в получении паспорта, поелику он видел, что я сам имел полное право на отпуск. И я, снисходя тому жалкому положению, в котором он тогда находился и не могши ожидать от него никакой помощи себе в сохранении архива Вотчинного Департамента, буде нужда того потребует, да и казалось мне, что он прежде времени умер (ибо был бледен и говорил дрожащим языком, так что понять нельзя было, что он говорил), и потому не препятствовал я ему получить паспорт, который я сам и подписал.
Таким образом, я опять остался старшим членом Вотчинного Департамента.
В сей же день, 27 Августа, получено из С.-Петербурга от министра юстиции Дмитриева предписание, чтобы главный надзор над Вотчинным Департаментом, вместо графа Дмитриева-Мамонова, поступившего с полком, им формированным, в состав армии, имел обер-прокурор Озеров.
Августа 28 дня привезли в Москву раненых при селе Бородине и поместили их в разных казенных и партикулярных домах.
В ночи с 29 на 30 числа Августа господа обер-прокуроры Правительствующего Сената всех департаментов имели необыкновенное свое ночное заседание, и от обер-прокурора Озерова, принявшего главный надзор над Вотчинным Департаментом, приказано было, чтобы и я с чиновниками моими в это время находились при своем месте. Я воздерживаюсь делать какие-нибудь замечания о сем ночном заседании, но должен сказать, что господа обер-прокуроры, после многого рассуждения относительно к представшей опасности столице Москве (ибо и главная-де квартира неприятеля, говорили они, не далее уже сорока верст), не приняли, однако ж, никаких мер к сохранению архива Вотчинного Департамента, равно как и небольшой суммы денег, частию в медной монете прежнего чекана, при оном состоящей, и ночное свое заседание заключили определением, которое и мне объявили: «Послать нарочного курьера в С.-Петербург и, с прописанием обстоятельств, в которых находится Москва, испросить от министра юстиции приказание, что делать с архивом Вотчинного Департамента». И курьер с таковым донесением отправлен на другой уже день поздно, то есть 31 августа.
Сие ночное заседание составляли господа обер-прокуроры: граф Кутайсов, Озеров, Засецкий и Лужин. Оное продолжалось с 10 часов вечера до 3 часов следующего утра.
Августа 30 выдано в народ следующее печатное объявление: «Светлейший князь, чтоб скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему идут отсюда 48 пушек с нарядами; а светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет, и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли; дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего пойдет, мне надобно молодцов и городских, и деревенских; я клич кликну дни за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: Француз не тяжелее снопа аржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь к раненым; там воду освятим; они скоро выздоровеют. И я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».
Подписал: «Граф Растопчин».
30 августа 1812 года.
Это объявление в народ, которое, казалось бы, само по себе ничего не значило, причинило, однако ж, ужасное волнение в народе, волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки; питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка; останавливали прохожих, спрашивая: где неприятель? Трудно было отойти от них. В Серебряном ряду двое Немцев, живших в России несколько десятков уже лет, желали разменять ассигнации на серебро, и когда они не хотели дать промен, который менялы требовали, то силою отняли у них деньги, а самих их избили до полусмерти, под предлогом, будто они шпионы. Словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства. Я, проходя в 10 часов утра из дому в Вотчинный Департамент, встретил в городе, у Лобного места, что близ Кремлевских Спасских ворот, огромное стечение народа, большею частию пьяных, готовых на всякое убийство. В толпе сей говорили, что граф Растопчин сзывает уже сынов Отечества на Три Горы, куда и сам явится предводительствовать народом, для отражения врага от Москвы, и что на завтрашний день с восходом солнца народ должен сбираться, кто с чем может, в назначенное им место.
В Вотчинном Департаменте я нашел все в порядке: дежурные чиновники были при своих местах. Однако же многие удалились уж из Москвы, без ведома моего.
В сей же день, по вечеру, приехали за мною от графа Алексея Григорьевича Бобринского шесть лошадей в двух повозках; а супруга его, графиня Анна Володимировна, прислала мне 400 рублей ассигнациями, которые я от аптекаря Ауербаха и получил. Сверх того, граф Бобринский прислал мне, при особой записке своей с человеком, приехавшим с лошадьми за мною, 240 Голландских червонцев и просил меня, чтоб я поспешил к нему приездом.
Это частность, и я упомянул об оном только для того, чтобы доказать, что я все способы имел удалиться от неприятеля: имел и деньги, и лошадей, но не имел ни от какого начальства приказания оставить мое место, а самому собою нарушить присягу и, в духе труса, спасая себя, кинув архив Вотчинного Департамента на произвол судьбы, я не думал иметь право. И если впоследствии сей подвиг усердия моего поставлен мне был в преступление и без суда еще совершены на мне жестокости наказания, то все-таки преступление мое было похвальное, а подвиг истинно-патриотический, коим я имею полное право гордиться и хвалиться: по крайней мере, сохранением архива Вотчинного Департамента я заплатил любезному Отечеству за воспитание мое.
Августа 31 дня. Я рано вышел из дома моего, желая посмотреть, что делается в городе, и прошел до Пресненской заставы, из которой дорога на Три Горы. Боже мой! С каким сердечным умилением взирал я на православный Русский народ, моих соотечественников, которые стремились с оружием в руках, дорого от корыстолюбивых торговцев купленным. Другие шли с пиками, вилами, топорами в предместие Три Горы, чтобы спасти от наступающего врага Москву, колыбель Православия и гробы праотцев, и с духом истинного патриотизма в один голос кричали: «Да здравствует батюшка наш Александр!» Малейшая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву. Народ, в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, с восхождением солнца до захождения, не расходился, в ожидании графа Растопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам.
Сентября 1 дня. Рано утром разбужен я был приходом ко мне третьего члена Вотчинного Департамента, Иванова. Он принес мне конверт, содержащий в себе предложение обер-прокурора Озерова, которому препоручен главной надзор над Вотчинным Департаментом. Распечатав конверт, прочитал я следующее:
«Вотчинному Департаменту
Так как обер-прокурор Сената г. Озеров отправляется с Правительствующим Сенатом в город Казань, то и передает власть свою над департаментом старшему по себе».
Но какое удивление мое было! Лишь прочитал я сии строки, увидел у ног моих его, Иванова, бледного, трепещущего, умоляющего меня подписать ему паспорт о выезде из Москвы, который он уже держал в руках своих. Я подписал сей паспорт. В противном случае он уехал бы и без паспорта моего, а может быть, еще и того хуже: умер бы от страху, и причину смерти его приписали бы мне.
Так как я оставался старшим в Вотчинном Департаменте или, лучше сказать, оставался один с несколькими чиновниками: то, по уходе от меня Иванова, поспешил в дом обер-прокурора Озерова, чтобы узнать от него, в чем власть его над Вотчинным Департаментом, которую он передает мне, и принять наставление, что мне самому делать в опасностях, от которых он удаляется. Но его превосходительства я не мог видеть: он уже далеко был от Москвы.
Возвратясь на квартиру, я рассуждал, что трусость, которую обнаружу подлым бегством от неприятеля, кинув сокровища отечественные, которые заключают в себе архивы Вотчинного Департамента, на произвол судьбы, будет со стороны моей подлым нарушением присяги. Возложив все упование мое на Всемогущего Творца, оставил я квартиру свою со всем моим в оной имуществом, приказав людям моим не оставлять квартиры до самой уже невозможности быть в оной, отпустил лошадей графа Бобринского, присланных за мною и, взяв жену и малолетних моих детей, пошел с ними в Кремль, где я сделал самого себя стражем Вотчинного Департамента. После полудня ходил я к Дорогомиловской заставе, в которую должен входить неприятель своими войсками, и на Арбатской улице встретил генерала от артиллерии Левенштерна и адъютанта его Фадеева, с которым я давным-давно знаком, но около девяти лет не видался с ним. Мы оба обрадовались свиданию нашему. Я узнал от него, что неприятель непременно войдет в Москву, потому что наша армия почти погибла и осталась не в большом числе, но что еще дня два, как кажется, сказал он, простоим около Москвы. Фадеев имел какое-то поручение, и мы скоро расстались. Когда стало смеркаться, то с берега Москвы-реки, у самого Дорогомиловского моста видно было, что осветились бивуаки нашей армии, расположенной у Поклонной горы, версты три от заставы Дорогомиловской. Народное буйство в Москве, бывшее в этот вечер, описать нельзя. Возвратясь в Вотчинный Департамент, я нашел там все благополучно: семейство мое уже покоилось; караул, стоявший на круглом дворе Сенатского здания, бил, по обыкновению, вечернюю зорю, и я, осмотрев обе двери в Вотчинный Департамент, запер их и ключ взял к себе.
Сентября 2 дня я почти совсем не спал, а дремал только и, к удивлению моему, стоявший караул на внутреннем круглом дворе Сенатского здания и бивший вчерашнего вечера еще зорю, ночью снят был со своего места. Я предоставляю отцам семейства посудить о положении, в котором должен я был находиться.
В 8 часов утра стали сходиться в Вотчинный Департамент чиновники и приказнослужители. Я имел, как начальник их, справедливую причину выговаривать некоторым, почему они, быв дежурными и дневальными, не находились в сию ночь при своих местах, и за такое их нерадение и пренебрежение к службе угрожал послать их к наказанию к г-ну Московскому коменданту; но бывший секретарем сего департамента, а потом действительным членом оного, Рыбников язвительно мне отвечал: «Ни коменданта, ни главнокомандующего Москвою, ни обер-полицеймейстера, ни полицейских чиновников – никого уже нет в Москве;
а вы хотите, чтоб мы были при своих местах». И в самое это время вошедший в департамент чиновник (не помню имени его) сказал: «Ах, Алексей Дмитриевич, какой ужас я видел, проходя мимо дома графа Растопчина, которого двор был полон людьми, большею частью пьяными, кричавшими, чтоб шел он на Три Горы предводительствовать ими к отражению неприятеля от Москвы. Вскоре (продолжал чиновник) на такой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: «Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником». И тут представлен ему несчастный купеческий сын 20 лет, Верещагин, приведенный уже с утра из временной тюрьмы (ямы), в тулупе на лисьем меху, и Растопчин, взяв его за руку, вскричал народу: «Вот изменник! От него погибает Москва!» Несчастный Верещагин, бледный, только успел громко сказать: «Грех вашему сиятельству будет!» Растопчин махнул рукою, и стоявший близ Верещагина ординарец графа по имени Бурдаев (ныне он в Москве полицейский чиновник, квартальным надзирателем) ударил его саблею в лицо. Несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскать по улицам. Сам же граф Растопчин, воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках»[58]58
Последний день, 2 сентября, проведенный Ростопчиным в Москве, перед ее сдачей французской армии, ознаменован событием, наложившим свой трагический отпечаток на всю последующую биографию графа. Утром он находился в своем доме на Большой Лубянке, пределами которого, похоже, и ограничивалась в тот день его власть. На улице собралась огромная, возбужденная алкоголем и вседозволенностью толпа из представителей самых низших слоев общества. Услышав все громче раздававшиеся крики толпы, чтобы Ростопчин немедленно вел их на Три горы (а некоторые и вовсе кричали: «Федька – предатель, мы до него доберемся!»), он вышел на крыльцо и приказал привезти арестованных купеческого сына Михаила Верещагина и учителя фехтования француза Мутона. Ростопчин так описывает произошедшее: «Обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова… Обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». В рассказах очевидцев есть и другие свидетельства, показывающие, что первый удар саблей нанес сам Ростопчин. Очевидец вспоминал: «Поутру 2-го числа, когда отворили тюрьмы, наш народ, взяв Верещагина, привезали за ноги и так головою по мостовой влачили до Тверской и противу дому главнокомандующего убили тирански». П. Бартенев передает рассказ участника дальнейших событий: «Волоча труп, толпа спустилась вниз по Кузнецкому мосту, повернула вправо на Петровку, потом по Столешникову переулку, на Тверскую, оттуда на рынок, и, наконец, тело было брошено за ограду небольшой церкви, позади Кузнецкого моста, где и было похоронено. Когда Москва опять поднялась из развалин, городское начальство решило провести новую улицу – теперешнюю Софийку; церковь эта была снесена, и нужно было также перенести останки, находившиеся на церковном дворе, замененном улицею. Тело Верещагина найдено почти нетронутым, в чем нет ничего удивительного по качеству тамошней почвы. Но народ умилился этим, и многие считали этого несчастного мучеником. Начальство покончило с этим, благоразумно распорядившись, чтобы печальные останки убрали оттуда; и больше об этом не говорили». Как бы там ни было, Ростопчин не имел полномочий убивать Верещагина, т. к. того, согласно приговору магистрата от 17 июля 1812 г., следовало подвергнуть наказанию кнутом и выслать затем в Нерчинск. Верещагин по какой-то причине оставался в московской тюрьме и не был эвакуирован вместе с другими заключенными. Не исключено, что Ростопчин заранее рассчитывал использовать его в самый последний момент – отдать Верещагина на растерзание толпе, пожертвовав им ради своего спасения. В самом деле, как Верещагин и Мутон оказались утром 2 сентября в доме Ростопчина? Значит, он заранее приказал их туда доставить.
[Закрыть].
Слушая чиновника, рассказывавшего сие ужасное происшествие, я душевно страдал и, не продолжая более выговоров моих виновным моим чиновникам, приказал протоколисту Бородину делать журнал следующего содержания: «Так как я один целого присутствия Вотчиннаго Департамента составлять не могу, а потому и закрываю присутствие. Но как чиновники и приказнослужители сего департамента за истекший Август месяц не получали следуемого им жалованья, и Правительствующего Сената 6-го Департамента, от которого должен я требовать разрешения о выдаче оного, в Москве уже не находится: то и определяю выдать сие жалованье, кому сколько следует, а по раздаче оного выдать еще вперед за два месяца на собственную мою ответственность начальству». Подписав сей журнал, приказал я расходчику Рудакову вместе с экзекутором департамента Гириным и двумя чиновниками при них принести из кладовой ящик с ассигнациями, а медную монету в мешках перенести в присутственную камеру. Оставив кладовую не запертою уже, выдал я расходчику Рудакову нужную сумму для раздачи чиновникам и приказнослужителям, налицо состоящим по списку, определенное им жалованье за один только месяц истекший Августа.
Надобно знать, что я в личном ведении моем никакой суммы денег не имел, а находившаяся при Вотчинном Департаменте состояла под ведением 3-го члена департамента Иванова, который вчерашнего числа выехал из Москвы, не сдав оной никому; а также и секретарь при сей сумме находившийся, титулярный советник Воробьев (из господских людей) уехал из Москвы дней пять тому назад, как сказывал мне приказнослужитель, с ним вместе живший, не испрося, однако ж, ни от кого позволения. Сей денежной казны, при Вотчинном Департамете состоящей, 1-го Сентября свидетельства по обыкновению делаемо не было, потому что 1-е Сентября было Воскресенье, а более по смутным обстоятельствам.
Экзекутору департамента коллежскому асессору Гавриле Петровичу Гирину, осьмидесятилетнему старику, приказал я со всем его семейством перебраться в Вотчинной Департамент и находиться при мне. Он и вышел из департамента в свой дом, но я его уже более не видел.
Расходчик Рудаков раздавал жалованье чиновникам и приказнослужителям, а я пошел посмотреть, что делается в городе. На Лобном месте, что близ Кремлевских Спасских ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимой смрад оттого, что лавки москательного ряда были уже зажжены и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь. Тут, на Лобном месте, встретил я графа Дмитриева-Мамонова. Он был на коне и, увидя меня, соскочил с лошади и спросил: «Что ты тут делаешь, Бестужев? Неприятель входит уже в Москву!» Я отвечал: «Любезный граф! Я не имею особенного повеления оставить моего места, а самому собою нарушить присягу и, в духе труса, кинув на произвол судьбы архив Вотчиннаго Департамента, от неприятеля бежать не думаю быть в праве, а потому и остаюсь при своем месте; что будет, то и будет». – «Ну, прощай!», – сказал граф и, поцеловавшись со мною, примолвил: «Да сохранит тебя Господь Бог!» – и поехал.
Возвратившись в Вотчинной Департамент, я подписал многим чиновникам и приказнослужителям паспорты о свободном им выезде из Москвы; расходчик Рудаков еще продолжал раздачу жалованья. Было 3 часа пополудни, и я распустил чиновников и приказнослужителей по квартирам их, приказав часа через два возвратиться в Вотчинной Департамент, а оставил при себе одних только дежурных и дневальных.
Любопытствуя узнать, что делается на большой Арбатской улице, по которой, как я думал, неприятель должен входить (а он, напротив, вошел во все заставы, которые на стороне к городу Смоленску, то есть в Дорогомиловскую, Пресненскую, Тверскую, Миюзскую и другие), я взял с собою чиновника и вышел из Кремля. В сие время на Ивановской колокольне ударил колокол к вечерней молитве.
Лишь только я с чиновником вышли из Кремля, то встретили пьяного господского человека, у которого в одной руке было ружье со штыком, а в другой карабин. Сей человек был в самом безобразном виде и, покачиваясь то в ту, то в другую сторону, что-то бормотал про себя. Я, усмехнувшись, сказал бывшему со мною чиновнику довольно громко: «Вот видишь, что значит безначалие», и отошел уже от сего пьяного несколько шагов, как кинул он в меня ружье со штыком, которым, слава Богу, не попал, но след за оным кинул и карабин, которым ушиб меня крепко в ногу. Почувствовав чрезвычайную боль в ноге, я воротился и кое-как дотащился до Вотчинного Департамента.
В 4 часа пополудни пушечные выстрелы холостыми зарядами по Арбатской и другим улицам возвестили вход неприятеля в Московские заставы. Я считал выстрелы, их было 18. Звон на Ивановской колокольне утих. Вскоре Троицкие ворота в Кремле, которые были наглухо заколочены, и только одна калитка для проходу оставлена, выломлены, и несколько Польских уланов въехало в Кремль через оные[59]59
По этому поводу П. Бартенев весьма остроумно замечает: «И так Польские уланы первые вошли в наш Кремль. Может быть, в числе их были прямые потомки тех Поляков, которые двести лет назад хозяйничали в Московском Кремле. Тот же Савка, но в другой шапке».
[Закрыть]. Место это из окон Вотчиннаго Департамента видно, ибо некоторые окна прямо против Троицких ворот. Я вскричал: «Верно, это неприятель!» – «Э, нет!» – отвечал мой знакомой, пришедший в департамент со мною проститься; «это наш арьергард отступающий». Но увидели мы, что въехавшие уланы стали рубить стоящих у арсенала нескольких человек с оружием, которое они из онаго только что взяли, и уже человек десять пали окровавленные, а остальные, отбросив оружие и став на колени, просили помилования. Уланы сошли с коней своих, отбили приклады у ружей, и без того к употреблению не годящихся, забрали людей и засадили их в новостроющуюся Оружейную Палату. Я запер вход и выход в Вотчинной Департамент, взял ключи к себе и приставил к дверям к каждой по одному инвалиду из служащих при департаменте, приказав тотчас уведомить меня, коль скоро кто будет стучаться.
Вскоре за передовыми Польскими уланами стала входить и неприятельская конница. Впереди ехал генерал, и музыка гремела. Когда сие войско входило в Кремль, то на стенных часах, которые в департаменте, показывало 4 Ѕ часа. Это войско входило в Троицкие и Боровицкие ворота, проходило мимо Сенатского здания и вышло в Китай-город чрез Спасские ворота; шествие этой конницы продолжалось до глубоких сумерек беспрерывно. Ввезена в Кремль пушка и сделан выстрел к Никольским воротам холостым зарядом; вероятно, сей выстрел служил сигналом.
Один из инвалидных солдат, которых я поставил у входа дверей в департамент, пришел ко мне и сказал, что кто-то стучится крепко в двери. Я отпер. Это были люди мои, которые оставались на квартире. Они сказали, что неприятель овладел уже совершенно Москвою, и что в дом, в котором я жил, взошло около 40 человек, но что им никакой обиды сделано не было. Когда стало смеркаться, то пламя зажженного утром москательного ряда осветило комнаты департамента так, что никакой надобности не было в свечах. Круглый в Сенатском здании двор занят неприятельскими солдатами, и видно было из окон департамента, что несколько человек бегали с огнем по комнатам, в которых присутствовали сенаторы, выкидывали столы и стулья на двор, для бивак своих. Хотя ночь эта и была ужасная ночь для меня, но, слава Богу, никто из неприятелей не входил в Вотчинной Департамент, и как я сам, так и все бывшие при мне оставались спокойны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































