Текст книги "Брат и сестра (сборник)"
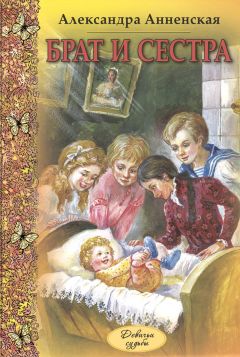
Автор книги: Александра Анненская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Глава III
Различие характеров
Мы нарочно так подробно описали первый день жизни сирот в доме их родственника, потому что этот один день может дать полное понятие о судьбе, ожидавшей их. Не только Маша, но даже маленький Федя сразу поняли, как неприятна будет эта судьба. Трудно было найти семейство, где домашняя жизнь была бы устроена хуже, чем у Григория Матвеевича. Сам Григорий Матвеевич никогда не думал о том, чтобы доставить своим домашним сколько-нибудь счастья;
он хлопотал об одном только: как бы самому не терпеть отказа во всех своих прихотях да роскошнее принимать гостей, для которых раза три-четыре в год открывались парадные гостиные его дома; до остального ему не было дела. Анна Михайловна, кроткая, добрая, но слабая, болезненная женщина, страдала от грубости мужа, от недостатков детей, но не имела сил что-либо изменить в своем положении.
Всем в доме управляла Глафира Петровна, хитрая, злая женщина, успевшая лестью и угодливостью до того заслужить расположение своего двоюродного брата, что он на все глядел ее глазами. Каждое утро являлась она в его кабинет с донесениями обо всем, что происходило в доме накануне, и в этих донесениях худо приходилось всякому, кто осмеливался оказать ей непочтение или неповиновение. Она не щадила даже Анны Михайловны и детей, и им нередко приходилось подвергаться грубым проявлениям гнева Григория Матвеевича, не подозревая причины этого гнева, так как Глафира Петровна никогда не сознавалась в своих наговорах.
Одно только существо в целом мире искренне любила злая женщина: это был Володя. После рождения старшего сына Анна Михайловна была тяжело больна, и мальчика отдали на попечение тетки. Глафира Петровна рассказывала, что он родился необыкновенно слабым, болезненным существом и только благодаря ее заботам остался жив. Вероятно, вследствие этих забот она привязалась к своему воспитаннику и сильно баловала его. Анне Михайловне она совсем не позволяла вмешиваться в воспитание мальчика.
– Что с того, что вы его мать, – отвечала она на ее кроткие заявления. – Не вы с ним нянчились, а я, он скорее мне обязан жизнью, чем вам!
И при всяком удобном случае восстанавливала ребенка против матери.
Володя был от природы мальчик незлой, но испорченный баловством тетки и дурным примером отца. Видя, как грубо Григорий Матвеевич обращается со всеми окружающими, он так же был груб к тем, кого считал ниже и слабее себя. Привыкнув к тому, что никто в доме не слушался Анны Михайловны, он и сам не обращал на нее никакого внимания; даже с теткой, действительно любившей его, он часто был очень дерзок, зная, что она готова все простить ему.
Особенно часто не ладил он со своим младшим братом Левой. Леву вообще все в доме считали мальчиком злым, упрямым, и действительно, он всегда выглядел угрюмым, надутым, всегда старался всякому сделать какую-нибудь неприятность. Бедный ребенок не был виноват в своих недостатках. Ему не посчастливилось найти себе такую сильную покровительницу, какой была для Володи Глафира Петровна. Он вырос на руках матери, которая готова была отдать жизнь за своего любимого сына, но не имела достаточно силы, чтобы защитить его от тех обид и несправедливостей, какие ему пришлось переносить. Глафира Петровна боялась, чтобы Григорий Матвеевич не полюбил своего второго сына больше старшего, и потому не упускала случая наговаривать ему на Леву, уверяя его, что мать невыносимо балует ребенка и непременно сделает из него негодяя, если он будет вполне предоставлен ей.
Вследствие этого Григорий Матвеевич начал муштровать бедного мальчика и строго наказывать его за разные воображаемые проступки, когда тот еще и не понимал, что значит наказание.
Ребенок невзлюбил отца, и Анне Михайловне стоило большого труда подводить его к Григорию Матвеевичу. Сделавшись старше, мальчик стал замечать, что его брату живется в доме гораздо лучше, чем ему: одет Володя всегда был чисто, даже нарядно; за обедом ему доставались более вкусные кусочки, и часто после обеда он грыз прянички или орехи; отец никогда не бил его, иногда только, рассердясь, высылал вон из комнаты, и тогда Глафира Петровна спешила утешить его лакомствами или подарками. Лева, напротив, должен был питаться объедками, ходить в старых обносках брата и за малейший проступок выносил от отца самые строгие наказания. Мать, правда, любила его, любила страстно, но ее ласки не утешали, а еще больше раздражали его. Когда она украдкой, таясь от мужа, от Глафиры Петровны и даже от прочих детей, пробиралась в темный уголок, где он сидел озлобленный, оскорбленный, часто даже избитый, с нежностью прижимала его к груди и осыпала поцелуями его голову, лицо и даже руки, он чувствовал не благодарность к ней, а досаду.
– Оставь меня, мама! – говорил он, вырываясь из ее объятий.
– Да отчего же оставить? – спрашивала бедная мать. – Разве ты меня не любишь, Лева? Разве ты не видишь, как мне тебя жаль?
– Если бы тебе было жаль, ты не позволяла бы папе бить меня!
– Да как же я могу не позволить, милый мой? Что же мне делать? – чуть не с отчаянием спрашивала Анна Михайловна.
– Не знаю, – угрюмо отвечал мальчик. – Ты большая, ты должна это знать, спроси у Глафиры Петровны, она-то, небось, не позволяет обижать Володю.
– И я бы рада не давать тебя в обиду, мое сокровище! Да что же мне делать, если я не могу!
– А не можешь, так оставь меня, ты мне не нужна! – и мальчик отворачивался от матери, а она, шатаясь от горя, с трудом добиралась до своей комнаты и там долго рыдала, уткнув голову в подушку.
Чем старше становился Лева, тем чаще происходили подобные разговоры между ним и матерью. Кончилось тем, что Анна Михайловна перестала ласкать его, и бедный мальчик рос совсем одинокий, заброшенный, ненавидя всех окружающих, стараясь всем без разбора мстить за те неприятности, какие терпел от отца и от тетки, делаясь с каждым днем все более злым и упрямым, все более заслуживая прозвание «волчонок», данное ему отцом.
Для Маши и Феди переход от мирной, спокойной жизни, какую они вели в доме матери, к тяжелой обстановке в доме дяди был слишком резок. В первые дни они как-то растерялись, пугливо приглядывались ко всему окружающему и не могли сообразить, как вести себя относительно родственников. Но скоро оказалось, что им нельзя жить у дяди так беззаботно, как они жили у матери: в семействе Григория Матвеевича всякий, даже маленький ребенок, должен был сам заботиться о себе, должен был сам хлопотать, как бы не попасть в беду, как бы защитить себя от нападений других. Здесь было мало слушаться старших, здесь надо было выбрать, кого из старших слушаться, так как требования Глафиры Петровны очень часто расходились с желаниями Анны Михайловны, и кроме того, она нередко требовала от детей несправедливых и нехороших поступков.
Раз утром, дня через три по приезде детей из Петербурга, Володя и Лева, выпив скорее прочих свою порцию чаю, стояли у окна и смотрели на пробегавших мимо них школьников. Остальные дети еще сидели за столом около Глафиры Петровны. Вдруг Володя каким-то неловким движением руки ткнул локтем в стекло, и оно треснуло. В эту самую минуту в комнату вошел Григорий Матвеевич и послал Глафиру Петровну куда-то по хозяйству.
– Не сметь выдавать Володю, – шепнула она Маше и Феде, быстро уходя исполнить приказание братца.
Григорий Матвеевич тотчас же заметил случившуюся беду.
– Это кто сделал? – обратился он к двум мальчикам, в смущении не успевшим отбежать от окна. – Говорите сейчас! Ты, что ли, Володька?
– Нет, папа, не я! – проговорил испуганным голосом мальчик.
– Так это ты, Волчонок?
– Неправда, не я! – мрачно процедил сквозь зубы Лева.
– Чего там не я! – закричал Григорий Матвеевич. – Кроме вас двух некому! Признавайтесь у меня тотчас! Ну, Володька, чего ты молчишь?
– Да это не я, папа, право, не я! – уверял мальчик.
– Значит ты, негодяй! – и Григорий Матвеевич уже замахнулся, чтобы ударить младшего сына, как вдруг маленькая ручка Маши удержала его руку.
– Дядя, – проговорила девочка дрожавшим от волнения голосом, – не трогайте Леву, не он разбил окно, а Володя.
– Володя? Так чего же ты отпираешься, дрянной мальчишка? – закричал Григорий Матвеевич, хватая за ухо старшего сына.
В эту секунду Глафира Петровна вернулась в комнату.
– Братец, простите его, он нечаянно, – тотчас же заступилась она за своего любимца. – Володичка, стань на колени, проси у папы прощенья!
Володя опустился на колени и прерывающимся голосом повторял:
– Прости, папа, прости!
Смирение сына, видимо, понравилось Григорию Матвеевичу.
– Ну, чего перепугался, дурак, – проговорил он значительно смягченным голосом, – не убью тебя, небось! На этот раз, так и быть, прощу, только смотри у меня, коли опять сшалишь что-нибудь, вдвое накажу, так и знай!
Он дал мальчику поцеловать руку в знак помилования и вышел вон из комнаты.
– Кто же это пожаловался на Володеньку? – обратилась к детям Глафира Петровна, как только дверь за ним закрылась.
– Это она! – плаксивым голосом ответил Володя, указывая на Машу.
– Дядя хотел бить Леву, – оправдывалась Маша, – а ведь Лева же не был виноват, я оттого и сказала.
– Вот нашлась заступница! – злобным голосом проворчала Глафира Петровна. – Ах ты негодная девчонка! Ведь я же нарочно сказала тебе, чтобы ты не смела жаловаться на Володеньку! Я тебе покажу, как меня не слушаться!
С этих пор Маша попала в немилость к Глафире Петровне. Девочка, привыкшая в доме матери вести себя хорошо, не делала ничего, заслуживающего наказания, но злая тетка постоянно находила предлог, чтобы придраться к ней и сделать ей строгое замечание: то она сидела не так, как следует, то глядела дерзко, то ничего не делала, то слишком много читала и тому подобное. Машу не особенно огорчали эти замечания. Она с первого взгляда невзлюбила Глафиру Петровну и всячески старалась держаться как можно дальше от нее.
Большую часть дня она проводила в своей полутемной комнатке вместе с Любой, сильно привязавшейся к ней. Бедная Любочка была слабенькая, нервная, болезненная девочка. Она боялась всего и всех в доме, никогда не играла с другими детьми и была в высшей степени рада, что ей можно спокойно сидеть подле Маши, перебирая свои тряпочки и не слыша ни криков, ни брани.
Самыми приятными часами для Маши были теперь те часы, когда к мальчикам приходил учитель, а она являлась со своими книжками в комнату Анны Михайловны под предлогом занятий с ней. На самом деле Анна Михайловна ничему не учила да и не могла научить ее. Она сама получила очень плохое образование и давно перезабыла почти все, чему училась в детстве.
По приказанию Григория Матвеевича она каждое утро давала детям уроки французского языка, но уроки эти были мучением для учительницы и не приносили никакой пользы ученикам. Анна Михайловна решительно не умела преподавать, и даже Маша и Федя, привыкшие у матери заниматься очень прилежно, не могли у нее ничему научиться; Володя же и Лева проводили все время урока в ссорах, драках или пустых разговорах. Иногда для водворения порядка являлась в комнату Глафира Петровна; она наказывала Леву, уводила к себе Володю и делала Анне Михайловне колкие замечания, приводившие в слезы бедную женщину.
Занятия с Машей пошли иначе. Обыкновенно девочка для виду раскладывала свои книги и тетради на столе, а сама усаживалась на маленькой скамеечке у ног тетки и читала ей что-нибудь из своих старых книг или просто разговаривала с ней. Маша рассказывала о своей прежней жизни, о матери, о петербургских знакомых, Анна Михайловна слушала ее с самым участливым вниманием и в свою очередь рассказывала ей о своем детстве, о том богатом доме, где она жила с отцом, обожавшим свою единственную дочь, о том беспомощном положении, в каком она осталась после смерти отца, и о том, как Григорий Матвеевич уговорил ее сделаться его женой, обещая любить и баловать ее не меньше отца, о том, как грустно и тяжело ей жить теперь и как ей хотелось бы поскорей умереть. Слушая ее тихие, грустные речи, Маша сама часто плакала и, прижимая к губам бледные, исхудалые руки бедной женщины, чувствовала к ней невыразимую жалость. Ей горячо хотелось хоть чем-нибудь облегчить неприятное положение тетки, она готова была за нее вступить в борьбу и с дядей, и с Глафирой Петровной, и со всеми в доме. Но Анна Михайловна убедительно просила ее не заступаться за себя, доказывая, что этим она еще больше испортит дело, и девочка скрепя сердце молчала, хотя глаза ее гневно блестели при всякой грубой выходке Григория Матвеевича, при всякой колкости Глафиры Петровны.
Не имея возможности заступаться за тетку, Маша старалась выказывать ей свое внимание разными мелкими услугами, к которым бедная женщина вовсе не привыкла. При входе в комнату Анны Михайловны она спешила подать ей стул, бросалась поднимать те вещи, которые та нечаянно роняла, следила за ней глазами и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы избавить ее от труда и предупредить ее желания.
– Федя! – воскликнула Маша, вбегая в комнату, где брат ее прилежно учил урок. – Брось книгу и помоги мне поискать ключи тети Анны, она их потеряла и ужасно беспокоится.
– Оставь, Маша, не ищи, – спокойным голосом ответил Федя, – тетя сама потеряла, сама и найдет.
– Неужели ты не хочешь помочь ей, Федя? – удивилась девочка равнодушию брата.
– Не хочу, да и тебе нечего помогать ей, разве ты не видишь, как тетя Глаша сердится за то, что ты все услуживаешь тете Анне.
– Так и пусть себе сердится! Мне все равно! Я ее не люблю, я люблю тетю Анну.
– А посмотри, Маша, какой у меня перочинный ножичек, хорош?
– Да, очень хорош. Откуда ты его взял?
– Мне вчера его подарила тетя Глаша. А сегодня она попросила у дяди, и он позволил нам с Володей покататься в его хорошеньких санках! Вот ты не любишь тети Глаши, зато тебе и приходится целый день сидеть в темной комнате, а я всюду буду ездить с Володей!
Мальчик отложил в сторону книгу и, не обращая более внимания на Машу, побежал к двоюродному брату, уже несколько раз кликавшему его.
Девочка задумалась. Она и раньше замечала, что Феде живется в доме гораздо лучше, чем ей. В первые дни Федя угождал всем окружающим из страха перед чужими, да к тому же еще неласковыми людьми. Но скоро он заметил, что невыгодно услуживать Леве или Анне Михайловне, а Глафире Петровне и Володе, напротив, очень выгодно. Володя, находя в нем покорного товарища во всех своих играх, делился с ним своими лакомствами и постоянно хвалил его тетке, а Глафира Петровна была очень довольна почтительностью мальчика и охотно награждала его за его уступчивость ее любимцу.
Таким образом, Федя пользовался почти всем наравне с Володей. Он мог играть и бегать в комнате Глафиры Петровны, мог во всякое время дня попросить поесть, когда был голоден, мог не только не бояться строгих наказаний Григория Матвеевича, но даже пользоваться некоторыми его милостями, вроде позволения покататься, и тому подобное.
«Я буду угождать тете Глаше, – рассуждал про себя мальчик. – Пусть она меня полюбит, как теперь любит Володю, даже больше, тогда я уже не стану слушаться Володи, я буду сам делать, что хочу, и дядя никогда не будет бранить меня, он и теперь говорит, что я хороший мальчик».
Маша не знала этих рассуждений, но ей было неприятно поведение брата, хотя она сама не могла сказать почему. Она радовалась, что Федю не бьют, не обижают, не морят голодом, но ей грустно было видеть его постоянную уступчивость Володе и, главное, его почтительную услужливость Глафире Петровне.
«Хорошо было бы, – мечтала иногда девочка, – если бы на свете и вправду жили добрые волшебницы, о которых пишут в сказках. Я готова была бы идти на край света, чтобы отыскать такую волшебницу и упросить ее превратить Григория Матвеевича и Глафиру Петровну в каких-нибудь гадких лесных зверей. Как бы хорошо было без них! Тетя Анна распоряжалась бы всем в доме и была бы здорова. Любочка не боялась бы никого, Леву мы бы ласкали так, что он полюбил бы нас, и Володя понемножку сделался бы добрым мальчиком. Только, может быть, волшебница захотела бы и меня превратить во что-нибудь? Ну что же, это ничего! Я согласилась бы быть какой угодно тварью, только бы тете Анне и всем было хорошо».
Глава IV
Семейный праздник
В последних числах декабря был день рождения Григория Матвеевича. День этот праздновался в семье Гурьевых с необыкновенной торжественностью. За неделю парадные комнаты начинали протапливаться и проветриваться, чехлы, покрывавшие шелковую мебель гостиных, снимались, мебель чистилась и выколачивалась, полы мылись и натирались воском, во всем доме шла суматоха непомерная. Маша и Федя, живя с матерью, привыкли часто видеть гостей. Но этих гостей принимали просто, без всяких приготовлений, стараясь занять их приятным разговором, а вовсе не поразить убранством комнат. В доме Григория Матвеевича, напротив, праздник Рождества прошел незаметно – так все были заняты мыслью и заботой о предстоящем торжестве.
Глафира Петровна целые дни то разъезжала за покупками, то бегала по всему дому, хлопая дверьми, браня прислугу за нерасторопность и отдавая тысячу приказаний; Григорий Матвеевич находил, что все делается не так, как следует, и сердился на все и на всех. Анна Михайловна ходила как потерянная из угла в угол, сильно суетилась, но, очевидно, без всякой пользы. Детям то приказывали помогать прислуге в уборке комнат, то, напротив, загоняли их в детскую и бранили за то, что они мешаются не в свое дело.
Вся эта возня до того надоела Маше, что она ушла вместе с Любочкой в свою комнату и целых два дня выходила оттуда только к обеду и к чаю. Она не заботилась даже о том, как одеться в торжественный день, и предоставила Глафире Петровне рыться в своих вещах и устроить ей туалет.
Федя отнесся к делу иначе. Сначала он старался помочь Глафире Петровне в ее хлопотах, но, видя, что услуги его принимаются неохотно, стал делать свои собственные приготовления к празднику. Он слыхал, что дети часто говорят наизусть и пишут на бумаге поздравительные стихотворения родителям и старшим родственникам ко дню их рождения или именин, и ему казалось кстати поднести подобное приветствие Григорию Матвеевичу. Долго перебирал он все свои и Володины книги, стараясь найти в них что-нибудь подходящее к случаю, и наконец в одной старой книге отыскал стихотворение под заглавием: «Старшему родственнику и благодетелю». Федя вовсе не считал Григория Матвеевича своим благодетелем и не чувствовал к нему ни той «нежной благодарности», ни того «глубокого уважения», о которых говорилось в стихотворении; но ничего более подходящего к случаю он не мог найти и потому решил воспользоваться хоть этим. Он твердо выучил наизусть довольно длинные и бестолковые стихи, затем выпросил у Глафиры Петровны лист почтовой бумаги и старательно, как мог красивее, переписал их. Никто не подозревал затеи мальчика: Володя и Лева, интересуясь возней в парадных гостиных, почти все время проводили там, Маша сидела в своей комнате, а старшим было не до него. Он сильно волновался, не зная, понравится ли дяде его выдумка, но не хотел рассказывать о ней даже сестре; ему почему-то казалось, что Маша не одобрит ее.
Наконец настал торжественный день. Гости должны были начать съезжаться к завтраку, но уже с раннего утра все комнаты были приведены в порядок, а Анна Михайловна и Глафира Петровна шуршали толстыми шелковыми платьями. Детей тщательно причесали и разодели. Федя надел хорошенький костюм, сшитый для него матерью; Володе Глафира Петровна позаботилась приготовить новенькую куртку, для Левы вычистили и починили старое платье брата. Девочек одели в белые кисейные платья с бантами на головах и у пояса, и бедная Любочка с утра дрожала при мысли о том, сколько чужих, незнакомых людей придется ей видеть в этот ужасный день.
В девять часов утра детям приказали идти в кабинет поздравлять Григория Матвеевича. Федя незаметно сунул в карман свое поздравление и с сильно бьющимся сердцем пошел за двоюродными братьями. Григорий Матвеевич был ради праздника веселее обыкновенного. Он с улыбкой поблагодарил детей за их поздравления и почти ласково поцеловал их. Последним подошел Федя.
– Позвольте мне, дядя… – проговорил мальчик смущенным голосом, подал свою бумагу и, став в позу, начал несколько робким голосом произносить приветственное стихотворение.
Григорий Матвеевич сначала удивился, затем стал с видимым удовольствием слушать Федю. Это ободрило мальчика, и он произнес последние строчки твердо, ясно, даже с чувством.
– Молодец! – закричал Григорий Матвеевич, когда он кончил. – Молодец! Кто это тебя выучил?
– Никто-с, дяденька, я сам-с.
– Неужели никто? И написал сам?.. Отлично! Не ожидал я этого от тебя!.. Осрамил вас, – обратился Григорий Матвеевич к своим сыновьям, – не подумали, небось, потешить отца? А?
Володя смущенно опустил голову.
– Лгун! – проговорил Лева, мрачно косясь на Федю. – Что ты сказал? – переспросил у мальчика Григорий Матвеевич, мрачно нахмурив брови.
– Что он лгун, – нимало не робея повторил Лева. – Называет вас благодетелем, чтобы подлизаться! Ведь он знает, что вы ему не благодетель.

– Дерзкий мальчишка! Ты, пожалуй, сегодня и при гостях этак же скажешь!
– А что мне ваши гости!
– Экий негодяй! Даже в такой день не почтил отца… Глафира Петровна! Глаша!
Глафира Петровна была всегда готова явиться на зов брата.
– Возьми ты, ради Бога, этого мальчишку, – обратился к ней Григорий Матвеевич, – запри его в какой-нибудь чулан на весь сегодняшний день, а то он осрамит нас при добрых людях.
Глафире Петровне поручение это было очень приятно; она тотчас же схватила за руку Леву и увлекла его за собой.
Когда мальчик исчез, лицо Григория Матвеевича снова прояснилось.
– Ну, племянник, за то, что ты уважил меня, – сказал он, ласково улыбаясь, Феде, – вот тебе от меня рубль серебром на гостинцы. Я тебя заставлю сегодня при гостях сказать твои стихи, смотри не осрамись!
И протянул ему рублевую бумажку.
– Нет, дяденька, я постараюсь! – проговорил Федя, с радостью и смущением поглядывая на свое неожиданное богатство.
– Федя, зачем ты это сделал? – сказала брату Маша, когда дети вышли из кабинета и в ожидании гостей отправились в свою комнату. – Зачем ты выучил эти глупые стихи? Из-за них наказали Леву!
– Да разве я виноват, что Лева такой дерзкий, – отозвался недовольным голосом Федя. – Я не хотел сделать ему зла, право, не хотел, Маша, я думал только, как бы угодить дяденьке!
– Так ты хоть бы попросил за Леву прощения, дядя доволен тобой и, может быть, для тебя простит его!
– Нет, он рассердится, я не стану просить, Маша, я боюсь!
Гости начали съезжаться в двенадцатом часу. В большой столовой внизу была накрыта роскошная закуска; детям приказали сойти туда же и вести себя хорошенько. Во время закуски никто не обращал на них внимания, но после, когда гости разместились в гостиных и занялись разговорами, им нельзя было дольше оставаться незамеченными.
Володя подошел к одному кружку охотников и с блестящими глазами прислушивался к рассказам о разных охотничьих подвигах. Любочка отвечала молчанием или слезами на ласки и расспросы дам, желавших поговорить с нею, и пользовалась всяким удобным случаем, чтобы спрятаться за кадки цветов или за двери. Маше в другое время было бы, пожалуй, приятно наблюдать за всей этой толпой незнакомых ей людей, ведь она была девочка не дикая и любила общество. Но в этот день ее мучила мысль о бедном Леве, запертом в темном чулане, и кроме того, ей было очень неприятно слышать, что Глафира Петровна говорила о ней гостям:
– Это бедная сиротка, братец взял ее к себе после смерти матери.
Ей тяжело было слышать, что она живет из милости у недоброго дяди, ее мучили сострадательные взгляды разных барынь. Несколько раз ей хотелось расплакаться или убежать наверх в свою комнату, но она боялась, что Глафира Петровна поднимет шум и осрамит ее при всех. Маша всеми силами старалась сдерживаться и с нетерпением ожидала конца этого мучительного дня.
Федя между тем наслаждался успехом своей выдумки приветствовать дядю стихами. Григорий Матвеевич заставил его несколько раз повторить эти стихи гостям, написанное им поздравление переходило из рук в руки, все хвалили его, все восхищались им.
– Ишь, какой умный мальчик! – заметил один старый генерал, ласково трепля его по щеке. – Надо вам его скорей в гимназию отдать, Григорий Матвеевич, а то дома обленится, пожалуй. Что за учение дома!
– Как же-с, непременно надо отдать… Вот осенью своего сына отдам, так и его уж вместе.
– Добрый вы человек, Григорий Матвеевич!
– Да ведь нельзя-с, не чужие они мне, дети родного брата.
И Григорий Матвеевич, чтобы показать свою доброту перед гостями, беспрестанно подзывал к себе Федю и ласково заговаривал с ним, а Федя, приписывая это внимание своим собственным заслугам, немало радовался и гордился ими.
К обеду приехало еще больше гостей. Детям позволено было остаться в столовой и даже обедать за общим столом. Большие, занятые едой и шумными разговорами, не обращали на них внимания, и Маше удалось спрятать под салфетку и затем осторожно опустить в карман два пирожка и кусок жаркого. Как только кончился обед, продолжавшийся более часу, и девочка заметила, что Глафира Петровна ушла разливать кофе, она тотчас юркнула вон из комнаты и побежала отыскивать Леву. Чуланов в доме было немало, и Маша не сразу нашла тот, в котором был заперт бедный мальчик. Левина тюрьма оказалась холодной пустой кладовкой на черной лестнице с маленьким отверстием под потолком, заменявшим окно.
– Лева, голубчик, – сказала Маша, подойдя к чулану, – хочешь есть? Я тебе принесла пирожков и жаркого.
– Лучше бы ты мне принесла чем-нибудь покрыться, а то я озяб как собака, – угрюмо ответил Лева.
– Я сейчас принесу, а пока бери вот это.
С помощью веревки и большой палки Маша просунула в окошечко чулана принесенную провизию, затем сбегала в свою комнату, притащила оттуда теплое одеяло и большой байковый платок и так же препроводила их узнику.
– Ну, что, лучше ли тебе теперь будет? – спросила она через несколько секунд, напрасно подождав от мальчика выражения благодарности или хоть удовольствия.
– Конечно, лучше! – отозвался Лева. – Хоть заснуть можно. И пирожки недурны, жаль только, что мало ты притащила, есть все же хочется.
– Я больше не могла, Лева.
– Ну, ладно.
Лева не сказал больше ни слова, и Маша, простояв еще несколько минут у дверей чулана и чувствуя, как холод проникает сквозь ее легкое платьице, вернулась в гостиную.
Этот день не остался без последствий ни для брата, ни для сестры. Григорий Матвеевич не забыл удовольствия, доставленного ему Федей, и стал сильно благоволить к нему.
– Это мальчик умный и, главное, благодарный, – заметил он Глафире Петровне, – его надо приласкать, он это будет чувствовать.
Глафира Петровна сначала несколько дулась на Федю за то, что он своим поздравлением затмил ее любимца, но, слыша похвалы ему от «братца», не осмелилась выказывать своего неудовольствия. Федя был по-прежнему почтителен к ней и услужлив к Володе, так что в скором времени окончательно примирил ее с собой.
– Вот, Маша, – сказал мальчик сестре через несколько дней после празднества, – ты говорила, зачем я учил стихи дяденьке, а видишь, как хорошо вышло: меня все похвалили, теперь и дядя, и тетя Глаша любят меня. Тебя бранят, ты целый век будешь сидеть в темной комнатке с Любочкой, а я хожу в гости вместе с Володей и осенью поступлю вместе с ним в гимназию!
Маша не нашлась, что ответить на эти слова брата. Она смутно чувствовала, что не может и не хочет подражать ему даже для того, чтобы улучшить свою жизнь, которая действительно была очень неприятна, но не могла решить, кто поступает лучше – она или брат. Для нее также день рождения Григория Матвеевича не остался без последствий. На следующее утро за чаем Лева шепнул ей:
– Пойдем со мной на чердак, я тебе там покажу одну вещь.
Маше очень интересно было посмотреть, что это за вещь лежит на чердаке, но ее особенно удивило приглашение Левы, который до тех пор почти никогда не говорил с ней. Как только можно было незаметно улизнуть из комнаты, она тотчас же бросилась к двери на чердак и не без некоторого волнения поднялась по крутой скрипучей лестнице.
Чердак представлял собой очень большое полутемное пространство, заваленное разным хламом, покрытое сором и паутиной. При входе стоял Лева; он взял Машу за руку и привел ее в угол, где на куче грязных тряпок лежали четверо маленьких недавно родившихся котят. Маше зверьки эти необыкновенно понравились, она села подле них, взяла их к себе на колени, гладила и целовала.
– Благодарю тебя, Лева, что ты показал их мне, – обратилась она к брату. – Я теперь буду всякий день приходить любоваться ими.
– А старая ведьма возьмет да и запрет тебя в чулан, как меня вчера! – отозвался Лева.
Маша поняла, кого он называет «ведьмой», и лицо ее омрачилось.
– Она очень злая, – проговорила девочка печально. – Если бы на свете были волшебницы, они, наверное, превратили бы ее в дикого зверя и выгнали в лес.
– Ну, я теперь пойду вниз, – довольно грубым голосом проговорил Лева, – нечего тут больше делать!
Маша последовала за ним по крутой лестнице и на прощание еще раз поблагодарила его.
С этих пор Лева уже не чуждался ее, как прежде. Он часто зазывал ее с собой на чердак, а иногда даже сам заходил в ее комнату, разговаривал с ней или еще охотнее слушал ее разговоры и рассказы. Леве хотелось разговаривать с одной только Машей, и он сердился на Любочку, которая постоянно сидела в комнате; раз даже так грубо оттолкнул бедную девочку, что та упала и пребольно ушиблась. Это возмутило Машу. Она подбежала к малютке, нежно обняла ее и затем, обращаясь к Леве со сверкающими от гнева глазами, воскликнула:
– Злой мальчик! Когда ты вырастешь большой, ты будешь точно такой, как твой отец, так же будешь всех мучить!
– Вовсе я не злой! – смущенно ответил Лева. – Я никогда не трогаю тех, кто мне не мешает, а она мне мешает; я хочу говорить с тобой, а она суется!
– Да где же ей быть, если ты выгонишь ее отсюда, – сказала Маша более мягким голосом. – Там ее беспрестанно бранят и пугают, смотри, какая она тихая и робкая, совсем не похожа на других детей! Мы с тобой сильнее и умнее ее, вот и будем вместе защищать ее от других, хочешь?
Лева ничего не ответилл, но с этих пор перестал грубо обращаться с Любой и даже несколько раз приносил ей разные щепочки и коробочки, служившие малютке игрушками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































