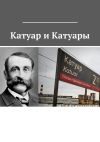Текст книги "Пепел и песок"
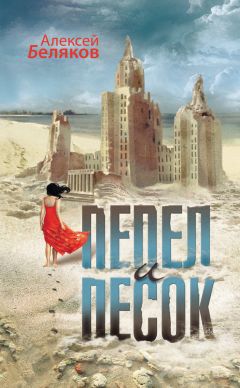
Автор книги: Алексей Беляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
13
Я возвращаюсь в свой просторный склеп. Причащаюсь глотком вина из бутылки, что стоит на полу и ложусь на тахту распятьем.
Вторая серия. Опять я заложник своего же сюжета. Своего же вензеля Ende. Йорген выбрал не те слова. Фабрика, люди, Вазген, гонорар. Пустое. Все утопить.
Я напишу эту серию. Не для Йоргена, не для Вазгена, не для людей. Мне хочется знать самому – что будет дальше? Хочется уничтожать поэпизодно героев, пока не останется самый достойный. Сам сценарист. И он рассмеется последним.
А если убить сценариста? Чем не сюжет? Что остается? Только песок.
Убить сценариста – это затея. Убить сценариста – имир исчезает.
Левая нога томительно ноет. То добрый знак. Я на правильном пути, хороша моя дорога.
Приподнимаю голову и сталкиваюсь взглядом с Лягарпом.
– Ты меня осуждаешь?
Молчит, тряпичная его душа. Молчит, пучеглазый талисман.
О чем я думал? Кого-то убить?
Снова стук. Это уже дурная пьеса. Дворник вернулся? Да, должен быть персонаж вот такой – без нагрузки, без смысла. Возникнет, поканючит, скажет пару глупостей – и зритель доволен. Обеспечен легкий смех, напряжение спало. После чего надо выходить на новый сюжетный виток. Дворник-комик. Ладно, открою. Пощекочем еще раз свою тяжелую печень. И речь начнем за такт. Пока дверь не открыта. Ход древний, но честный.
– Что теперь хочешь купить? Славянского шкафа нет. Есть антикварный секре…
Пауза. Крупно мое лицо: глумливость сменяется страхом.
Бенки, Бенки, очнись, помоги! Я не справлюсь один. Подставь стальное плечо. Бенки, ты слышишь меня?
За дверью стоит Катуар. Еще раз – Катуар. Третий раз – Катуар.
И ее дантовский нос. Она в алом платье, руки голые, светится буква «А».
Здравствуй, Катуар. Здравствуй, нос. Здравствуй, «А». Вы все пришли. Вы выдержали испытание сюжетом. Теперь не упасть, не запутаться в мантии, не истлеть, не уйти сквозь песок.
– Извините, вы Марк?
Бенки, ты слышал, мой друг? Она меня не узнала! Но что тут странного? Тогда, в ресторане, я пил водку. Асейчас уже третий день пью белое вино. Я стал другим человеком.
– Вы Марк? Вы слышите? Почему вы так смотрите?
– Вы диалогистка?
– Я?
– Вы.
– А вы кого ждали?
– Вас.
– Значит, да. Я диалогистка.
– Как славно. И мы оба в алом, чудесная рифма.
– Мне почему-то кажется – я не вовремя. Я пойду.
– Вы как раз вовремя. Вовремя. Я чуть было не убил Марка.
ЗТМ.
Так, Бенки, для краткости мы в сценариях называем Затемнение, угасающий кадр.
14
В начале был пепел.
Вечером, двадцать один год назад, на школьном дворе, между двумя февральскими тополями мы с Карамзиным сжигаем историю.
Это четыре тома Н.К. Шильдера с хрустящими корешками – «Императоръ Александръ I».
Для этого в нашем подвале был найден удобный таз, где эмаль на дне откололась, образовав черный материк Еврарктику. Карамзин хохочет, из его треснувших губ вылетает тяжелый пар. Три тома уже казнены. Копченым прутом Карамзин переворачивает исчезающие страницы.
– Так этому Шильдеру и надо! Нечего писать историю.
– Ты не любишь историю?
– Я люблю только ту, которую придумываю сам. Почему за меня уже все сочинили? Я не просил никого!
Вижу сквозь бледный огонь лик Александра Первого на дрожащей гравюре. Александр преображается. Сперва он становится похож на соседа, мастера похмельной резьбы по дереву, потом на прощальный миг предстает в окладе пепельной бороды. И исчезает.
Карамзин легко бьет меня прутом по рукаву новой темно-синей куртки из вчерашнего магазина «Спорттовары», оставляя неизгладимый след. (Бабушка, готовься!)
– Но в последнем томе есть все-таки нечто, – произносит он.
– Что?
– На последней странице. Давай прочитаю.
– Прочитай.
Карамзин поднимает со снега тяжелую книгу, распахивает на ветру, подносит к пламени в тазу:
– Ах, как светит! Ну, слушай.
И, склонившись над приговоренным к сожжению Шильдером, он неторопливо читает:
«Нам еще остается сказать несколько слов о народных слухах, распространившихся по России в 1826 году; они были вызваны неожиданной кончиной Александра Первого в Таганроге и необычайными обстоятельствами, среди которых совершилось восшествие на престол императора Николая Павловича. Характерной особенностью всех этих разнообразных сказаний является то, что все они сходятся в одном – утверждении, что Император Александр не умер в Таганроге, что вместо него было похоронено подставное лицо, а сам он каким-то таинственным образом скрылся неизвестно куда.
Постепенно народные слухи 1825 года умолкли, и современные о них письменные следы покоились в различных архивах, как вдруг во второй половине настоящего столетия неожиданно и с новой силой воскресли старые, давно забытые народные сказания. На этот раз они сосредоточились на одном таинственном старце, появившемся в Сибири и умершем 20 января 1864 года, как полагают, 87 лет, в Томске. Личность этого отшельника, называющегося Федором Кузьмичом, вызвала даже к жизни официальную переписку о некоем старике, о котором ходят в народе ложные слухи. Легенда, распространившаяся из Томска по Сибири, а затем и по России, заключалась в том, что Федор Кузьмич есть не кто иной, как император Александр Павлович, скрывавшийся под именем этого старца и посвятивший себя служению Богу; затем независимо от устных преданий стали появляться печатные сведения о чудесах и предсказаниях таинственного отшельника, в 1891 году появилась в Петербурге специальная монография о жизни и подвигах старца Федора Кузьмича, пережившая несколько изданий».
Карамзин кашляет, сморщившись от монархического дыма. Облизывает губы.
– Так… Это пропустим… Как же чадит. И самый финал: «Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путем действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические вымыслы; во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвою для неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой служило бы искупление. В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот ”сфинкс, неразгаданный до гроба“, без сомнения представился бы самым трагическим лицом русской истории, и его тернистый жизненный путь увенчался бы небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости».
– Уф, устал. Все, в огонь! – И бросает последний том в страшный таз. – Как тебе? Федор Кузьмич! Царь превратился в бродягу. О, сюжет! Это я понимаю. Как весело, да? Что ты молчишь, бычок-песочник?
Он называет бычком-песочником меня. Назвал сразу, еще в первую встречу, когда возник из тени на мокрой простыне, что висела на тяжелой веревке посреди двора. (В тот же день случилось еще событие – взорвался ядерный реактор. Мне кажется, была связь между реактором и явлением Карамзина. Но не уверен.)
– Что ты молчишь?
– Этот старец…
– Что, понравилось?
– Да.
– Я не зря с тобою вожусь. Знаю, что вдруг может выйти толк.
Карамзин смотрит на меня глазами утопленника. Отгрызает опытным зубом левый ноготь и жует. Жует и смотрит. И произносит, гремя по тазу прутом:
– А хочешь развеселиться на всю жизнь?
– Хочу. А как?
– Ты станешь делать все то, что я тебе прикажу!
Школьный снег превращается в молочный коктейль из гастронома, что на улице Чехова. Коктейлем в блаженные дни запоя угощает нас папа Карамзина.
– Ты боишься, что ли? – Карамзин сплевывает в коктейль хитиновые останки.
– Я? Нет.
– Тогда клянись: будешь делать все, что я прикажу.
Самое ценное в коктейле – не выпить его раньше Карамзина.
– Нам по четырнадцать лет, – Карамзин стучит прутом по тазу. – В этом возрасте можно решить для себя все. И именно сегодня. Сейчас. В девятнадцать часов и тридцать шесть минут. Решай! Остается пять минут.
Карамзин сдвигает рукав черной куртки и показывает мне часы. Электронные часы, которые упали прямо к его ногам, когда он полгода назад пересчитывал трещины на асфальте у памятника Чехову. Карамзин говорил, что это подлинные часы Антона Павловича.
– Ты знаешь, какие были последние слова Чехова? – смеясь, спрашивает Карамзин. – Ich sterbe. По-немецки.
– Как? Хиштербе?
– Пусть будет так, если приятней. Хиштербе. Так что ты решаешь?
Его часы показывают 19:31.
15
Пусть мерцают эти цифры в зареве горящей истории, пока звучит мой голос за кадром.
Часы для Карамзина были самым праздным предметом: он ощущал время. Когда он только появился в нашем желтом дворе (отец, начальник поезда, был сюда переведен), мы думали, что Карамзин жульничает. Но жестокие опыты доказали – он действительно ощущает время, ошибаясь лишь в секундах. И еще он мог мгновенно ответить, какой день недели будет, скажем, 23 декабря 3065 года. Поэтому Карамзина вскоре даже перестали бить самые плохие парни двора Перун и Ярило.
Я любил Карамзина.
Моего отца, военного, отправили с миссией в Индию. Там, во время купания, на него напали акулы и растерзали. «Бедный, бедный Павлик», – произнесла бабушка, когда рассказывала мне об индийском походе отца. Мать не вынесла горя и уехала с сочувствующим англичанином в Лондон. Следы и запахи ее теряются среди магазинов Бейкер-стрит.
Бабушка вкусно готовила, громко говорила и под все чашки и тарелки обязательно выкладывала выцветшие тряпичные салфетки, словно они могли разбиться от соприкосновения со старой столешницей. Больше о ней нечего сказать. Не о столешнице – о бабушке.
Карамзин стал моим планетарием под одеялом. Ты знаешь, что это, Бенки? Надо накрыться старым шерстяным одеялом при дневном свете. Увидишь небо в алмазах.
Наши окна четвертых– и последних – этажей были напротив друг друга. Поэтому мы могли разговаривать, не спускаясь в чахлый дворик. Солнечные разговоры пресекала мать Карамзина: «Тебе пора принять, пойдем!» – и задергивала тюлевую занавеску. Что происходило за мучительными тюлевыми разводами, я никогда не мог разглядеть. Спросить самого Карамзина? Спросил, и он ответил: «Мама дает мне жидкий азот, иначе я распадусь».
Однажды Карамзин написал длинную поэму «Баллада об Амалии, старушке-врушке». Мне до сих пор кажется, что она была гениальная, но я не запомнил ни строчки, только гул, который остается после товарного поезда душной ночью.
Карамзин изобрел букву А, Которая Обозначала Иное, А Вовсе Не То, Что Все Думают. И он сочинял формулы. Наверно, издевался надо мной. Пользовался моей математической дистрофией. Он писал доказательства своих теорем в толстой тетради, вдавливая ручку в страницы – так, что оборотную сторону могли прочитать слепые. Если, конечно, слепых могла заинтересовать Теорема одной утопленницы или Теорема падающей пишущей машинки. Тетрадь Карамзин хранил в подвале их дома под диваном с потрескавшейся коричневой кожей.
Диван был архитектурной достопримечательностью двора. Трофей из роскошного Рейха. Мужественный лейтенант, который доставил диван из Мюнхена – для послевоенного счастья, – переоценил широту своего дверного проема. Коричневая кожаная чума покрыла бы пол-квартиры. Только подвал смог принять надменное животное. Там оно и дряхлело, не в силах выбраться из лабиринта водопроводных труб. Карамзин рассказывал мне, что именно на этом диване спал группенфюрер фон Люгнер с Брунгильдой. (Кто такая была эта Брунгильда?)
Я бы считал, что свою фамилию он тоже выдумал, но Карамзин предъявил мне паспорт пьяного отца, где так и было написано – Карамзин.
Добрый отец привозил Карамзину книги, которые скупал на развалах, – то «Занимательную физику» Перельмана, то сборник рассказов Борхеса, то «Дар» Набокова, то атлас «Грызуны СССР», то роман «Территория», не помню автора, но про геологов. Все их Карамзин читал очень быстро, сминая страницы и тихо посмеиваясь.
Наверно, мой друг был сумасшедший. Достаточно упомянуть, что спустя несколько лет, в день своего 18-летия, в переулке, где мы жили, в переулке под названием Вечность, Карамзин перережет себе вены, лежа на диване фон Люгнера.
А кроме Карамзина ничего интереснее в Таганроге не было.
До 19 часов 36 минут остается две минуты двенадцать секунд. Одиннадцать секунд…
16
Мы лежим с Катуар на полу, на расстеленной карте Аппенинского полуострова. Простыня на тахте так и остается залитой белой кровью Марка из бутылки итальянского вина. Я люблю итальянские вина. И Италию люблю, как сапожник – вкусный пирог, как пирожник – хороший сапог. (Почему, почему Христос был еврей по маме? Я бы поверил в него, если бы он был итальянцем.)
– А что это за блестящие штучки на секретере? – шепот Катуар достигает регистра ленцо-сопрано.
– Мои призы за сценарии. Не хватает лишь «Демиурга». Ты, диалогистка, не знаешь, как выглядят наши награды?
– Очень хочется курить, – смеется Катуар и встает.
На ее спине остается отпечаток кусочка Ломбардии. Она попросила постелить что-то, чтобы не портить такой прекрасный паркет. Я постелил мою райскую карту.
– Ты просто как мой Йорген, – отвечаю я и провожу нервным пальцем по ее позвоночнику. – Он тоже все время хочет курить.
– И с ним ты тоже трахаешься? – Катуар поворачивается.
– Нет. И перестань употреблять это слово. Тоже мне – диалогистка.
– Я вообще могу уйти.
– Нет, лучше кури. Кури.
Катуар приносит из прихожей одну тонкую сигарету. Делает круг, лаская паркет пятками, и улыбается:
– Ты меня чуть не убил. Два раза подряд. Интересно, родится ли у меня новый сюжет?
– От меня?
– Да. Я очень хочу сюжет от тебя! А что, зажигалки нет?
– Там, на кухне, где-то были спички. Кажется, рядом с плитой.
Катуар удаляется на пуантах, шуршит спичками и кричит с кухни:
– А зачем тебе спички, если ты не куришь?
– Для плиты, наверное.
– Она электрическая! – Катуар смеется. Слышно, как спички бесчувственно падают на мозаичный пол.
– Да? Какая неприятность…
– Так зачем?
– Роза говорит: в доме спички должны быть всегда под рукой.
– Роза? – Катуар выглядывает озабоченной Коломбиной, волосы свешиваются. – Кто это?
– Домработница.
– Молодая?
– Роза? Нет. Увядшая.
– Я сразу заметила, что у тебя подозрительно чисто на кухне и в ванной. Значит, Роза. А у меня на цветы аллергия. Может, у тебя еще и дети имеются?
– Нет. Только сюжеты.
– Минута десять секунд! – угрожает сквозь время на школьном дворе Карамзин.
17
Три года назад. Июль. Вагон электрички. Запах пионов и воблы.
Дочка дергает мою кожаную сумку фирмы «Хрен вам, а не лейбл!». Ремень сумки лихо скатывается с плеча и застревает в сгибе локтя. Я стою и держу перед липкими глазами книгу историка Буха «Старец». Дочка сидит рядом. Я дал ей свой телефон – поиграть. Лучший способ обрести недетский покой.
– Что тебе?
– А что такое…. Что такое… что такое «минет»?
– Что? Где ты это услышала?
– Я прочитала.
– Где?
– Тут.
Она предъявляет телефон, болтает ногой, задевая пластиковое ведро, что стоит между ног у бывшей женщины, которая сидит напротив и читает кроссворд. Яберу телефон – он стал тяжелей – и читаю: «А как Румина делает минет – это просто отдельный сюжет!»
– Послушай, дочь – это пишут мне, а не тебе. Зачем ты это читаешь?
– А кто, а кто пишет?
– Сам хотел бы узнать. Забудь, ты не видела этого. Не видела.
– Забыла. Ты придешь ко мне на день рождения?
– Куда?
– На день, на день рождения. Мне скоро семь лет.
– Уважаемые пассажиры, вашему вниманию предлагаются свежие газеты! «Ждать ли нам Депрессии?» – прогнозы экономистов. «Новый жук страшнее колорадского» – говорят ученые. «Я отвечаю за каждое слово!» – интервью с популярным сценаристом Марком Энде, автором сериала «Кровь блондинки-1» и «Кровь блондинки-2».
Спасибо, долговязый торговец. Мой дорогой, ненаглядный. Я не знал, что ответить дочери, ты отвлек ее. Он приближается, одет, как всегда, аккуратно: серые брюки, темно-коричневая куртка на молнии и черные полуботинки. Не штиблеты, не туфли, не шузы – именно полуботинки, дар русской природы.
– Вот, возьми! – протягиваю купюру с достоинством.
– Вам какую газету? – Он смотрит на купюру, бумажная душа.
– Никакую. Просто возьми.
– Сто рублей?
– Бери. Это честные деньги, сделанные на крови.
– Какой крови?
– Блондинки.
Торговец перестает шуршать газетами и пристально смотрит на меня. Мировая скорбь. Одна из газет не выдерживает, срывается из рук опрятного торговца и ложится на колени бывшей женщины. Та принимает ее как должное и спрашивает торговца:
– Скажите, а там есть фотография этого самого Марка Энде? Очень хотелось бы на него посмотреть.
Торговец выхватывает у вспотевшей женщины газету:
– Нет там фотографии. Только интервью.
Я смеюсь, выглядываю из-под газеты и подмигиваю торговцу своим черным глазом:
– А я, кстати, читаю о Старце.
– Ради бога, – Торговец, отклонившись и глядя на мою купюру со страхом и ненавистью, обходит меня. Еще два раза оглядывается. Нет, у дверей оглядывается в третий раз и с облегчением погружается в пучину тамбура. Я слежу, как за ним смыкается стальной занавес.
– Пап, что такое Катуар?
– А?
– Катуар.
– Не знаю. Чепуха какая-то.
– А я думаю, я думаю, я думаю, что Катуар – это имя прекрасной девушки.
– Очень хорошо. Играй в телефончик и… хотя, нет, не надо.
– А напиши… Напиши про нее… Напиши про нее сказку.
– Про кого?
– Про Прекрасную Катуар.
– Хорошо.
– А когда ты, когда ты напишешь?
– Скоро. Не пинай ведро, пожалуйста.
– А дедушка пишет про Венкедрофа.
– Бенкендорфа. Опять?
– Да. Он хороший?
– Отличный! Можно я почитаю?
– Да. Дедушка сказал, дедушка сказал, что, дедушка сказал, что…
– Ты можешь не повторять? Итак – дедушка сказал. Что?
– Что ты тоже… Что ты тоже писал про… Писал про него.
– Про Бенкендорфа? Писал.
– А кто он? Принц?
– Почти. Принц жандармов.
– Кого? Кого?
Пытаюсь вглядываться в строчки Буха, но теперь это уже бестолковая рябь. Розеттский камень раскололся от духоты. Бесит, бесит. Когда уже станция «Турист»? Как они пьют это теплое пиво в тамбуре? Зачем я взял с собой дочь? Доедет ли это колесо до Петушков? Хиштербе.
– Как, ты сказала, зовут эту девушку?
– Катуар.
– Ты сама придумала это имя?
– Нет, прочитала… Прочитала на станции. Это было ее название.
– А когда ты научилась читать?
– Меня дедушка научил. Еще год, еще год назад. А тебя кто?
– Меня? Не помню. Бабушка, наверное.
– А ты к ней, а ты к ней ездишь?
– Что?
– Ездишь? А я ее никогда не видела.
– Она умерла семь лет назад. Не пинай ведро. Не пинай.
Бывшая женщина опускает на колени кроссворд, поднимает на меня взгляд:
– Не подскажете – что такое….. Пять букв, первая М.
– Ой, нет… Мне сейчас не до букв.
– Прямо вертится на языке!
– А я знаю, я знаю слово на М! – дочь улыбается, загибает пальцы, шепчет – И там пять букв. Пап, можно я, можно я, можно я скажу? Только я не знаю, что это!
18
Последняя секунда. (Какой дьявольский нелинейный монтаж. Кто тут автор? Сломайте ему левую ногу!)
– Что ты решил? – Карамзин берет таз, откуда выскальзывает страждущий пепел.
Пепел покрывает мои ботинки, потом школьный двор, потом засыпает весь Таганрог. Карамзин легко сдувает его потрескавшимися губами:
– Что ты решил?
– Я боюсь вот так вот…
– Чего тебе бояться? Ты – еще просто никто.
– Почему?
– А кто ты?
– Не знаю.
– А я знаю – никто.
– А ты?
– Я? – Карамзин смеется, и на трещинах губ проступает кровь. – Я сотворю твой удивительный мир.
19
ИНТ. МОЯ КОМНАТА. НЫНЕШНЯЯ НОЧЬ.
Голоса звучат в полной темноте. Так спокойней.
– Марк, ты меня слышишь?
– Да, Катуар! Просто вспомнил кое-что.
– Я спросила – почему тебя назвали Марк?
– А как меня должны были назвать – Сашей?
– Не вижу в этом ничего плохого. Пушкина звали Саша.
– Несчастный.
– Почему несчастный?
– Слушай, прекратим этот гур-гур. Хочешь еще пару сюжетов расскажу?
– Потом. У тебя было много женщин?
– Уже ревнуешь?
– Да, я очень ревнива.
– Тогда скажи, почему к тебе лез с поцелуями в «Ефимыче» этот бесславный ублюдок?
– Какой ублюдок? Там не было ублюдков.
– Как же? Модный дизайнер Брюлович.
– Почему он ублюдок? Просто смешной. Про ампир мне рассказывал.
– Да, это он умеет. Он делал мне эту квартиру. Секретер и бюро заставил купить.
– Они тебе очень идут. Видишь, какой хороший дизайнер.
– Нет, поганый. Он лез к тебе с поцелуями.
– Ко мне много мужчин лезут с поцелуями.
– Потому что у тебя такие губы?
– Да, губы.
– И нос! Нос.
А теперь можно понемногу вводить изображение, освещать мою комнату. Катуар стоит напротив большого окна, силуэтом ко мне, ее левого плеча с литерой «А» почти касается шпиль Университета. Она курит, и искры вылетают в окно, сжигая все на своем пути.
Катуар оглядывает комнату, словно прозревает. Гипнотизирует лампочку над тахтой, что висит на нитке бледного провода:
– Почему Брюлович не сделал тебе люстру?
– Сделал. Огромную и хрустальную. Но это был кошмар.
Перебивка.
Марк застыл на тахте с открытым ртом, откуда торчит кровоточащая хрустальная подвеска. Марк мертв, глаза покрылись патиной. Люстра качается над ним, победно вызванивая мотив «Ах, Арлекино, Арлекино…».
– Ты просто сумасшедший!
Катуар смеется, склоняясь так, что волосы касаются дубового паркета. Руку с окурком она отбросила влево, как полупловец перед стартом.
– Почему сумасшедший? Я был уверен, что эта люстра грохнется на меня и раздавит. У меня головные боли начались из-за этого. К черту такой ампир!
– Тебе надо сделать абажур – легкий, невесомый. Безопасный.
– Да? Вряд ли Брюловича заинтересует такой дешевый проект. Скотина. Убийца.
– Перестань. Куда бросить окурок?
– В окно.
– Что это за плебейские замашки у тебя? С такой-то благородной мебелью.
Она подходит к моему бюро, где лежит наглухо заколоченный ноутбук (марки не дождетесь, размыть изображение!) и возвышается черная мраморная ваза с песком.
– А вот и чудесная пепельница! – Катуар собирается проткнуть сигаретой азовский песок.
– Нет! – Я вскакиваю, путаюсь в мантии. – Нет! Нельзя!
– Почему? Это же песок. Просто песок.
– Нет. Это не просто песок. Это нечто иное.
– Я же вижу – песок, – Катуар запускает руку, ворошит с наслаждением, смеется, вынимает ладонь и считает песчинки на пальцах. – Да, песок. Из него можно построить песочный замок. Если намочить.