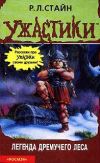Читать книгу "Легенда о Пустошке"

Автор книги: Алексей Доброхотов
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Может быть, все началось в тот день, когда решил жениться на Верке? На той, кого так и не смог по-настоящему полюбить, как непреклонную Надьку? Прожил с женой, считай, полвека под одной крышей, а душой так и не сросся. Обитает каждый сам по себе, своими радостями живет, хотя одними и теми же делами занимается. Застелили общую пастель, настругали трех сыновей, вырастили, а все впустую. Ни одного не осталось. Хотел большой дом иметь, не хуже Красной избы, построил, да что толку. Стоит посреди леса, некому на него смотреть, некому в нем жить, некому восторгаться.
Видимо, с того все и пошло… Переломил любовь через колено, вырвал Верку из рук главного районного коммуниста, на зло неуступчивой Надьке, вопреки своему сердцу, как в плен у врага взял. Думал, победителем стал. Но победы на той войне не бывает. Себя поломал, Верку с пути сбил, Надьку в сторону отбросил. Три судьбы за один раз перекрутил. Разве это не зло? Вот оно и вернулось. Разъело медленно изнутри душу, превратило в труху, как муравьи крепкую сердцевину дерева. Сделал на зло, да этим же злом и крестился. Перетянулась судьба удавкой, свернула сердце на сторону, одичала присохшая душа. Какая тут теперь радость? Откуда прийти счастью? Вот и получилось, что стек на обочину, на людях хорохорился, да только все зря. Пошла жизнь наперекосяк. Протекла мимо, и толку никакого.
А ведь могло бы все выйти иначе. Мог бы и он рядом с Надюхой встать, коммунизм строить, на пару, в одном строю. Заводной же был, энергичный, догадливый. Легко встал бы во главе звена или бригады механизаторов. Даже в Правление колхоза войти бы смог, а там, глядишь, и стать Председателем. Ловко у него получалось трактора чинить. Иногда прямо в поле. Понимал это дело. Чувствовал технику. Поникал в самую суть проблемы. Даже два рацпредложения сделал по улучшению прицепного механизма. Премию за это выдали. Гордился тем. А мог бы и дальше пойти, в институт поступить, на инженера выучиться. Душа к этому лежала, к познанию техники, механизации работ. Тянулись руки к железу. Сверкала мысль. Звала ввысь. Тянулась душа, как стебелек к солнцу. Человеком бы стал, настоящим, по сути своей, не по виду.
Но свернула судьба на сторону. Женился не на той. Пришлось деньгу зашибать, дом ставить, быт обустраивать, чтобы не хуже, чем у других, чтобы полна чаша на зависть соседям…
И теперь что? Для чего? Куда? Зачем? Не вернуть прошлого.
Хороший отвар дала знахарка. Сразу в мозгах прояснилось. Высветилось все, до чего сам доглядеться не сумел за долгие годы. Как в зеркале отразился весь, как есть, целиком, без прикрас. Голая сущность застыла в ожидании приговора. Чистая, не прикрытая, увеличенная до полной очевидности, самая что ни на есть главная.
Слабо он ее любил, если бросил. Не хватило дураку терпения, настойчивости, силы. Возомнил себя первым парнем на деревне. Ходил, словно петух. Вихрастый, задористый. Любовался собственным портретом на журнальной обложке. Возгордился своей статью, вот и растратил себя на фантики. Думал – одумается, прибежит, в колени бухнется. Ошибся. Только сильнее узел стянул. Из сердца клин клином не вышибают. Не чурбан деревянный. Напрасно любовь в девке сгубил. Засох в сердце корень. Скукожилась душа и осталась одна бездушная партийная книжка, и он блудливой, прожорливый кобель. Ушли годы, как вода в песок. Почему на войне не погиб? Ради чего в лагерях выстоял? Зачем столько лет землю пахал? Для кого дом ставил? Куда годы ушли? Ни колхоза, ни детей, ни счастья. Лишь лес темный кругом, да волки по ночам воют.
Взъерошил старик остатки седых волос на голове, стукнул кулаком о березовый ствол. Кто в этом виноват?
Вот батька знал ради чего на земле жил. Мать рассказывала, вставал до зари, ложился затемно. Никто не заставлял. Работал, как вол. За всем следил, до всего докапывался. Каждый день счастливый ходил. Особенно, когда мамку встретил. Хозяйство, как на дрожжах росло. Знал мужик, для чего хлеб сеет. Было за что спину гнуть.
И у него изначально крестьянская душа за землю болела. Насмотрелся на европейские порядки. Увидел как наши неправильно хозяйство ведут. Захотел вступиться, да осадили. Как немца под конвоем увели. Не вреди колхозному делу. Молчи в тряпку. В райкоме знают что, где и когда сажать надо, и как с такими умниками поступать следует. Хлебнул горя в лагерях. Еле жив остался.
Эх, как бы изначально техническим способом дело на земле вести. Малым числом, да большим умением, как это у них там заведено. И почему мы не такие? И чем мы хуже?
Вздохнул дед печально, представил себе, какой замечательной могла бы сложиться жизнь, если бы не Они… Если бы не заклеймили его вредителем, не отлучили бы от земли, не вселили страх в сердце, не превратили крестьянскую душу в продажную пролетарскую совесть. Продолжил бы дело отца. Стал бы хозяином. Имел бы хозяйство, большую семью, крепкий дом… Если бы не Они какой хорошей женой смогла бы стать Надька… Но околдовал ее Великий искуситель, запорошил девичьи мозги Мировой революцией, вынул из нее женское сердце, вложил в грудь партийную книжку и дал страшную власть над людьми. А он спасовал перед Ними, не распутал заклятье, не снял с сердца печать, уступил грубой силе, отошел в сторону, стал показушным, да ленивым. Ни к чему стало трудиться. Не за что, да и земля чужая.
Так и разлучили их навеки, развели по разные стороны, отделили друг от дружки колючим забором, опутали нелепыми сказками о Светлом будущем, замешанном на человеческих костях. Только для кого оно строилось, не понятно. Не иначе как для мертвецов.
Может от того и рвется к Нему, что, наконец, хочет войти в Его Светлое царство свободы? Или Он настолько крепко припек к её своему сердцу, что даже после смерти не хочет отпускать? Знать, велика сила Его. Не даром Он в Москве погребен. Целым монументом над площадью вздыбился. Не соперник ему старик. При жизни не смог отбить, не сможет и после смерти? Нашла она себе Великого утешителя, срослась с Ним душой и телом. Так стоит ли их разлучать? Надо ли мучить сердце разлукою? Не по– человечески это будет. Не по совести. Плохо они поступили. Нельзя было ее тут хоронить. Без Него, без Отрады души, вопреки последней ее воле. Зря он Эльку послушал. Пошел у баб на поводу. Хотя не сильно тогда и противился. Но зато теперь понял. Только что уже сделаешь? Поздно. В могиле лежит и крест стоит. Да и как ее было отвезти? Совершенно невозможно. Захотел бы, да не смог. Силы на это нет.
Сидел дед Афанасий на бережку, думал тяжкую думу и не находил ответов на мучительные вопросы. Одно оставалось несомненным: просветление пришло слишком поздно, жизнь прошла зря, виноват в этом он, Надежда погребена не правильно, исправить ничего невозможно. Сам он медленно превратился в скотину, и единственное что осталось, так это утопиться. Незачем больше на свете жить: ни радости, ни интереса.
«Надюхи нет. Я, итить твою макушку, утоплюсь. Баба моя издохнет от горя, – подумал он, – Жако, итить твою макушку. Вся скотина Тоське достанется… И Надьку жалко. Мучается Надька. Надо бы ее все же туда снести. Только вот как? Одному никак. Федьку дождусь. Может он что придумает. Он головастый. С Федькой легче будет. Снесем, а там, итить твою макушку, и помереть можно. Будет, кому в гроб положить».
* * *
– Надо бы нам, дед, с тобой пару бревен на мосту бросить, – предложил участковый, когда понурый Афанасий вернулся вечером к дому, – Могли бы сегодня управиться, да ты где-то весь день прятался. Замучили меня бабы твои, сил нет. Домой хочу. Засиделся я у вас тут. А как перебраться? Я когда сюда шел, бревно подо мной подломилось. Еле на берег выплыл. Опять в холодную воду лезть не хочу. Была бы у вас лодка, другое дело. Так лодки нет. Пойдем, поутру, мост сделаем.
– Почему не сделать? Пойдем сделаем, – согласился старик.
«Хорошее дело, участковый задумал, – подумал дед, прихлебывая горячие щи на кухне, – Давно, итить твою макушку, пора мост сделать. Пенсии старухам получить. Хлеба свежего купить. Газеты почитать. Сидим тут, как отрезанные. Совсем одичали».
Утром дружно налегли на работу. Срубили вдвоем с Василием Михайловичем пару сосен в лесу, распилили по мерке, через гнилые опоры бросили, скобами железными связали. Худо-бедно навели переправу. Один мужик вполне пройти может.
– Итить твою макушку, – оценил результат дед, – Не пройдут бабы, узко. Надо бы третье бревно бросить.
– Да, – почесал в затылке Василий Михайлович, – узковато.
– Бревна, итить твою макушку, скользкие, – добавил Афанасий, – Навернутся задами в воду.
Сказано сделано. Трудно первые два положить. Третье само пошло. На четвертое уже сил не хватило. Итак хорошо получилось. Навели мост.
– Дорога подсохнет, скажу, чтобы досок привезли, – сказал участковый, – Доски набьем, на мотоцикле переезжать можно будет.
Удивил милиционер деда. Мало того, что трудился ладно, себя не жалел, за толстый конец бревна первым хватался, так еще и о людях подумал. Переменилось в нем что-то. Даже лицом посветлел. На человека похож стал. Приятно с таким работать. И не только потому, что он как нормальный мужик практически все сам делал: пилил, рубил, таскал, а главным образом от того, что спокойно с ним рядом находиться.
Весь день трудились. Еле управились.
Василий Михайлович умылся в реке после работы, пожал Афанасию руку, набросил на плечи шинель, и направился через мосток на другую сторону. На середине остановился, достал из кармана наручники, покачал их на широкой ладони, словно взвешивая, и выбросил в воду. На другой берег перешел, махнул старику рукой на прощанье, крикнул: «Не пей больше, дед, самогона», – и пошел одиноко в вечерней заре по пустынной дороге к дому.
* * *
С хорошим настроением вернулся домой дед. Взошел на высокое крыльцо, обозрел большое хозяйство, скинул пропитанный потом ватник и сказал жене:
– Завтра, итить твою макушку, в Селки пойду, на почту. Может письма от Федьки есть. Пенсию получу. Скажи бабам. Кому чего в магазине купить?
– Сам скажи, – ответила на ходу супруга, – У меня корова не доена, свинья не кормлена. Ноги то у самого есть, – и исчезла с ведром в хлеву.
Что с дурной бабой делать? Пошел дед сам.
– Тоська, – позвал Афанасий с улицы бывшую доярку, – Переправу наладили. Завтра в магазин пойду. Чего тебе, итить твою макушку, купить? – сказал, когда она на крыльцо вышла, одетая, словно на выход, в сапогах и теплой куртке.
– Хлеба, соли, спичек, сала, пряников и вина, – с ходу выпалила та, практически не задумываясь.
– Итить твою макушку, вина то зачем? – удивился старик.
– Самогонку свою сам пей, – ответила Анастасия Павловна, – Вина хочу. Самогонка ваша травленная.
– Вина, так вина, – согласился дед, – Тебе какого белого или красного?
– И белого и красного, – ответила колхозная пенсионерка, – Пряники с медовой начинкой.
– Ладно. С медовой, так с медовой. Пойду у Эльки спрошу.
– Купи ей книжку про Гитлера, – пошутила бывшая доярка
– Зачем про Гитлера?
– Ей про Ленина уже надоело, – усмехнулась Анастасия Павловна, – Сам-то чего не зайдешь? Чайку, может, выпьешь? – кокетливо улыбнулась, приоткрыв дверь в дом.
– Некогда мне, итить твою макушку. Вечер уже. В другой раз, – смутился старик, – Идти куда собралась? Приоделась. Вместе пойдем, или как?
– Я до Красной избы. Вещи у меня там остались. Может там и переночую, – загадочно улыбнулась Тоська, – На всю ночь. Одна. Скучно будет… одной-то…
– Ты, Тоська, итить твою макушку, того, прости, что так вышло, – виновато произнес Афанасий, – Немного, не в себе был.
– Ладно, – махнула она рукой, – Бог простит. Скажи почтальону, чтобы пенсию скорее нес. Деньги кончились. На продукты денег не дам. Вы мне и так должны, – крикнула старику в след
– Скажу, – облегченно вздохнул дед.
Элеонора Григорьевна встретила старика настороженно. Узнав о цели визита, книги заказывать не стала. Попросила купить снотворного и что-нибудь успокаивающее, от нервов.
– Это зачем? – поинтересовался старик.
– Спать плохо стала, – сухо пояснила она.
– Так я же в Селки иду, не в район. В Селках это не купишь. Разве что на почте спросить, – озадаченно поскреб пятидневную щетину на щеке.
– Спроси, – сдержанно молвила бывшая учительница и добавила на прощанье, – Булки купи свежей. Сто лет не ела.
– Куплю, – пообещал старик, хотел было уйти, но вернулся и произнес, – Ты, Элька, того, зла на меня не держи. Прости, если можешь.
– Ступай. На больных зла не держат, – буркнула и ушла в дом.
Темнело. Марью Петровну посетить времени не хватило.
«И не пойду, – подумал дед, – От нее одни неприятности. Хотя, надо бы спросить. Человек все же. Ладно, утром, по дороге зайду. Она встает рано».
* * *
Не успел Афанасий утром в Селки уйти, хоть и поднялся раньше обычного, еще до рассвета. Долго, видимо, прособирался. Пока чая горячего в дорогу напился. Рубаху новую одел. Обул сапоги прочные резиновые, высокие. Вместительный заплечный мешок брезентовый от грязи отчистил. Составил длинный список покупок. Пока паспорт нашел, в карман сунул. Пока жена письмо сыну Федьке дописала, в конверт запечатала – солнце взошло, повисло над горизонтом во весь светлый свой диск. Только с крыльца спустился, Анастасия Павловна кубарем, вся растрепанная во двор вкатилась.
– Верка! Верка! – закричала на ходу, промчалась мимо старика, словно не замечая его, и снарядом влетела в дом. – Беда, Верка!
– Что случилось? – встрепенулась хозяйка, одевавшая в сенях свою красную куртку следуя проводить мужа.
– Покойница из могилы вышла, – выпалила на пороге запыхавшаяся Тоська.
– Как вышла? – открыла рот Вера Сергеевна.
– Натурально. Вчера. Ночью.
– Не может быть!
– Богом клянусь. Сама видела. Что б мне пусто было.
– Что за глупости, – произнес сзади Афанасий, из чистого любопытства вернувшийся вслед за гостей.
– Вчера вечером я в Красной избе осталась, – начала волнительный рассказ бывшая доярка, присаживаясь в сенях рядом с хозяйкой на длинную скамейку, – Вещи кое-какие собрать не успела. Думаю, дотемна соберу. А завозилась. Темно стало. Домой топать далеко. Волки. Сама знаешь. Решила остаться. Переночевать. Печку стопила. Ужин сготовила. Продукты там кое-какие остались. Не успел твой старик их слопать. Опять же с собой пару картофелин взяла. Печка опять же не дымит. Не в пример моей. Дом у Надюхи – сама знаешь. Хороший. Не моя лачужка. Вот я ужин сготовила, поела, выпила немного, сижу в горенке, вещи собираю, спать собираюсь. Ночь на дворе. Какой час не знаю. Часов нет. Думаю полночь. Нечисть всегда в полночь выползает. У меня свечка в стакане горит. Тут вижу, из спальни свет белый льется. Не как от свечи, больше на электрический похожий. Откуда в доме электричество, думаю. Никак в окно кто фонариком посветил. Заглядываю, а она на кровати сидит. Пишет что-то. «Надежда, ты, что ли? – спрашиваю, – Так, ты же померла». Она голову подняла, на меня посмотрела сердито и отвечает: «Что же вы волю мою не исполняете? Почему с Лениным меня не похоронили?» Я так и обомлела. Слова сказать не могу. Стою, как дура вкопанная. Спиной к косяку прислонилась. Ног под собой не чую. А она пальцем вот так погрозила, – рассказчица покачала перед носами замерших слушателей толстым указательным пальцем, – и говорит: «Письмо в Политбюро пишу. Чтобы вас всех расстреляли». Тут мне совсем худо стало.
– Господи, страсти какие, – схватилась за сердце Вера Сергеевна.
– И все. Ничего больше не помню. Под утро только в себя пришла. Голова болит, сил нету. Гляжу, лежу на полу, вся, простите меня, мокрая.
– От чего мокрая? – скептично усмехнулся дед, – Обмочилась, что ли?
– Все тебе знать надо. Не твоего ума дело, – зло отрезала Тоська, – Рассолу выпила. Мокрым полотенцем обтерлась. Переоделась, во что было, и бегом к вам. Чего делать-то будем? Есть у тебя что от головы, Верка?
– К Эльке пойдем, – предложила хозяйка, – Пусть она растолкует, что к чему.
– Приснилось, – махнул рукой Афанасий.
– Какое приснилось? Я сама видела! – горячо воскликнула Анастасия Павловна.
– Ну, я и говорю, пойдем. Чует мое сердце, не к добру это, – заключила Вера Сергеевна, – Таблетку сейчас найду. Дам. Мне помогает.
* * *
Элеонора Григорьевна ранних гостей встретила бледная, с посиневшими от волнения губами. С первого взгляда стало ясно, что ночь она провела отнюдь не спокойно.
– Чего вам? – сухо поинтересовалась бывшая учительница.
– Страсти то какие у нас творятся, знаешь? – начала издалека Вера Сергеевна.
– Что такое?
– Надежда из могилы вышла. Ночью по деревне ходит, – приглушенно сообщила самогонщица, – Тоську до смерти напугала. Расскажи, Тоська.
Анастасия Павловна еще раз коротко поведала свою жуткую историю.
– Слава Тебе, Господи, – облегченно перекрестилась бывшая материалистка, – Я думала, что с ума схожу. А это и в самом деле есть.
– Что есть? – поинтересовалась деловая самогонщица.
– То чего говорили, что нет, – ответила Элеонора Григорьевна, – Она ко мне уже второй раз приходила. Сегодня ночью тоже была.
– Да ты что?! Правда?! – воскликнула в один голос односельчанки.
– Ленина, говорит, мне дайте, и все тут. Ленина, говорит, хочу. Представляете? И руки ко мне тянет, будто душу вынуть хочет, – поделилась бывшая учительница.
– Господи, страсти какие, – дважды перекрестилась Вера Сергеевна.
– В первый раз я книги в нее бросила, сочинения ее любимого вождя. Она сразу ушла. А сегодня, ночью, сознание от страха потеряла. Она ко мне в туалете явилась. Я, простите, сижу, книжку про любовь читаю, вдруг дверь открывается и она на пороге стоит. Вся белая, прозрачная, злая. Смотрит на меня черными глазами и говорит: «Ленина мне отдай!» Я очнулась – ее уже нет. Я думала, у меня галлюцинации. Расстройство психики. Думала, что я на старости лет умом тронулась, а это – просто необъяснимое явление! – радостно заулыбалась Элеонора Григорьевна, – Это просто чудо какое-то! Ведь не могу же я одна видеть то, чего другие видеть не могут. А если другие видят тоже, что вижу и я, значит это уже не галлюцинация, не расстройства моей психики, а объективная реальность. Это научный факт! Это значит, что Оно есть! Значит, я заблуждалась. Вы понимаете? Заблуждалась. И не только я. Так ведь?
– Ага, – согласно кивнули пенсионерки.
– А если это так, то, следовательно, Оно есть. Оно существует. Оно есть на самом деле. А если Оно есть, то… что нам теперь с этим делать? – вопрос вытек как-то само собой и поставил бывшую учительницу в весьма затруднительное положение. Она не могла на него ответить, ибо впервые столкнулась с таким необъяснимым явлением природы, какое, по существу, разрушало все ее давно и окончательно сложившиеся представления об этом мире. Одно дело не замечать этого, ходить каждый день проторенной дорогой, отрицать то, что не могло установить ни одно научное сообщество. Другое – осознавать себя в мире, где перестали работать все ранее открытые физические законы. Не могут мертвые возвращаться. Не могут бестелесные субстанции говорить и двигаться. Не может человек жить после смерти. Но если это происходит, значит, права любая религия. Значит, есть Бог, долгим отрицанием которого занимались научные коммунисты. А если есть Бог, то… как же она до сих пор жила без Него?
Объяснить это все односельчанкам за пять минут, стоя перед ними на пороге в ночной сорочке с накинутым на плечи шерстяным платком, просто невозможно.
– И что нам теперь делать? – прервала затянувшуюся паузу Вера Сергеевна.
– Что нам теперь делать? – переспросила погруженная в задумчивость Элеонора Григорьевна.
– Да. Что? – подтвердила Анастасия Павловна.
– Не знаю, девочки. Я с этим первый раз сталкиваюсь, – призналась бывшая материалистка, – Может, Марья знает?
* * *
Совещание у Марьи Петровны состоялось волнительное, длинное. Призраки по деревни отродясь не бродили. Что с ними делать, никому неведомо. А тут еще такой, как сама Надежда Константиновна, собственной неугомонной персоной дома посещать стал. Невозможного требовать.
Вера Сергеевна, как самая по природе энергичная и пока еще непосредственно приведением не потревоженная, а потому объективная, поведала народной целительнице все подробности жутких видений своих односельчанок.
– Господи, – перекрестилась она в заключение своего рассказа, – За что нам такое наказание?
– Может наказание, может испытание, может искупление. Ни кто не знает. Мы ничего сделать не можем. Раз оно есть, живи с ним, – предположила Марья Петровна.
– Какое может быть нам искупление? Какие у нас могут быть грехи? – возразила Элеонора Григорьевна, – Прожили всю жизнь тихо. Никого не обижали. Никого не убили, никого не грабили. Блудом не занимались.
– Не нам об этом судить. Тихая жизнь без толка, хуже любого греха, – пояснила знахарка, – Ошибка – не большой грех, если душа Бога ищет. Плохо, конечно, грешить. Но живая душа, по глупости, ошибиться может. Потом кается и страдает. Ей это прощается, ибо Бог все видит. Но если саму душу от Бога прятать, то это все одно, что убивать ее. Душить. Против ее природы идти. Это душегубством называется.
– О, как у тебя, Марья, лихо выходит, – возмущенно воскликнула бывшая учительница, – Живешь, никого не трогаешь, законов не нарушаешь и еще хуже самого последнего убийцы оказываешься. Здорово. Вот не знала, что можно воровать, а после покаяться и все с рук сойдет. Давно бы какой-нибудь банк ограбила. Поставила бы после этого свечку, и все мне бы простилось.
– Все у вас образованных, не как у людей, – обижено проворчала Марья Петровна, – Все вам надо перевернуть. По-своему вывернуть. Будто слов не слышите. Будто не понимаете, о чем речь.
– Что это мы не понимаем? Поясни нам, непонятливым, – усмехнулась Элеонора Григорьевна.
– Прямо, не понимаешь? – скептически покачала головой знахарка, – Мне бояться нечего. Я женщина простая, не грамотная. Могу говорить свободно. И я, Элька, скажу. Если ты захочешь услышать, то услышишь. Никакие слова не помешают. Потому как слова только путают. Словами объяснить сложно. Ученых слов я не знаю. Говорю простыми. И эти слова сердцем услышать надо. Потому как правда из сердце выходит. Ухом одну ложь слышишь. А ты сердцем слушай. Открой его. Научись слушать. Освободи сердце от шелухи. А то спрятали его за словами. Завесили наукой. Придумали забот разных. Обросли жадностью, запретами, мелочами. В панцире ваше сердце. Захочешь открыть, не достучишься. И так закрыли, что душа в нем задыхается. Кричит, внутри скорлупы бьется. Только кто же ее слышит?
– Ну, завелась опять: душа, душа, – не выдержала Элеонора Григорьевна, – Да кто ее душу твою видел? Где она обитает? Где прячется? Сколько медики мертвых тел не поперевскрывали, нигде никакой души не нашли.
– Ты Надежду два раза видела? – спросила Марья Петровна, – Это и есть душа. Не вся конечно, но душа. А тело, как ватник, что вон на крюке висит. Сколько не рви его, человека не сыщешь. Вышел. Что толку его там доискиваться?
– И в чем мы, по-твоему, провинились, что она нам во искупление послана? – наседала бывшая учительница.
– Я не говорила – провинились, – уклонилась знахарка, – Я про душу сказывала. Про то, что слышать ее надо. Станешь слушать, правда тебе и откроется.
– О чем правда?
– О том, как жить. Что делать, – пояснила Марья Петровна, – Если не знать этого, то и жизнь невесть как пройдет. Как тихо ни живи, все зря получится. Одна бессмыслица. Станешь ходить неприкаянно. Хвататься за все подряд. А что не сделаешь, выйдет бездушно. Мертво. Холодно. Это и есть душегубство. Большой грех. Потому, как за тихой жизнью душа помирает. У бездушного человека жизнь безрадостная. Тишина и человека губит, и людей, что живут рядом. Вот как.
– Что же мы, по-твоему, бессмысленно жизнь прожили? За это нам теперь наказание? – уточнила Элеонора Григорьевна.
– Разве я так сказала? – ответила знахарка, – Я про это ничего не знаю. Про это каждый сам ответ держит. Зря жизнь прожил или не зря. Достиг цели или не достиг. Исполнил желание души или нет. Дело благое сделал, или нет. Сотворил на Земле что или не оставил никакого следа. Не я судья. Нечего меня спрашивать. Себя спросите.
– Ладно. Лирика это все. Пустые разговоры, – сделала общий вывод бывшая учительница, – Что нам с Надеждой, скажи, делать?
– Да, – поддержала Вера Сергеевна, которую эти длинные разговоры явно утомили, – Как от Надежды избавиться?
– Я же говорила: оставьте ее пока, – упрекнула односельчан знахарка, – Поспешили похоронить, теперь она не успокоится. Ходить будет, пока все, как она хочет, не сделается.
– Что же нам обратно ее выкапывать? – испугалась самогонщица.
– Не знаю, – развела руками целительница, – Сами решайте: будете тревожить, или не будете. Я с маетными душами дел не имею. Помочь не могу. Они сами ходят. Одно скажу, если она осталась, значит, держит ее что-то. Не пускает. Если она Этого просит, значит без Него не уйдет, пока Его не получит. Не успокоится. Будет ходить, пока всех не замучает. У нее времени много. Время у нее длинное. Она может лет сто ходить. Ходят и более. Каждую ночь. Особенно на большую луну.
– Что же ее теперь в Москву везти, что ли? – спала с лица вера Сергеевна.
– Не пустят ее в Москву, – убежденно выдала Элеонора Григорьевна, – Если каждый начнет по своему желанию на Красной Площади захораниваться, что же это у нас получится? Не Столица, а сплошное кладбище.
– Всяких не пустят, а Надежду пустят, – не менее убежденно возразила Анастасия Павловна, – Таких как наша Надежда, нет больше.
– Это чем же она так уникальна? – поинтересовалась бывшая учительница.
– Она была истинным коммунистом, – ответила ей бывшая доярка.
– Этого добра в Советском Союзе было – хоть отбавляй. Это не аргумент, – отмахнулась Элеонора Григорьевна.
– Нет, аргумент. Таких, как она, нет больше, и никогда не было. Ведь все что делали? Говорили одно, а все под себя гребли. А она что? Она, что говорила, то и делала. Потому ей и прохода не дали. Туда, – показала Тоська пальцем вверх, то ли в Небо, то ли ниже, на чердак, – Потому что за народ была. Как Ленин. Как народ жила. Погляди, что после нее осталось? Ничего. Ничего за жизнь свою не нажила. Не наворовала миллионов, как другие. Хотя все помнят, работала весь день, без выходных. Нет больше таких, как Надежда.
– Это еще не повод в мавзолей ее класть. Подумаешь, не наворовала. Сколько таких, которые не наворовали? Считай половина России. Все в один мавзолей не влезут, – возразила бывшая учительница.
– А я считаю, что повод. Вот ты, имея возможность своровать, взяла бы? – сощурила на спорщицу глаз бывшая доярка.
– Нет, – уверенно ответила та.
– Врешь. Прихапала бы, и не задумалась.
– Я?
– Ты, – разошлась Анастасия Павловна, – Кто по чужим домам шарил, книжки там разные собирал? Я скажешь?
– Так они брошены были, – возмутилась Элеонора Григорьевна, – Ничьи.
– Откуда ты знаешь, что ничьи? Может они оставленные. Специально. На сохранение. На них написано, что ничьи? Дом закрыли, не значит бросили. Нет, надо было открыть. Отперла и книжки все сперла. Как это называется? А может и еще что прихватила, не только книжки!
– Да ты сама, оставленные дома чистила, как помелом мела! – воскликнула возмущенная бывшая учительница.
– Обо мне речи нет, – остановила ее бывшая доярка, – Я дело другое. Я баба простая. О себе не говорю. Я вон даже в тюрьме сидела. Ты не сидела? А я сидела. Но вот Надежда по чужим домам не шарила. Даже дрова в леспромхозе на пенсию покупала. Не ходила по дворам промышлять. Даже зимой. Заборы с чужих участков не снимала, как некоторые, баньку топить. А могла бы? Могла. Вот я и говорю. Достойна она в мавзолее лежать. Потому как нет больше таких людей. Зря мы ее на нашем кладбище похоронили. Она человек российского масштаба.
– Ну, совсем вы со всех сторон меня заклевали, – возмутилась Элеонора Григорьевна, – Да делайте вы, что хотите. Хотите – выкапывайте, хотите – в Москву везите, только оставьте меня в покое. Что я вам кабинет министров за всех вопросы решать?
– Откопаем и повезем, – решительно заявила Анастасия Павловна.
– Как это повезем? Кто повезет? Мы что ли повезем? – воскликнула Вера Сергеевна.
– А кто? – вытаращила глаза Тоська.
– Пусть её партийные её товарищи возят. У них на это целая Партия есть. Партийные деньги в миллионах. Мы тут причем? – высказалась самогонщица, – У нас денег на это нет. У нас возить её некому. Мы на гроб еле наскребли.
– Вспомнила! Партия! Где ты слыхала про такую Партию? Нет больше такой Партии. Распалось давно Партия. Сгинула КПСС, – напомнила бывшая учительница, – Надо внимательнее, голубушка, следить за политическими процессами в стране. Тогда бы не оставалось больше неоправданных иллюзий. Теперь это наше дело. Деревенское. К нам она по ночам приходит. Нам и решать проблему. Их она ни о чем не просит. Некого просить. Никого не осталось. Она нас терзает.
– Что же нам тогда делать? Как ей этого Ленина дать, гадине? – расстроилась самогонщица.
– Придется везти, итить твою макушку, – тяжело вздохнул Афанасий.
– Правильно. Откопаем и повезем, – поддержала его бывшая доярка.
– Здравствуйте, проснулся, – оценила выступление мужа расстроенная супруга, – Тебя только здесь не хватало. Вылез со своим предложениями. Ты подумал, о чем говоришь? Как ты её повезешь? Куда? Это тебе не дохлого кота зарыть в огороде.
– Откопать откопаем. Дело не хитрое. Кто вот гроб понесет, итить твою макушку? – словно соглашаясь, добавил старик, – До Москвы далеко…
– Я не поеду, – решительно заявила бывшая учительница, – Стану я там позориться на старости лет.
– И мы не поедем, – присоединилась Вера Сергеевна, – Это же расходы какие… На кого хозяйство оставить? Кто корову кормить будет? Мы и так сильно потратились.
– Я тоже не поеду, – сбавила обороты Анастасия Павловна, – Страшно оно как то в Москву ехать…. Далеко…
– Вот и образовали команду, итить твою макушку, – заключил дед, – Я гроб один не стащу.
– Куда это ты намылился, черт лохматый, на старости лет? Здравствуйте, – сделала вывод супруга, – Я тебе покажу, один гроб стащу. Даже думать не смей. Везти он собрался. Команду сколачивает. Ишь удумал, черт лохматый! Никакой Москвы. Это их дело, партийное. Мы свое сделали. Дома сиди. Дома дел много.
– И чего мы тут тогда обсуждали? – робко напомнила Элеонора Григорьевна.
Односельчане посмотрели с тоской друг на друга и едва не разрыдались от безысходности. Ленина то в деревню тоже привезти невозможно. Кто ж его выдаст?
– Неужели так и будем жить с приведением? – расстроилась Вера Сергеевна, – Страшно то как, а?
– Ты ее еще не видела. Страшно – не то слово, – протянула Анастасия Павловна, – Мурашки по коже вот такие бегают, – показала свои пухлые кулачки, – Еле с головой справилась. Так заболела – сил нет. Ужас.