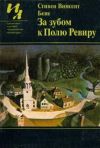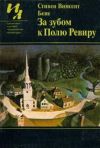Текст книги "Счастье в творчестве"

Автор книги: Алексей Еремин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Моление о воскрешении
О, Бог, к тебе обращаюсь, ибо больше не с кем разделить печаль. И друзьями я богат, и женой счастлив, но тебе доверю беду свою. Тебя молю, потому что только у тебя найду чуткость безмолвия. Только от тебя чуда жду. Ибо понимание родным сердцем твоей боли уже лживо. Ибо грех множить горе любимых. Ибо нет совета помочь мне, если сам в себе не нашёл его.
Как путеводная звезда пронзает мрак туч, открыв путь к жизни, так только чудо пронзит несчастье. Как свет мрак разорвёт чудесным озарением тоску, ибо нет уже душе спасения от болезней старости и смерти раньше тела.
С верой в тебя творили моё сознание, с верой в тебя питали добром и знаниями, как материнским молоком, с верой в тебя учили любви к красоте.
Но укажи, зачем мне красота души, что делать мне с ней в заключении жизни? В злоключениях однообразных дней тускнеет душа. В заточении силы души, нет им выхода, и как мышцы богатыря в больничной палате, тают они. Скоро сгинет в забытьи духовная краса.
В работе, в семье, в друзьях расточаются часы жизни, но отчего же не отворяют они счастья, отчего лишь мгновения радости, а душа всё суше, всё подлее?
Отчего ищу наслаждений, опасности, боли и рискую самым дорогим мне, семьёй и дружбой? Отчего сладострастие, преступные и опасные деяния влекут меня, хоть испытав их, всегда отвращаюсь от их бедности. Не от того ли, что волнение хоть как-то увлекает душу? Не от того ли, что волнения страсти, как наркотик, оживляют полумёртвую душу? Не от того ли, что это полуживой души предсмертные судороги в стремлении жить?
Нет, не ищу у тебя прощения, нет, не ищу у тебя оправдания.
Ищу понимания. Прошу чуда. Прошу, чтоб зажило сознание полной жизнью. Прошу, чтоб не пропали впустую богатства души.
Стон
Зачем богатство, когда не на что тратиться? Зачем всё было? Зачем радость познания предметов и слов, волнения глубоких чувств, вдохновение глубиной мысли и чувства искусства, зачем страдания смерти, зачем верность убеждениям, зачем величие души? Зачем яркость детства и юности?
Чтоб остыть и устать? Чтоб равнодушно проживать, презрительно оглядывая нищету обыденности? Чтоб воспитывать ребёнка, чтоб ходить за родителями, чтоб изредка восхититься шедевром?
Для ежедневной работы, для друзей и жены, для ребёнка, для загородного дома, для месяца отпуска, для покупок в магазинах, для поездок в автомобиле, для усталости, для еды и питья, для моей жизни лишние богатства духа.
Может быть, должен жить иначе? Может быть, живу не своей жизнью? Может быть, занял чужой путь? Может быть, я писатель и поэт, художник и музыкант, святой и подвижник, учёный и исследователь?
Но не мечтал быть не музыкантом ни святым. Но не изменял мечте, определяя свой путь. Но по любви выбрал женщину, по любви выбрал труд, по любви родил ребёнка.
Отчего же устал жить? Отчего раздражение к однообразию? Отчего нелюбовь к себе? Отчего растёт презрение, отчего растёт гордыня возвышенного над другими, отчего ненависть к этой гордыне?
От того боль и ненависть, от того скука и усталость, от того тоска, что лишние мои богатства, заложенные заботливыми родителями и умными учителями, возлюбленные мной. От того, что лишняя высокая душа. От того стон, что не на что тратить мне накопленное богатство, от того, что не зачем.
Потому остаётся только скучно жить, терпеливо ждать, пока не обесценятся богатства, пока станет непонятен и неощутим этот стон.
Хождение за хлебом
В морозное зимнее утро начиналось моё хождение. Со злостью, скопившейся в сердце от моей жизни, вышел за дверь. Мельчайшее событие, – необходимость одеться и идти, – способное вызвать лишь гримасу на лице, преобразилось в раздражение, словно крохотный камешек, павший с горы, загрохотал погребальным обвалом. Невинная просьба купить хлеб похоронила ощущения под яростью.
На улице секунды со скрипом умирали, и живые чувства медленно-медленно стали пробираться в жизнь. Морозный воздух, как стакан ледяной воды на летнем солнцепёке, обжёг горло. Влагу в носу мороз натянул тончайшей паутинкой между крылом ноздри и хрящом перегородки. От вздоха паутинка натянулась и порвалась, – ново и смешно.
Под жёсткой подошвой снег взвизгивал.
Как солнечный свет пропитывает глухие шторы, так холодный воздух пробирался сквозь одежду.
Вошёл в боковую аллею парка; словно по библейскому пути прошёл по узкой дорожке между двумя волнами снега. Половодье снега поднялось до трети деревьев, лежало покойным гладким озером.
С мохнатой ветки слетел ворон; просыпался дождик снега.
Золотая пыльца порхала.
Ворон опустился на масляное пятно солнца между морозными узорами теней и зашагал по нежной пенке, которой покрылся за утро слежавшийся снег, оставляя апельсиновые веточки следов.
Подошва сжала жалобно запищавший снег в узор.
Вокруг свершались чудеса, – я чувствовал своё тело чистым, как холодный сильный ветер после ливня, бодрым, как это морозное утро, сильным, будто не было преград для меня.
Все тяжёлые думы растворились, как растворяются на свету кадры фотоплёнки; ничего мрачного не осталось в сознании; было только счастье прекрасной жизни, от светлого зимнего дня, от полного чувства. Будто ночью кружила вьюга, а на рассвете снег опал под ноги и стало ясно.
У обочины в снежном гараже упокоилась машина. На её крыше снег слоистым пирогом.
Ботинки печатали деревни на стонущем снеге.
Снег хрустел и скрипел, словно ели ноги квашеную капусту.
По черному стеклу дороги ползала позёмка. Вздорный хозяин мучил слугу; ветер струил снег поперёк пути, гнал назад, опомнившись, посылал за мной.
Я шёл в радости и не подозревал, что уже совсем близко меня поджидает главное испытание пути. Беззаботно улыбался морозом стянутым в маску лицом. Повернул за угол дома… – и на меня из засады налетел ледяной ветер, пронзил насквозь тело. Резким толчком сбил дыхание. Крепким ударом выбил слезу. Началась битва, и через плотные ряды врагов я стал пробиваться к добыче. От жестоких морозных плетей перехватило дыхание, тело остыло, лицо заболело холодом, я защищал его перчаткой, но вместе с борьбой росла радость упоению битвой с зимой, и последние, самые студеные шаги, когда тело всё уже пропиталось холодом, дались легче.
Завернул за угол, как вошёл в парную.
На окне морозный узор – замёрзшие перышки прилипли к стеклу. Потянул за деревянную ручку двери – булочная выдохнула, отуманив стёкла очков, – шагнул внутрь – меня поглотил пышущий, душистый рот, свежо пахнущий хлебом. Теплый и мягкий, будто живой, кирпич чёрного хлеба лёг в протянутую руку. Ладонь легла на белый батон – уже остывший, но с ещё живым, не окоченевшим мягким телом. И пусть я не был голоден, но как не удержать руки, тянущейся к протянутой в приветствии руке, не мог удержаться чтоб не надкусить тёплую, хрустящую корочку чёрного хлеба, с мягкой пористой мякотью, которой коснулся холодный кончик носа, чтоб не повернуть голову, и не оторвать зубами крупный кусок, который то подставляя хрустящий бок, то нежнейшую мякоть, истаял во рту, чтоб не улыбнуться удовольствию жизни.
Ещё атаковал настойчиво ветер, ещё била метель с крыш, ещё падали с деревьев снежки, ещё таились пятна коварного льда под белым пухом, которым неосторожно доверилась подошва, но шаги скрипели секундами счастья.
Красота освежила равнодушную душу, как прохладная река грязное тело.
Шаги скрипели секундами белоснежного, хрустящего, скользкого, пушистого, искристого, небесного, чистого, солнечного, узорного, древесного, ветреного, морозного, бодрого счастья.
Так завершилось удивительное, полное радости и приключений, хождение. Но как только открылась дверь в дом, радость погасла, будто задёрнули глухими шторами солнечный день. Ослепили. Убили живое существо. Тоска вернулась и подсказала, что драгоценны чувства чуткой души, но мимолётны. Чувства способны рассеять тоску жизни, но не способны сиять звёздами. Красота их мгновенна. Засушенная временем радость проживёт в анабиозе и до смерти тела, будет и свежее счастье, но краткие радости души не переменят несчастной жизни, не преодолеют тоску.
Счастье впечатления не преодолеет несчастья жизни.
Житие Андрея Платонова
Как слон громоздится над прочими животными, как одинокая сосна высится над чистым полем, так Платонов возвышается над русской прозой двадцатого века. Но как мало кому в век промышленной цивилизации посчастливилось увидеть слона среди диких зверей, чистое поле с одинокой сосной, так мало кто постиг величие его прозы. Как не описать слепому краски рассвета, так не объяснить красоту его искусства. Однако, в меру скромных сил, опишу искусство его жизни. Жизни с её большими бедами и малыми радостями, удивительными чудесами и великими делами.
Родился Андрей у родителей бедных, порядочных, за год до наступления его века. Как многие дети жил он бедно, мало учился, рано повзрослел на мужской работе. С первых лет юности его душа искала воплощения в слове. В те годы случилась в России революция; бесправные восстали против правящих. Жестокая борьба и победа бедняков, таких как он, набатным эхом потрясла сознание; в чудовищные годы голода и холода, болезней и смертей, его дар очнулся из небытия.
Свершилось первое чудо его жизни.
Следующие мирные годы он работал инженером, ездил по стране, влюблялся в женщин, счастливо женился, стал отцом. Но как мускулы атлета скрывают до поры покровы одежды, время до срока скрывало главный труд жизни. Как упорный атлет он накачивал мускулы души, как резчик, набивал руку в узорной резьбе фраз, как дитя, учился возводить пирамиду сюжета. Беды бедности, трудности труда, боль болезней, страдания страстей, учёность учителей, ненависть ненастья и годы невзгод претворил он в творчество. Пережитое воплотилось в «Епифанские шлюзы» и «Чевенгур», «Усомнившегося Макара» и «Котлован», «Реку Потудань» и «Такыр».
Великое слово Платонова, исполненное любви к людям и жестокости жизни, неизживаемой печали и кроткого счастья, светлой красоты и мрачного ужаса, слово непрозрачное и затейливое, как морозный узор на стекле, проступило перед глазами русского народа.
Но злыми людьми было разбито на осколки и погребено в земле.
Правил в то время жестокий тиран. Он казнил и замучил до смерти много людей, кто противился его воле. Всякий, кто думал свободно, кто говорил свободно, кто писал свободно, был его враг, с ним расправлялся он смертью или ссылкой. Как древний человек, приносивший себя в жертву богам ради племени, Андрей посвятил себя литературе искренности, и потому стал жертвой. В страшные годы безмолвия правды, он писал честные книги, и, перелистывая страницы жизни, приближался к смерти. Как дикого зверя умелые ловчие, преследовали Платонова ловкие подручные тирана: обирали, гнали из жилища, лишали еды, издевались над его детьми, оскорбляли и презирали. Тиран лишил его читателя, вверг в бедность, погубил сына, – и случилось чудо, – не отнял свободу и жизнь. За страшные десятилетия, когда от голода и холода люди ложились в смерть как трава под морозом, он остался жить. За страшные десятилетия, когда миллионы прожили в тюрьмах и лагерях жизни, его не заключили в темницу. За страшные десятилетия, когда за одно слово клали в могилу, он писал, что диктовал его долг.
Это было второе чудо его жизни.
В трудные десятилетия он ощутил несчастье существования. Тяжёлую болезнь и гибель преображающего могущества революции, чудесно напитавшей его силой, Андрей перестрадал в своей душе. Заключённый в семье, он мучился в заключении. Самоубийцей в небытие от бед он уходил в вино. Казалось, жизнь отжила, и только часы отсчитывают годы мёртвого времени.
Но как спинной хребет держит тело, не давая рассыпаться, его держало дело жизни. Счастье и несчастье творчества, как две ноги, поддерживали и вели по жизни. Он хромал, ковылял, падал, полз, но не остановился. Восемь лет он писал главную книгу «Путешествие из Ленинграда в Москву» и она сгинула. Его рукописи крали, отбирали, жгли в печах, рвали на папиросы, топтали ногами, выкидывали. А Андрей продолжал делать, что любил: «Счастливую Москву», «Мусорный ветер», «Путешествия воробья», «Возвращение», «Афродиту», «Летний дождь», «Юшку»…
Платонов тяжело заболел. Здорового, его как прокажённого люди гнали от себя. Могло ли свершиться третье чудо, чтоб гонители пришли к нему на помощь в болезни?
На земле много чудес не бывает.
Без жизненно важных лекарств, Платонов умер в окружении родных.
О, как скудно наше существование на бумаге! Как мало жизни на однообразном пути: родился – рос, любил – родил, работал – создал, не дожил – умер. И как, напротив, сочны, наполнены, почти непереносимы даже минуты, страдания и счастья!
Платонов не дожил до ста лет, не объездил целый свет, не пил элитных вин, его не осыпали драгоценностями и не хоронили с оркестром. Но жизнь его была торжественна, как музыка, ярка как бриллианты, терпка как хорошее вино, увлекательна, как новые люди и страны, и сказочно длинна – так много он успел.
Свершения его трудной жизни грандиозны. Чудеса его судьбы невероятны. Страдания души велики. Но красота и смысл его жизни остаются потаённы. Осмысленная красота жизни, – искусство жизни, – в его деле. Дело, которое он творил так хорошо, как мог, которому отдавал все силы, и они не уходили в пустое страдание, дело, что как губка с уст страдальца впитало боль, дело, что озарило счастьем творческие часы. Дело жизни копьём пронзило его тело и протекло чахоточной смертной кровью из горла. Без дела жизни даже семейное счастье, здоровье и богатство тягостны и бессмысленны. Без работы нет в жизни ценности.
Дело всей жизни – вот где живут красота и счастье, похоронены боль и страдание; в нём искусство жития.
Художественная ценность забытых приёмов древнерусской литературы, или Послесловие
Длившийся сотни лет со времён средневековья демократический процесс упрощения художественного литературного языка и приведения его к народу достиг своей конечной и абсурдной кульминации, когда основа искусства литературы – искусство языка, как таковое, практически исчезло, а язык бытовой, журнальный, газетный, почитается за язык художественной литературы только потому лишь, что этим языком написаны литературные произведения. Искусство языка, как искусство создания новой красоты из соединения слов, практически исчезло. Только тот текст, который оказывает читателю сопротивление, вынуждает к сотворчеству, но вместе с тем даёт и даёт катарсис идеальных, единственно возможных, метафоры, сочетаний-столкновений слов, – художественный. В таком дуализме – сопротивлении и сотворчестве – основа литературного языка, на смену которому пришло описание событий, то есть изложение сюжета. Что, в свою очередь, привело к противоестественному господству сюжета в художественной литературе. Сюжет же, в свою очередь, находит воплощение в традиционной и обожествлённой троице Роман-Повесть-Рассказ. Всё это в своём неразрывном единстве – отказ от художественного языка, господство сюжета, догматичность троицы приводит к кризису читателя, – главным читателем становится лицо невзыскательное, принимающее, что литературное произведение по затрате умственных и духовных сил сродни произведению кинематографическому. Кризис читателя – основа кризиса художественной литературы.
Упрощённости литературного языка современности автор противопоставляет метафорическое разнообразие, звуковое богатство, цветность языка древнерусской литературы.
(Осознано, что исследуемые приёмы не принадлежат исключительно древнерусской литературе, или древней литературе как таковой – многие использованы в литературе нового времени).
Информационной бедности упрощённого языка, однопланового, как в повседневной речи, информационное значение которого состоит только в описании, автор противопоставляет искусственную, художественную усложнённость языка, информационно более богатого за счёт метафорической отягощённости, (метафоры, открывающей бесконечность), красочности и звуковой насыщенности эпитетов, новых смыслов и новой красоты от сближения, сталкивания слов, их корней и звуков (иных приёмов). Как результат – большее вовлечение разума и чувств в процесс чтения, большее наполнение сознания произведением, и как итог, иной уровень произведения, читателя, литературы.
Своеобразные художественные приёмы, – скучное перечисление многочисленных эпитетов, наполненное для средневекового автора символическим смыслом, намеренное сближение однокоренных либо созвучных слов, для зарождения дополнительных аллюзий и/или усиления мысли, чувства, могут найти применения и в современной прозе. Ценностью обладает афористичность текста, но ныне почти не используется.
Губительным для современного художественного текста является подавляющее господство зрительных сравнений, отнюдь не потому, что они не художественны. Напротив, они в высшей степени описательны, и в дополнение к описательности, могут, как любые хорошие сравнения, открыть новый ход в скучной кладке текста. Однако всеобщее использование зрительных (то есть основанных на функции зрения человеческого глаза) сравнений стало пагубным для художественного текста. Одни и те же сравнения кочуют от автора к автору, из книги в книгу, из языка в язык, уничтожая нашествием безликих орд художественную самобытность и творческую красоту произведения. Многие из этих сравнений честно придумываются авторами, но искушённому читателю они уже известны. С чем сравним реку? Поясом, лентой, ремнём (иными чулочно-носочными изделиями и бижутерией), ветвью дерева, рукой, веной, радугой на земле, грядкой, змеёй и травинкой (ещё несколькими представителями флоры и фауны), строчкой текста, далее, в зависимости от изгибов, косой, серпом, ножом (иными инструментами), дымом, косой волос… В итоге, количество сравнений довольно велико, но большая часть из них привычна, другая – непоэтична, третья – неприменима в контексте, – в результате писатель остаётся наедине с нищим выбором. Выше мы рассмотрели добросовестного писателя, творящего, а не плывущего по покойному течению голубой ленты под солнечным озером неба.
Потому столь ценным может явиться пример сравнений древнерусской литературы, построенных на сущностном, внутреннем сходстве сравниваемого («рысь пестра снаружи, а человек лукав изнутри», «защитился отчаяньем как прочным щитом» – примеры Д. С. Лихачёва); или сравнениях, основанных на иных чувствах человека (вкусовых, тактильных и других («сноха добра в дому, как мёд на устах, сноха зла, как червь в зубах» – пример Д. С. Лихачёва).
Наконец, звучность речи, а именно, красота её созвучий, перепев различных звуков, через столетия столь громко зазвучавшая в творчестве Гоголя, а затем вновь заглохшая, привнесут в текст не только новую, но и принципиально иную красоту.
Афористичность способна оживить текст, поразить разум читателя, однако, бесспорно, данный приём сложен, и за многие десятилетия единственным автором, способным успешно украсить язык так, был Андрей Платонов (Климентов).
В приведённых выше примерах отсутствует упрощённая стилизация, то есть видоизменение языка под древнерусский стиль путём применения архаизмов, а так же устойчивых образов, оборотов, сравнений древней литературной речи. Слова современны, способы их использования, к сожалению, нет.
Вопросы жанрового однообразия современной литературы и сюжетного однообразия, поставленные в заглавии, сложно рассмотреть раздельно. Народность литературы, в худшем понимании этого слова способность к восприятию обширными массами людей, нашла своё жанровое воплощение в трёх столпах современной литературы – романе, повести, рассказе. Значимость их огромна, как по влиянию на литературу (и шире – общественную жизнь), так и по числу отформованных шедевров. Однако сам факт подавляющего господства указанных жанров есть удручающее свидетельство ограниченности авторов литературным опытом двух последних столетий, или даже, ученичества по образцам века прошлого, с другой стороны, подтверждение традиционности и устойчивости литературных жанров. Не отвергая и не отказываясь от освящённой классиками троицы, автор выступает против её канонизации. Богатство жизни в многообразии видов, что и отражается в многообразии литературных форм и стилей (в значении устойчивой совокупности приёмов письма). Скудость используемых жанров определяется одним фактом – читателю должна быть рассказана история, а трио рассказ-повесть-роман (в западной традиции дуэт рассказ-роман), есть объективно лучшие и, к тому же, привычные формы. Но необходимость сюжета, его главенствующее значение в современной литературе, и являются основой кризиса. Как в случае со зрительными сравнениями, которые как любые хорошие сравнения должны, словно стекло на больной глаз открыть в краткой фразе новый мир, а на деле затёрты до слепоты, так эксплуатируемые сюжеты однообразны, и читатель, закрывая книгу, неизбежно говорит себе «это похоже на…», «такое же читал у…», и преодолеть это однообразие, которое противопоказано искусству, возможно не уникальным сюжетом, а правильной расстановкой акцентов, когда становится важно не только «про что», но и «как сделано».
В приведённых выше жанрах возможно отказаться от сюжета, самого увлекательного, но неизбежно уже известного читающему читателю. Не все жанры отвергают сюжет (например, жанр древней повести или слова-повествования), как не отвергает и автор. Сюжет может и часто должен являться составным элементом художественности. Однако сейчас сюжет, понимаемый как развитие действия во времени, занимает в литературе современности главенствующее положение, часто вытесняя все остальные элементы художественности. Не важно как написано, важно о чём, – есть один из примеров абсурдизации процесса демократизации художественной литературы, которая сводится к журналистике вымысла. Господство сюжета оправдано в литературе детективной, но в литературе художественной он является одним из значимых элементов, но не основным. Интересным может быть и бессюжетное, сюжет – не единственная форма упорядочения мыслей и чувств, осмысления действительности. Композиционная стройность, как представляется, возможна и без сюжета, как в отдельных произведениях, так и в цикле в целом. Лучшим подтверждением факта, что сюжет не основа литературного произведения, а лишь один из элементов художественности, есть желание читателя перечитать прочитанную книгу, чей сюжет, понятно, досконально известен.
Помимо снижения роли сюжета, в приведённых выше примерах древних жанров, новыми и интересными могут являться органичные для них приёмы изложения, описания, такие как исповедальность, риторические восклицания, риторический пафос, плачи, где чувства отрыты читателю, которые (приёмы) смешны и невозможны в современных формах троицы.
Как отмечалось в исследовательской литературе, жанр слова неоднороден, и может быть разделён как минимум на несколько, скажем слово-повесть («Слово о Полку Игореве»), слово-проповедь (Слова Кирилла Туровского, Митрополита Иллариона) и так далее. Выше приведено слово-проповедь.
Хождение суть древний жанр путешествий, путевых заметок, редких в современной литературе, но увлекательных, что подтверждается постоянными путешествиями персонажей троицы. Помимо общих для всех путешествий разных веков признаков, следует отметить характерный для хождений (да и для иных многих средневековых путешествий пилигримов) пешеходный характер передвижения и как следствие, описания. Хождение (с его многочисленной роднёй в виде путевых заметок, документальных путешествий и так далее) доказывает, что сами размышления и описания могут быть интересны, вынося почти безсобытийный сюжет на окраину художественности, в противоположность литературе современности.
Идея жития (в платоновском смысле) есть избрание значимых фактов (а не последовательное изложение как в биографии) для формирования идеального (положительного) образа личности в назидание читателю. Без этой формулы нет жития, но ей признаки житийности не ограничиваются. Практически всегда в жанре жития имеют место вступление и заключение, рассказ о чудесах и видениях, условность персонажа – уход от биографических деталей, абстрактность, не прописанность среды существования. (Вот почему «Житие прототопа Аввакума» есть преодоление житийного жанра).
Жанр стон в древней литературе не выявлен, он авторское развитие уникальной формы моления.
Побуждением к написанию сборника явилось не стремление возродить интерес к художественным ценностям древней литературы, а личностное утомление от канонизированной троицы, неприятие упрощённого языка, усталость от навязчивости сюжета, основанные на свободе авторского самовыражения.
Всё вышесказанное не рецепт необычного произведения, но отказ безропотно принять гибель высокой литературы в половодье народных масс. Всё выше, чтоб сказать, что художественная литература это нечто противоположное описанию бытовым языком происходящих событий. Всё выше, чтоб сохранить для художественной литературы читателя, и не оставить в одиночестве исследователя. Всё выше, чтоб с подменой значения понятия «художественная литература» (подменённого на литература придуманная, с сюжетом), не исчезла и классическая художественная литература, древнее, но великое искусство языка, уникальное искусство.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.