Текст книги "Загадки истории. Злодеи и жертвы Французской революции"
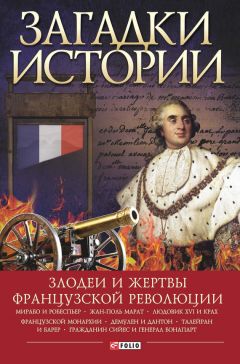
Автор книги: Алексей Толпыго
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Веррина, маркиз Поза и Сен-Жюст – идеальные герои
1780-е годы, предпоследнее десятилетие Века Просвещения. Прогресс человечества за последние 50 лет очевиден. Покончено с религиозными войнами, такое варварство, как Тридцатилетняя война между католиками и протестантами, уже явно немыслимо. Гугенотов во Франции все еще притесняют, но их положение несравнимо лучше, чем полвека назад. Войны, конечно, еще есть, но и они непохожи на войны прошлого, XVII столетия; не то, чтобы они велись «в белых перчатках», но они стали гораздо менее варварскими. В Европе идет непрерывное движение от хорошего к лучшему (еще и в 1793 году философ Кондорсе, скрываясь от гильотины, напишет оптимистичнейшую «Историческую картину успехов человеческого разума»).
Революция во Франции еще не началась, и мало кто ее предвидит. Французский наблюдатель в Лондоне (тогда там как раз разыгрался «гордоновский мятеж», с тысячами людей на улицах, погромами, множеством жертв) пишет: «Конечно, в таком благоустроенном городе, как Париж, подобное было бы невозможно».
Люди верят в то, что Век Просвещения приведет их к благополучию.
В те же годы Шиллер начинает писать свои романтические драмы с благородными, можно сказать – идеальными героями. Часто даже сверхидеальными. Но вот чем великий Шиллер отличается от рядовых изобразителей «голубых героев». Если Спартак, Овод, Андрей Кожухов (в одноименных романах Джованьоли, Войнич или Степняка-Кравчинского) гибнут, терпят поражение, то все они морально одерживают безоговорочную победу. У Шиллера наоборот: все его идеальные герои приходят к идейному краху.
«Шиллер, – писал один умный советский критик, имея ввиду вождя разбойников Карла Моора, – прекрасно понимал, что разбой на большой дороге, даже если под него подведена прекрасная этическая база, не является магистральным путем развития человечества».
И дело вовсе не в том, что Карл Моор и маркиз Поза гибнут. Еще один идеальный герой, великий республиканец Веррина («Заговор Фиеско в Генуе»), остается жив и здоров, он только становится сначала заговорщиком, а потом убийцей друга. Ради высокой цели, конечно.
Он вступает в заговор из самых благородных побуждений: чтобы установить в Генуе республику. Собственно говоря, герцог Андреа Дориа, который правит Генуей – правит не так уж плохо. Сносно правит. Но он герцог, следовательно, «тиран».
И потому Веррина становится сообщником Фиеско. Но он видит: его друг Фиеско свергнет тирана, но сам сядет на его место. Следовательно, надо убить друга: Свобода дороже. Во имя высокой идеи Веррина убивает Фиеско. Но что же ему делать дальше? «Я иду к Андреа», – так звучит финальная, «под занавес», реплика Веррины – он не видит ничего лучшего, как вернуться к тому самому правителю, которого он только что свергал, как «тирана»[27]27
Приведу сравнение, которое, может быть, многих удивит. В 2000–2004 году многие наши «Веррины» боролись с режимом Кучмы, твердо уверенные в том, что они ведут борьбу против Сил Тьмы, на стороне Сил Света (все 4 слова – непременно с больших букв). А потом… на стенах начали писать: «Данилыч, прости нас!»
Так Веррина возвращается к Андреа…
[Закрыть].
Можно было бы подумать, что Шиллер писал эти драмы уже после событий 1789-го и 1793 годов, разочарованный в революции. Но нет! «Разбойники» написаны 22-летним юношей в 1781 году, «Заговор Фиеско» – годом позже; «Дон Карлос» – в 1787-м, когда были слышны только первые отдаленные громы революции, а мысль о разочаровании вроде бы никому еще не должна была приходить в голову.
От «Заговора Фиеско» обратимся к «Дон-Карлосу». В этой драме Шиллер выводит двух благороднейших героев – положительного Дон Карлоса и «сверхположительного» маркиза Позу. Последний, бесспорно, – любимейший, наравне с Карлом Моором, герой Шиллера. Когда маркиз говорит о счастье грядущих поколений или о Фландрии, которая «плачет и вас, принц, зовет на подвиг избавленья» – несомненно, его устами говорит сам автор, высказывая собственные мысли.
Да, но при всех своих благороднейших целях и мыслях маркиз берется шпионить за женой короля Филиппа, затевает сложную и несколько сомнительную в нравственном отношении интригу. Как это согласовать?
Ведь речь не идет о реальной жизненной ситуации (в жизни, и в самом деле, случается и не такое). Маркиз Поза, как и Веррина, – вымышленный персонаж, Шиллер был совершенно свободен в выборе и мог заставить маркиза действовать, как ему, поэту, было угодно. Отчего же он заставляет своего любимого героя вести себя столь сомнительным образом?
Сам Шиллер так комментирует это в «Письмах о Дон Карлосе» (письмо XI):
«Нравственные побуждения, – поясняет он, – … не всегда проявляются благотворно. Назовите мне, чтоб ограничиться одним примером из тысячи, назовите мне хотя бы одного основателя монашеского ордена, который бы всегда оставался чуждым, при самых чистых намерениях и благородных побуждениях, некоторого произвола в обращении с людьми, насилования чужой свободы… не были бы незаметно увлечены покуситься на чужие права, которые однако представлялись им всегда наисвященнейшими, не ощущая нарушения в своих побуждениях.
Я выбрал характер, которому присущи были наилучшие стремления к благу, я придал ему чувство высокого уважения к чужим правам, я даже поставил целью его стремлений – предоставить всем наслаждаться свободой – и все-таки думаю, что не оказался в противоречии с жизненным опытом, заставив своего героя уклониться в сторону деспотизма.
В области нравственных явлений всегда рискованно отступать от естественных, жизненных чувствований в пользу отвлечений общего характера; человек надежнее может положиться на то, что внушает ему сердце или на принятое в обиходе и личные представления о справедливости или несправедливости, чем доверять опасному руководству рассудочных идей общего характера; ибо ничто не ведет к добру, что не представляется естественным по своей сущности».
Сегодня мы видели немало подобных персонажей – не на сцене, а в жизни. Они далеко уступают шиллеровскому герою в высоте побуждений, но сходны с ним в одном.
Пока речь идет об обычных, житейских проблемах, они порядочные люди: не воруют, а может быть, даже не пьянствуют и не изменяют женам. Люди, по меньшей мере, не хуже (скорее: лучше) прочих. Но стоит делу дойти до «высоких идейных соображений» – и у наших маркизов исчезает всякое понятие о чести и совести. Какая уж тут совесть, когда того требует… что?
Может быть, благо нации. Может, какой-то другой абстрактный символ – символ, как правило, достаточно благородный. Но беда в том, что с его появлением честь и совесть исчезают без следа.
…А теперь посмотрим, как это происходило 200 лет назад. И уж конечно, человек, наиболее сходный с шиллеровским выдуманным маркизом Позой, – это вполне реальная личность, член Комитета общественного спасения Антуан Сен-Жюст.
Сен-Жюст
Революция дала множество ярких лидеров, но Сен-Жюст выделяется даже на этом фоне. Он был, может быть, не самым жестоким, но определенно самым безжалостным среди лидеров. И в то же время – одним из самых эффективных администраторов, который немало сделал для побед Республики.
Он был самым молодым в когорте великих революционеров: он не дожил до 27 лет, но успел вписать свое имя в Историю.
Вообще-то, все лидеры революции были молоды. Если брать на момент созыва Конвента, то есть на 1792 год, то Робеспьеру и Дантону было 32 года, а самый старый из членов будущего Комитета общественного спасения, Робер Линде, едва-едва перевалил за 45 (он родился в 1746-м), остальные еще не дотянули до сорока.
Для сравнения скажем, что люди, делавшие Октябрьскую революцию, были старше, но ненамного. Ленину в 1917-м было 47 лет, но в партии его считали стариком (а за глаза так и называли). Троцкому и Сталину было по 38, Зиновьеву и Каменеву – 34, Бухарину, самому молодому из большевистских лидеров, – 29.
Что касается их противников, то Керенскому в 1917-м было 36, Терещенко (украинскому мультимиллионеру и министру финансов в первом Временном правительстве) – 31, Чернову – 44, генералу Корнилову – 47, Колчаку – 43, Деникину – 45, Врангелю – 39. А вот Чхеидзе, Гучков и Милюков уже перевалили за пятидесятилетний рубеж.
1. До 1789 годаИтак, Луи Антуан Сен-Жюст родился в августе 1767 года (точная дата, как мы увидим, имеет определенное значение) в центральной Франции, в провинции Ниверне, в городе Десизе.
Его отец был профессиональным военным и вышел в отставку в чине капитана и с крестом Святого Людовика – награда весьма ценная уже потому, что давала дворянство, правда, личное. Так что его сын дворянином, строго говоря, не был, что не мешало ему подписываться «де Сен-Жюст». Впрочем, так же поступали во Франции до 1789 года очень многие мещане – кто по праву, кто с сомнительным правом, как Сен-Жюст, а кто и вовсе без права – как например, Дантон и Робеспьер (называю только два самых громких имени, но список легко было бы пополнить самыми громкими именами самых пламенных революционеров).
Отец Сен-Жюста служил более 30 лет, соответственно вышел в отставку и женился, когда ему было за 50 – по тогдашним понятиям, стариком, – и вскоре умер. Сен-Жюст, как и Робеспьер, рано лишился отца и в 10 лет уже стал главой семьи. Однако отца он, очевидно, помнил и гордился им; во всяком случае, он очень интересовался войной, думал о военной карьере и даже когда окончательно сделал выбор в пользу политики, – в должности члена Комитета общественного спасения – занимался там преимущественно военными делами, как будет видно из дальнейшего рассказа. Но до этого еще далеко.
Молодой Сен-Жюст много читает. Читает преимущественно, как полагалось в XVIII веке, древних авторов – Аристотеля, Платона, Тацита, Плутарха, Демосфена и Цицерона.
Красивый молодой человек, «светский лев» местного масштаба, само собой, заводит несколько любовных романов. Была у него какая-то не совсем приятная денежная история, приведшая к тому, что он на несколько месяцев попал в исправительный дом, там он, между прочим, работал над своей поэмой «Органт», о которой чуть ниже. Но ничего по-настоящему плохого о нем сказать нельзя: он не натворил ничего такого, чего не делает множество других молодых людей, пока не перебесятся.
Словом, это был довольно заурядный молодой человек, не безгрешный, но отнюдь не злодей, и уж определенно не слишком выдающийся – повеса, ярый вольнодумец (как все его сверстники), немножко поэт и немножко мот. В этом типичном представителе «галантного века» никак, при всем желании, невозможно разглядеть будущего грозного комиссара Конвента, который сам совершал невозможное и требовал невозможного от других; блестящего оратора, может быть, лучшего, наряду с Верньо и Барером, оратора Конвента, «слова которого – как удар гильотины», труженика, по 18 и 20 часов в сутки работавшего в Комитете общественного спасения, наконец, как сказано, «французского маркиза Позу» – безжалостного и чистого душой идеалиста.
Между тем именно эта метаморфоза совершилась с молодым человеком за каких-нибудь 5–6 лет. И не с ним одним. Говоря о личностях Великой французской революции, мы всегда имеем дело с двумя или тремя совершенно разными личностями: один человек до 1789 года, второй – в критические годы и третий (ну, если доживет) – в наполеоновскую эпоху. Тут хотелось бы привести цитату из французского историка XIX века Эдгара Кине:
«Когда я вижу депутатских ораторов, которые призывают Законодательное собрание к суду и управляют с такой гордостью немыми и услужливыми собраниями, я бы хотел знать, что стало с ними несколько лет спустя. Но они смолкают окончательно при первом появлении деспотизма и обращаются в ничто, так что мне трудно найти их следы. Я боюсь, что, разыскивая их, я, пожалуй, нашел бы среди них чиновников Империи. Так мы видим Гюгенена, непобедимого президента мятежной Коммуны, очень скоро прирученным, домогающимся и получающим должность таможенного чиновника, как только абсолютная власть появилась снова после 18 брюмера. Страшный Сантерр делается кротчайшим из людей, как только он возвращен Первым консулом. Едва Бурдон-де-Луар, Альбитт, эти железные люди, почувствовали палку, как вот они уже самые покладистые, податливые из имперских чиновников. Великий ловец королей Друэ[28]28
Друэ – мелкий чиновник, который во время попытки королевской семьи бежать из Парижа опознал переодетого лакеем короля и организовал его захват и возвращение в Париж (июнь 1791 года).
[Закрыть] восседает теперь в супрефектуре С. Мерехульда. Если бы кто-нибудь призвал их остаться верным воспоминаниям, если бы напомнил им старую клятву, он показался бы, как это всегда бывает у нас после каждого изменения, безумным. Наполеон рассказывает, что он был в лавке Карусели 10 августа и следил тогда за взятием дворца. Если бы у него было тогда предчувствие, он должен был бы улыбаться на этот хаос, который он так скоро и так легко введет в прежние рамки. Сколько ужаса – и для чего? Чтобы тотчас привести все к старому послушанию?»
И действительно: если сравнивать, что именно делали эти люди (ну, хотя бы Жозеф Фуше, преподаватель математики, кровавый палач Лиона и министр полиции Наполеона) до 1789 года – между 1792-м и 1795 годами – и в годы Империи, – то трудно поверить, что это все один и тот же человек. Однако вернемся к нашему герою. В возрасте 20 лет (это, заметим, октябрь 1787 года – уже начало революции) он «окончательно» решает стать юристом и поступает на юридический факультет Реймсского университета.
Лидер жирондистов Бриссо, также окончивший этот университет, уверяет, что «там продавали все – степени, диссертации и аргументы», и добавляет, что ему самому на экзамене выпал вопрос: рассказать о правах евнухов в браке. Возможно, он несколько преувеличил, хотя в общем-то нет причин ему не верить; но если даже так, то надо констатировать, что университету сильно повезло со студентами. На его медицинском факультете учились, к примеру, Кабанис, врач Мирабо; Дюбуа, акушер Марии Антуанетты; пресловутый доктор Гильотен. А на факультете права (правда, не в одно время с Сен-Жюстом) – если назвать только самых знаменитых – жирондистский министр внутренних дел Ролан, зловещий прокурор Фукье-Тенвиль, лидеры жирондистов Петион, Луве, Бюзо, наконец, Кутон, Приер, Дантон (все трое – монтаньяры, видные члены Комитета общественного спасения, как и Сен-Жюст). Но это все – в будущем; пока что ничто не предвещает им подобных карьер.
К началу 1789 года Сен-Жюст закончил свою поэму «Органт», отвез ее в Париж и издал – естественно, за свой счет. Поэма тут же была запрещена, и автора стала разыскивать полиция, но еще до этого он принес ее парижскому журналисту Камиллу Демулену и попросил его дать объявление в газеты о выходе в свет его шедевра.
Демулен согласился, но энтузиазма не выразил, и Сен-Жюст, тогда считавший свой опус чуть ли не новым словом в литературе, видимо, обиделся. Но прав был, конечно, Демулен: поэма не то чтоб очень плоха или графоманская, но заурядная. Это подражание вольтеровской «Орлеанской девственнице». Как и у Вольтера, тут рыцарские приключения, основательно сдобренные эротикой, и политическая сатира, так, в одной из песен герой отправляется в Ослинград, где чиновники, доктора, парламент – все состоит из ослов, «ну прямо как у нас», – заявляет герой. Всё это очень напоминает Вольтера, только литературный уровень много ниже. В общем, тремя годами спустя сам автор заявил, что «не желает больше вспоминать о своем юношеском опыте, тем более не слишком удачном».
2. Взятие БастилииНо поэма эта имела большое значение в другом отношении: она открыла автору дорогу в Париж, притом познакомила его с Демуленом, уже тогда видным журналистом и, соответственно, покровителем, а позже врагом Сен-Жюста.
Во время пребывания в Париже Сен-Жюст стал свидетелем событий 14 июля – падения Бастилии. Увиденное он описал в своем трактате «Дух Революции и конституции во Франции», которую опубликовал двумя годами позднее.
Надо сказать, что зрелище взятия Бастилии (и того, что произошло вслед за этим) отнюдь не привело молодого человека в восторг. Его оценки были довольно-таки взвешенными, а если их сравнить с оценками многих апологетов революции – просто-таки суровыми.
«У народа не было добрых нравов, – пишет Сен-Жюст, – но он отличался пылкостью. Любовь к свободе вырвалась наружу, и слабость породила жестокость. Не знаю, видано ли такое когда-нибудь (разве что у рабов), чтобы народ насаживал на пики головы самых ненавистных особ, пил их кровь, вырывал их сердца и пожирал их… Я слышал радостные крики народа, который тешился клочьями человеческой плоти и кричал во все горло: „Да здравствует свобода, да здравствуют король и герцог Орлеанский!“… Это был триумф рабов.
Поведение народа становилось столь неистовым, ярость столь буйной, что было ясно: он слушается лишь самого себя. Он больше не почитал высших, он на деле ощутил равенство, которого не знал прежде».
В этом, достаточно тонком наблюдении обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, Сен-Жюст не слишком сочувствует жертвам, по крайней мере, не высказывает такого сочувствия. Но при этом он явно ужасается народной ярости, понимая, что если даже сегодня ее жертвами (допустим) стали виновные («ненавистные народу особы» – называет их Сен-Жюст), то неизвестно, чья голова попадет на пику завтра.
Более того, несколькими годами позже, когда революционная лихорадка захватит также и Сен-Жюста (здесь он еще относительно свободен от нее) и он станет суров и безжалостен – и тогда он отнюдь не будет потакать народной ярости, полагая, что насилие необходимо, но осуществлять его должна власть. Или, говоря конкретнее, Комитет общественного спасения. Или, говоря еще конкретнее, лично член Комитета Антуан Сен-Жюст. Народная ярость не вызывала у него энтузиазма ни в 1789-м, ни в 1793 году.
Во-вторых, Сен-Жюст несколько раз повторяет мысль, очевидно, очень важную для него: если народ столь жесток – это оттого, что освободившиеся люди пока все еще рабы (рабы по своей психологии, сказали бы мы, тогда такой терминологией не пользовались).
Сейчас господствует парадигма, согласно которой рабы – непременно хорошие люди, а рабовладельцы – плохие. Она исходит из того, что поскольку обращать людей в рабство нехорошо, то те, кто этим пользуется, – непременно плохие люди, а угнетенные – те хороши.
Так изображали крепостных и злых помещиков в советских фильмах 1930-х годов, так изображают угнетенный советский народ и его злых начальников в современных фильмах. Идет это еще от Гарриет Бичер-Стоу с ее «Хижиной дяди Тома» или от уже упомянутого мною «Спартака» Джованьоли.
Но Сен-Жюст был более образованным человеком, чем они, и смотрел на вещи вернее. Рабство развращает не только (и даже не столько) рабовладельцев, сколько рабов. Еще Гомер писал:
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.
Интересно сравнить оценку Сен-Жюста с идиллической оценкой Робеспьера: «Каким чудесным местом стала Бастилия с тех пор, как она во власти народа, как опустели ее карцеры и множество рабочих без устали трудится над разрушением этого ненавистного памятника тирании! Я не мог оторваться от этого места, вид которого вызывает у всех честных граждан только чувство удовлетворения и мысль о свободе».
Эти рассуждения – вполне в духе эпохи, которую представлял Робеспьер: эпохи Руссо, эпохи абстрактных рассуждений энциклопедистов о Свободе и Тирании (то и другое, разумеется, с большой буквы). Робеспьер, в отличие от Сен-Жюста, не заметил пролитой крови и народного варварства: он восторгается именно абстрактной идеей свободы и поверженной Бастилией – как ее символом. Правда, надо оговориться: Робеспьер не присутствовал при эксцессах 14 июля, он, как и прочие депутаты, находился в Версале, а в Париже появился неделей позже, когда кровь уже смыли с улиц.
Но, конечно, не это главное. Главное другое – в 1789 году Сен-Жюста, в отличие от Робеспьера или, например, Камилла Демулена, еще не успел охватить Дух Революции, партийный дух, фанатизм. Несколькими годами позже Жермена де Сталь скажет: «Эта страсть овладевает вами, как своего рода диктатура, она заставляет замолчать все авторитеты ума, разума и чувства… Всякая другая точка зрения объявляется изменой».
Революция опьяняет.
3. Между 1789-м и 1792 годомЛетом 1789 года Сен-Жюст пишет еще одно чисто литературное произведение – милую одноактную комедию «Арлекин Диоген» (кстати, по качеству намного выше «Органта»). Таким образом, в 1789-м и даже в 1791 году Сен-Жюст все еще был на распутье, колебался между политической карьерой, публицистикой, литературой… Или все-таки военным делом, которое всегда его привлекало? Во всяком случае, годом позже, 6 июня 1790 года, молодой человек назначен подполковником Национальной гвардии Блеранкура.
Но к этому моменту ясно, что молодой человек уже сильно изменился. Об этом говорит эпизод с «клятвой Сен-Жюста», столь театральный, что нам даже трудно в него верить, но, вне всяких сомнений, подлинный.
Итак, 15 мая 1790 года напротив мэрии Блеранкура были преданы сожжению 30 экземпляров контрреволюционного памфлета «Протест 297». Это был протест против одного из декретов Учредительного собрания, подписанный внушительным меньшинством – 297 делегатами.
С нашей точки зрения, сожжение книг, а тем более демонстративное, – акция малосимпатичная, но тогда это было в порядке вещей. До революции сплошь и рядом по приговору парламента сжигали те или иные запрещенные книги (знаменитые «Мемуары» Бомарше с его яростной и едкой критикой судебной системы Франции – самый яркий пример, но лишь один из множества), и то, что в годы Революции иной раз тоже приказывали кое-что сжечь, – в этом не было ничего нового, только книги были другие.
Но речь не об этом. Когда на площади был разведен костер и в него побросали брошюры, Сен-Жюст протянул руку в огонь и поклялся умереть за отечество, если понадобится. Понятно, что это был прежде всего жест на публику. Однако же подвиг Сен-Жюста заслуживает внимания, по крайней мере, в двух отношениях.
Во-первых, он, во всяком случае, говорит о личности человека: о его физическом мужестве и еще больше – о его экзальтированности и честолюбии. Но важнее другое. Этот поступок, хотя и исключительный, можно в то же время назвать и типичным. Потому что вся Французская революция была в немалой мере, так сказать, цитатой из римской истории. Все без исключения деятели Революции так или иначе подражали античным образцам, говорили языком, заимствованным из сочинений Тацита или Тита Ливия. А иногда, как мы видим, заимствовали оттуда и поступки – Сен-Жюст повторил поступок римлянина Муция, который положил правую руку на жаровню, чтобы показать врагу, как римляне презирают боль и смерть – и получил за это прозвище Сцевола (Левша).
Ссылались ли они на добродетели – то были добродетели республиканцев, искали ли обличения – обращались к Тациту и заклейменным Тацитом тиранам: Тиберию, Клавдию, Нерону.
Началась и политическая карьера Сен-Жюста. Первый, достаточно скромный шаг: в апреле 1790 года он становится делегатом собрания департамента Эн. Поскольку он был слишком молод и, по закону, строго говоря, не имел права быть делегатом – это значит, что он был уже достаточно заметной политической фигурой местного уровня.
А в октябре того же 1790 года Сен-Жюст берется за политический трактат «Дух революции и конституции во Франции». Таким образом, он всерьез занялся политической деятельностью. Но и здесь еще никак невозможно увидеть будущего Сен-Жюста. И этот трактат, и его письмо Робеспьеру (первый контакт двух лидеров Комитета общественного спасения) не представляли бы никакого интереса, если бы не будущая карьера автора.
Единственное, что можно углядеть в трактате, это стиль Сен-Жюста. Он пишет короткими, слабо связанными между собой, но очень яркими фрагментами, в тексте множество афоризмов. Все формулировки четки и определенны, в них нет ничего лишнего, но они слабо между собой связаны.
А вот идеи у него неоригинальны, те же, что и у других авторов периода, тогда все мыслили в одном ключе. Сен-Жюст настаивает на всеобщем равенстве, однако подчеркивает: речь никак не идет о естественном равенстве, о равенстве имуществ, «которое привело бы общество в расстройство: не было бы ни власти, ни повиновения, народ бежал бы в пустыню». Сен-Жюст этого периода весьма далек от коммунистических идей; он подчеркивает, что речь идет только о равенстве политических прав.
Стоит сказать, что Робеспьер, напротив, в это время уже настаивает на смягчении имущественного неравенства: «Законодатели, вы ничего не сделали для свободы, если законы ваши не направлены к тому, чтобы при помощи мягких и эффективных средств уменьшить крайнее неравенство имуществ». Робеспьер цитирует Монтескье, предлагавшего, чтобы «в благоустроенной демократии земельные участки были не только равными, но также и небольшими».
Кстати, у Сен-Жюста слово «равенство» употребляется крайне редко: скажем, во всех ключевых речах последних двух лет его жизни (1792–1794) он упоминает его всего 12 раз. А вот для Робеспьера понятие равенство всегда было ключевым.
Проходит полтора года, лето 1792 года. Сен-Жюст по-прежнему занимается главным образом национальной гвардией своего родного Блеранкура, а также пишет трактат «О природе и гражданском состоянии».
Этот его неоконченный труд (он бросил его в связи с выборами в Конвент) сильно отличается по духу от «Духа революции». Два (?) года назад Сен-Жюст верил в возможность установления справедливого и благого общества, теперь он верит в это плохо. Не он один: вся Франция начала разочаровываться в революции, принесшей войну, голод, инфляцию. Именно в 1792 году окончательно происходит перелом экономической конъюнктуры: в 1780-х годах и вплоть до 1792 года, несмотря ни на что, шел экономический подъем – теперь он сменяется спадом.
Труд этот остался неоконченным, поскольку начались выборы в Конвент.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































