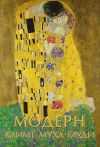Текст книги "«Новый историзм»: Науковедческий анализ"

Автор книги: Алина Анисимова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
События прошлого следует освещать в том свете, в котором они сегодня необходимы, потому что только такое исследование культуры имеет смысл [94]. Вот почему многие стали называть отношение «новых историков» к прошлому эстетическим. Эстетические параметры теории «нового историзма» были отмечены критиками, охарактеризовавшими проект «нового историзма» как проект «эстетизации истории» [19, с. 50].
Другие аспекты теории «новой критики» были существенно видоизменены в «новоисторическом» подходе. Предметом споров стала фигура автора произведения. «Новые критики» придавали такое большое значение тексту, что поставили текст выше автора. Литература оценивалась ими как самостоятельный феномен, который живет по своим законам. В рамках «новой критики» различные сведения об авторе признавались такой же посторонней информацией, как «исторический контекст».
Так, «новые критики» были противниками идеи «интенциональности» (авторского замысла), то есть считали вредным использовать сведения, касающиеся личности автора, его биографии и способные «раскрыть» авторский замысел и «истинный смысл произведения». По их мнению, искусство обладает ценностью и эта ценность автономна от намерений автора. Проблеме «интенциональности» в 40-е годы XX в. много внимания уделили такие «новые критики», как У.К. Уимсет и М.К. Бердсли. Вызванная ими дискуссия была посвящена значению личности автора произведения для понимания созданного им произведения искусства [135]. В работе «Интенциональная ошибка» Уимсет доказывала, что изучение интенции автора не способствует пониманию произведения. «Замысел или интенция автора не являются ни доступными, ни желательными как норма при суждениях о том, насколько удачно произведение художественной литературы» [135, с. 3].
Автор «Интенциональной ошибки» на несколько десятилетий убедила профессиональное сообщество отказаться от изучения авторского замысла. Следствием этого было выпадение из литературоведческого дискурса проблемы авторской субъективности. Литература рассматривалась в свете ее эстетического статуса, но при этом упускался из виду ее субъективный, личностный и социально-политический характер.
«Новоисторический» подход, напротив, требует изучения «интенциональных» установок автора. «Новый историзм», как мы видели, возник на волне популярности марксизма в теории литературы. Поэтому субъект «нового историзма» одновременно и неповторим, и является носителем социально-экономических и идеологических ценностей. Отношение к автору определенно сформулировано в ранней работе С. Гринблатта «Формирование "я" в эпоху Ренессанса».
Вереница писателей создает тот самый актуальный в литературоведении историко-культурный фон. Каждый писатель своими книгами и своей жизнью проводит определенную линию в культуре эпохи, которая связана с другими подобными линиями. В полном согласии с гегелевским принципом филиации идей авторы литературных текстов эпохи Ренессанса принимают эстафету от предшественников, развивают новые идеи, в результате чего происходит культурный синтез.
С. Гринблатт в указанной книге укладывает жизни писателей эпохи Ренессанса в гегелевские триады, первая из которых начинается с Т. Мора. По мнению автора исследования, этот великий человек прошел свой творческий путь как путь самоотречения. Второе лицо триады – В. Тиндел, известный богослов, проживший свой век в стремлении идентифицировать себя со Словом. Третий из них – Т. Уайет, фигура синтетическая, человек, чья жизнь – восхождение к «мужественности», как ее характеризует С. Гринблатт. Эти авторы образуют гегелевскую триаду, так же как и три других автора – Э. Спенсер, К. Марло и В. Шекспир. В данном гегелианском пассаже С. Гринблатта чувствуется влияние молодого Маркса. На более позднем этапе развития «новые историки» уже не следуют марксистско-гегелевской парадигме так непосредственно. Но идея субъекта как производной функции автора сохраняет свое значение для направления.
Изучение «субъективности» имеет особое значение в «новом историзме». И этот интерес определяется прежде всего горячей уверенностью многих представителей направления, что именно субъективная вовлеченность оживляет исторический нарратив, делает его доступным для восприятия, интересным, возможным. По сути, можно сказать, что для историка другой, неинтересной истории и не существует. «Коробки уже не располагались в первоначальном порядке, поэтому я перегруппировал их заново. Это необходимо было для того, чтобы вся коллекция удержалась в моей голове. Наконец, я вдруг увидел фотографию, которая все преобразила, – моя собственная фотография. Внезапно вся коллекция стала казаться мне знакомой, а порядок, в котором расположили ее музейные работники, – искусственным. Теперь уже это была не груда коробок, а периоды моей жизни. Моя собственная память взялась управлять имеющимися в архиве образами» [132, с. 112].
Эта случайная, на первый взгляд, цитата выражает общий взгляд «новых историков» на значение ассоциативной вовлеченности историка в историческую действительность. Важно помнить, что эта вовлеченность подразумевает не только «новоисторического» историка, а любого представителя специальности. Ведь именно любопытство движет автором «известной» истории, такого текста, который будет циркулировать в профессиональных кругах много поколений. А что такое это любопытство, как не ниточка, связывающая личность автора с историей.
Таким образом, очевидно, что «новый историзм» развивался в русле тех проблем, которые стояли перед американским литературоведением на протяжении XX в. «Новые историки» постарались взглянуть на проблему литературоведения широко, учесть весь опыт развития дисциплины. Особенно очевидна полемика «новых историков» с «новыми критиками», хотя некоторыми положениями «новой критики» «новые историки» воспользовались.
Мы рассмотрели общие проблемы взаимосвязи методологии «нового историзма» с методологией американского литературоведения. Теперь остановимся подробнее на некоторых более частных проблемах.
2.2. Проблема «мимесиса»
С. Гринблатт: «Влияние практики „изгнания духов“ определяется не внутренними свойствами ритуала, а тем, какое впечатление практика экзорцизма оказывает на зрителей. В своей знаменитой книге „Изучение колдовства“ (повлиявшей на Харснетта) Р. Скот рассмотрел некоторые приемы, рассчитанные на впечатление: хитрая игра на предрассудках, эксплуатация горя, страха, доверчивости, искусная работа с иллюзионистскими приспособлениями, созданными для сцены, соединение спектакля и комментария, внушение беспокойства и одновременные обещания избавить от беспокойства» [62, с. 100].
Дж. Голдберг: «В "Сеяне" [Джонсона. – A.A.] Тиберий не является портретом короля Якова в том смысле, что не Яков был вдохновителем этого сюжета. При всем сходстве Джонсон написал пьесу раньше, чем Яков стал королем Англии… Реальная история догоняет историю, творимую на сцене» [65, с. 176-177].
Д. Миллер: «В этом контексте в образе мальчика [изображенного Педи. – A.A.] можно увидеть снисхождение патрона, социального покровителя (вроде мистера Гринхата у Стиля), благодаря которому мальчик становится «маленьким мужчиной». Как мы видели в отрывке из «Tatler», структура чувств этого мира предполагает любовь взрослого и систему вознаграждения для ребенка для симуляции его мужественности. Этот обман соблазняет его в рамках некоего культурного маскарада, внутри которого определяется его пол» [96, с. 119].
В этих трех цитатах авторы (соответственно С. Гринблатт, Дж. Голдберг и Д. Миллер) так или иначе обращаются к эффекту театральности, эффекту, способному оказать воздействие на реальность: магическое – в первом случае, политическое – во втором и воспитательное – в третьем. Тезис о «реальности иллюзий» с легкой подачи Гринблатта стал общим для «нового историзма». Этот тезис восходит к традиционной для литературоведения проблеме мимесиса. Понятие «мимесис» в переводе с древнегреческого обозначает «подобие», «воспроизведение», «подражание», в связи с литературой впервые упоминается в «Поэтике» Аристотеля, в которой автор рассматривает, в какой мере искусство может и должно подражать реальности.
В 80-е годы XX в. интерес к «Поэтике» Аристотеля заметно возрос. В 1980 г. во Франции в книжной серии «Поэтик» вышел новый перевод «Поэтики» Аристотеля с предисловием Розелины Дюпон-Рок (R. Dupont-Roc) и Жана Лалло (J. ballot), в котором авторы представили свое понимание «мимесиса» у Аристотеля. Здесь творчество Аристотеля было понято в соответствии с традицией гуманитарных исследований во Франции с точки зрения проблемы референциальности.
Лингвистика во Франции опиралась на принципы «нарратологии», противоположные принципам референциальности. Если исходить из отечественной традиции понимания термина «нарратив», «наррация», то различие между нарратологией и референциальностью не вполне ясно. В российской филологии понятие референциальности отчасти включается в «нарратив». В книге «Теоретическая поэтика: Понятия и определения» Н.Д. Тамарченко приводит несколько определений понятий «нарратив», «наррация», «повествования», опираясь на польско-немецкую и английскую традиции [20, с. 224-226]. Приведем здесь одно из них.
«Нарратив – изложение (как продукт или процесс, объект и акт, структура и структуризация) одного или большего числа реальных или фиктивных событий, сообщаемых одним, двумя или несколькими (более или менее очевидными) рассказчиками одному, двум или нескольким (более или мене очевидным) адресатам» [108, с. 225].
Когда же мы обращаемся к работам, написанным в рамках французской филологической традиции, то различие между нарратологией и референциальностью становится очевидным. «Однако литературная теория подвергла мимесис критике, подчеркивая автономию литературы по отношению к реальности, референту, внешнему миру и отстаивая тезис о преобладании формы над содержанием [fond], выражения над содержанием [contenu], означающего над означаемым, сигнификации над репрезентацией или же семиозиса над мимесисом» [10, с. 114].
Французские структуралисты, таким образом, подчеркивали, что изучение связи литературы с реальностью – само по себе устаревшее явление в литературоведении. Вместо этого основной акцент они делали на «внереференциальности повествования», или поэтической функции литературы [31]. Во Франции изучению этой функции была посвящена отдельная дисциплина – структурная лингвистика, предложенная К. Леви-Строссом и Р. Якобсоном.
Французские теоретики противопоставляли себя Аристотелю, полагая, что они сторонники «семиозиса», тогда как Аристотель изучал литературу при помощи «мимесиса».
В отличие от французских структуралистов «новые историки» поместили теорию Аристотеля в центре своих теоретических построений. Они отметили, что в концепции Аристотеля предусмотрены необычные взаимоотношения литературы и реальности. Аристотель вовсе не считал, что литература копирует реальность (так полагали французские структуралисты). Он считал, что хорошая литература фиксирует суть вещей [2, с. 51]. Аристотель допускал, что реальные события часто требуют доработки, чтобы повествование выглядело реалистическим [2]. Кроме того, вполне реалистическим может оказаться повествование, вообще не связанное с подлинными историческими событиями. Раз литература воспроизводит порядок вещей, она сама должна выглядеть упорядоченной. Любое литературное произведение должно быть структурно организовано, иметь начало, основную часть и заключение. Аристотель не раз подчеркивал, что в литературном произведении должно быть отражено какое-то осмысленное событие, которое он определял, например, как переход от несчастья к счастью или наоборот.
В связи с этим в «новом историзме» определения «связанный с реальностью» и «реалистически изображенный» перестают быть синонимами. Причем «реалистически изображенный» явно имеет более позитивную окраску. Таким образом, в «новом историзме» подчеркивается особая непрямая связь литературы с реальностью. Представители этого направления настаивали, что к литературе следует относиться серьезно и исследовать ее внимательно, поскольку ее функционирование в обществе может привести ко вполне реальным последствиям. Ведь при определенном подходе литература сама может быть рассмотрена как часть реальности.
Свое дальнейшее развитие проблема «реальности и иллюзии» получила в рамках теории «обмена», также интенсивно обсуждавшейся «новыми историками».
2.3. Исследование практики «обмена» в «новом историзме»
Гринблатт: «Техника текстуального анализа, которой я был обучен, была предназначена для того, чтобы идентифицировать и прославлять непостижимые литературные авторитеты как в случае сверхъестественной гениальности автора, так и в случае сверхъестественного совершенства текста (только так и могла быть обозначена его концептуальная сторона). Настоящая методология (речь идет о собственной методологии С. Гринблатта. – A.A.) основана на том, чтобы зафиксировать в тексте ценную для нас потенциальную энергию для того, чтобы идентифицировать стабильный постоянный источник влияния литературного произведения. Таким образом, мы стараемся избежать случайности в нашем методе. Наш бесконечный проект терпит фиаско как раз потому, что избежать случайности в нашем анализе нам не удается» [62, с. 3].
Здесь, в самом начале работы «Шекспировские сделки», С. Гринблатт поднимает сразу несколько проблем. Он проводит границу между собственным методом и методом более традиционным в литературоведении. Причем делает он это без особых уточнений, отсылая лишь к традиции университета, в котором он получил образование. Он также указывает, что новый метод не поддается верификации, поскольку всякий раз попытка «избежать случайности» «терпит фиаско». Наконец, из приведенной цитаты следует, что одной из полагаемых исследовательских целей является идентификация «стабильного перманентного источника влияния литературного произведения», что дает дополнительный повод критике говорить, что «новый историзм» методологически невыдержанное направление. Ведь сами «новые историки» выступают против того, чтобы конкретизировать систему влияний в отношении литературного произведения.
Таким образом, здесь открывается сразу несколько исследовательских оптик. В данном случае, мы выбираем только одну из них, а именно проблему изменения исследовательского подхода в «новом историзме». С. Гринблатт противопоставляет «прославление автора» «фиксации в тексте ценной потенциальной энергии». Очевидным образом, акцент сдвигается в сторону проблематизации ценности произведения, энергетической природы текстуального пространства.
Изучение культуры в «новом историзме» опирается на исследовательскую модель, которую сами «новые историки» обозначают как «практику обмена», или «круговорот социальной энергии». После появления первых работ Гринблатта идея «круговорота социальной энергии» стала очень популярной в США, и исследователи разных направлений активно используют ее для анализа текстов культуры [82]. Как первый пример такого исследования можно упомянуть работу С. Гринблатта «Шекспировские сделки» (1988).
«Можно сказать, что "циркуляция социальной энергии", имевшая место в театре, не была частью единой, тотальной системы. Скорее, ее можно охарактеризовать как дробную, фрагментарную и конфликтную. Ее элементы пересекаются, разрываются, комбинируются заново, противопоставляются. Одни социальные практики расширились благодаря сцене, другие – напротив, потеряли свое значение. Что же все-таки такое эта "социальная энергия"? Власть, харизма, сексуальное возбуждение, коллективные мечты, удивление, желание, раздражение, религиозный страх, накал страстей? В некотором смысле этот вопрос абсурден. Потому что любой социальный феномен может циркулировать в обществе, пока оно не пожелает изъять его из этой циркуляции. Ввиду этих обстоятельств я заявляю, что нет единого метода или принципа, нет "общей картины", мы также не можем дать исчерпывающего определения "поэтике культуры"» [61, с. 19].
С. Гринблатт уходит от прямого ответа, что такое «социальная энергия». Впрочем, обращение к слову «энергия» предполагает, что за этим образом могут находиться явления разного класса. Толкователи «нового историзма» (например П. Голдмен) пошли по другому пути. Они, напротив, попытались увязать термин с узким кругом проблем, поднятых в работе С. Гринблатта.
По мнению Голдмена, термин «круговорот социальной энергии», получивший сегодня широкое распространение, в рамках «нового историзма» следует понимать довольно узко. Этот термин использовался С. Гринблаттом для того, чтобы дать свою интерпретацию феномену «секуляризации». До возникновения «нового историзма» под «секуляризацией» понимали десакрализацию религиозных верований и институтов. С. Гринблатт же под «секуляризацией» подразумевает процесс перехода культурной энергии, вложенной в религиозные верования, в новые формы.
П. Голдмен подчеркивает, что для «новых историков» «границы между искусством, религией и другими культурными практиками остаются подвижными» [67, с. 2-3]. «Традиционные церемонии (панихида или практика экзорцизма) со временем могут исчезнуть, тогда как вложенная в них культурная энергия переходит в новые формы, включая искусство» [67, с. 2]. Историку английской культуры подобная интерпретация проблемы «секуляризации» позволяет пересмотреть значение некоторых институтов эпохи английского Ренессанса, например театра. Ведь «новые историки» именно театр описывают как особое место, внутри которого социальная энергия циркулирует особенно активно. Как мы увидим в третьей главе, идея «круговорота социальной энергии» относится не только к театру эпохи Ренессанса, но и к современному искусству, которое также содержит в себе элементы сакрального (как правило, именно поэтому искусство и производит впечатление, хотя ритуальные корни творчества бывают осознаны далеко не всегда).
Исследователи «нового историзма» верно отмечают, что подход С. Гринблатта опирается на капиталистическую модель мира, в которой все подчиняется общему круговороту капитала, отсюда и название этой модели [130]. Однако правильнее было бы сказать, что Гринблатт рассматривает в своих работах не финансовый, а культурный капитал, который основан на фундаментальных человеческих потребностях. При этом между потребностями в капиталистическом обществе и культурными потребностями человека прослеживается определенная параллель. Капитализм существует благодаря тому, что каждый человек нуждается в пище, одежде и удовольствиях. С. Гринблатт полагает, что культура существует потому, что человеку присущи некоторые глубокие психические переживания.
Существует небольшое число фундаментальных черт человеческой психики, которые не меняются, несмотря на длительную историю эволюции человека. К их числу, безусловно, относится и страх смерти. Этот страх присущ любому человеку, независимо от религии, расы и уровня развития цивилизации. Великие страхи побуждают людей создавать фантазии, в которых негативные стороны страхов могли бы быть преодолены. В фантазии люди обычно вкладывают энергию своего страха. Как раз к числу таких фантазий С. Гринблатт относит католическую идею чистилища, места, где души людей могут жить некоторое время после смерти, очищаясь от грехов. В Ирландии в связи с этим возникла легенда о святом Патрике, который обнаружил на земле вход в чистилище.
Идея чистилища является продуктом человеческого сознания, напуганного небытием и смертью. Эта фантазия, плод воображения, дитя страха быстро обретает свою материальную плоть, оживает в целом институте, поддержанном католической церковью. На месте пещеры, где святой Патрик спускался в чистилище, основывают монастырь, который вплоть до XVII в. оставался излюбленным местом паломничества. Этот монастырь – лишь песчинка в общей доктрине очищения души после смерти, развернутой католиками. Таким образом, идея чистилища, наполненная энергией общечеловеческого страха смерти, становится реальностью.
С середины XVI в. начинается обратный процесс. Вместе с приходом протестантизма идея чистилища была официально отклонена. Однако, полагает С. Гринблатт, это означало только то, что идея приобретает новые институциональные формы. Ведь страх смерти нельзя отменить, он является для человека онтологическим. В результате политической борьбы идея чистилища уходит из области религии в область искусства. Так появляется «Гамлет» Шекспира [59].
Помимо капиталистического, в понятии «энергия» следует учитывать и физический смысл этого слова. «Эти два понятия (литература и трение. – A.A.) связаны одним общим свойством, они производят жар: благодаря жару сливаются женская и мужская половые клетки, благодаря жару мужской половой орган увеличивается, благодаря жару возможны эякуляция и оргазм. Эта «калорийная» модель сексуальности относится не только к гениталиям. Женское молоко, например, также вырабатывается только при повышенной температуре крови. Кровяные клетки восполняются благодаря энергии, которую мы получаем, съедая горячую пищу. Сексуальный жар принципиально ничем не отличается от всех других видов жара. Это лишь частный момент всей животной жизни. Поэтому сексуальное желание в определенной степени может быть вызвано едой, вином и силой воображения» [62, с. 85].
С. Гринблатт первым применил удобный термин «циркуляция социальной энергии» для описания социологических и культурных процессов в обществе, но этот подход ранее уже был известен благодаря некоторым работам Мишеля Фуко, правда, под другим названием. В работе «История безумия в классическую эпоху» Фуко определяет неразумие как неотъемлемое свойство человека, приобретающее в различные исторические периоды особые наименования (болезнь, безумие, преступление). При этом важно, что неразумие укоренилось настолько, что с переименованием оно не лишалось своей физической территории (лепрозории перестраивались в больницы для душевнобольных).
«Проказа отступает, и с ее уходом отпадает надобность в тех местах изоляции и том комплексе ритуалов, с помощью которых ее не столько старались одолеть, сколько удерживали на некоей сакральной дистанции… Но есть нечто, что переживет саму проказу и сохранится в неизменности даже в те времена, когда лепрозории будут пустовать уже не первый год, – это система значений и образов, связанных с персоной прокаженного» [26, с. 27]. Таким образом, идея перехода определенной культурной энергии от одного феномена к близкому ему другому уже была предложена Фуко, значение трудов которого для «нового историзма» трудно переоценить. Книга М. Фуко вышла в свет в 1961 г. А через несколько лет, в 1965 г., появляется работа М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», в которой совершенно автономно от европейской традиции автор сходным образом описывает значение переодеваний в карнавальной культуре. Вместе с одеждой люди перенимают и культурные модели поведения.
Существуют иллюзии и существует реальность, граница между ними не соответствует границе между литературой и историей, как было принято думать до сих пор. Реалистичность текста определяется его авторитетностью. Текст при этом может изменить свой статус, превратиться из иллюзии в реальность, и наоборот. Определить качественное состояние текста можно, оценив, насколько он насыщен «социальной энергией» в данный момент времени.
Изучение практик «обмена» позволяет, помимо прочего, более мотивированно подойти к проблеме «иллюзии» и «реальности». На основании теории Аристотеля «новые историки» могли только уравнять друг с другом иллюзию и реальность, литературу и историю, представить огромный потенциал «реалистичности», заложенный в литературе. При помощи одной теории Аристотеля определенно нельзя было доказать, что иллюзия «является» реальностью. Новая теория «культурного обмена» открывает здесь дополнительные возможности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?