Текст книги "Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III"
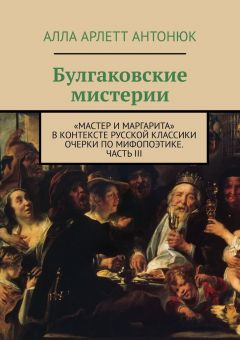
Автор книги: Алла Антонюк
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мефистофелес у Брюсова двусмысленно объясняет также, что именно ему мешает стать хорошим теологом – это его скептицизм: «А я – скромный схоляр, много лет изучающий изнанку вещей, которому излишний пирронизм мешает сделаться хорошим теологом» (гл. 2:II).
Не вдаваясь особо в подробности довольно сомнительных теологических диспутов с чертом, скажем, однако, что по законам жанра евангелия от сатаны сами доказательства – от романа к роману самых разных авторов – становятся мотивами их сюжета, обрастая все новой мифологией. Однако тема доказательств существования Бога всегда будет переворачиваться и подменяться чертом, приобретая новый мотив – доказательства существования дьявола («О большем я уж вас и не прошу», – лукаво говорит дьявол Воланд своим оппонентам в споре в романе Булгакова).
«Седьмое доказательство» – доказательство от противного. С тех пор как Бог низверг Духа Зла как падшего ангела, его существование – эфемерно и, соответственно, для человека также будет требовать доказательств. Начиная с Булгакова, стало особенно знаменитым «седьмое доказательство» – так называется и глава из его романа «Мастер и Маргарита» – единственная, которая с таким названием присутствовала всегда и во всех редакциях романа. По Булгакову, седьмое доказательство Бога – это доказательство, которое строится от противного, – через обнаружение дьявола, споры о существовании которого также ведутся в романе: «А дьявола тоже нет?
– И дьявола…
– Нету никакого дьявола!
– Ну, уж это положительно интересно, – трясясь от хохота проговорил профессор, – что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! – он перестал хохотать внезапно и, … после хохота впал в другую крайность – раздражился и крикнул сурово: – Так, стало быть, так-таки и нету?» (гл 1).
У Достоевского Черт также хочет предъявить реальное доказательство своего существования, якобы тем, что он «страдает от фантастического» (то есть, от своего идеального образа в виде нематериальной субстанции). Но Иван Карамазов отказывается верить в такой «реализм»: «Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есь, но я не хочу верить, что ты есь! – говорит он Черту. – Не поверю!!» (гл. 9).
Чёрта, явившегося Ивану Карамазову, «беспокоит», что человечество верит в Бога, но признало, что «le diable n’existe point» (фр). («Дьявола больше не существует»). Он рассматривает это как «ретроградство» человечества. По его мнению, в век реализма «это в бога… ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно» (гл. 9). Это заявление карамазовского Черта имеет прямое продолжение и в речах Воланда у Булгакова: «Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! …Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство…» (гл. 3).
Черт Достоевского ретроспективно проходится по всем мировым фигурам, которые связаны в философии с доказательствами Бога. Он сторонник «трансцендентального» доказательства существования идеального мира и Бога, которое тоже отчасти было открыто Кантом. По представлениям Канта, существует мир, который вне пространства и времени – духовный мир, мир интеллекта, мысли и свободы воли, который доказывается наличием в каждом человеке мыслей, которые могут «путешествовать» в прошлое и будущее, а также мгновенно переноситься в любую точку пространства. Поэтому Черт у Достоевского постоянно рисует картины своих бесконечных полетов и перемещений в космическом пространстве.
В речах Черта у Достоевского есть даже аллюзии на письмо Пушкина Пестелю, в котором Пушкин упоминает о труде англичанина Гетчинсона, в котором, по словам Пушкина, тот уничтожает и без того «слабые доказательства бессмертия души»: «Ты хочешь знать, что я делаю – … беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu’il ne peut exister d’être intelligent, créateur et régulateur (фр.: „не может существовать высшего разума, Творца и управителя“), мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная» (А. С. Пушкин. Из письма к Пестелю).
По этому признанию Пушкина складывается впечатление, что и он в этот период своей жизни был «водим» чертом «между верой и безверием попеременно». А образованный критик Черт Достоевского – знаком и с этой страничкой русской эпистолярной литературы, как и с доказательствами Канта. Сам Достоевский, впрочем, глубоко изучал вопросы религиозных воззрений Пушкина. Как раз в этом же письме Пушкин говорит также и о жанровых пристрастиях в своем чтении: «Читаю Библию, святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира».
В своих «заботах» Черт Достоевского сходится во многом с Воландом Булгакова: «…седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено» (гл. 3). По логике этого возникшего старого нового жанра, седьмое доказательство существования Бога – это, собственно, доказательство существования дьявола, что звучит очень абсурдно, но зато в соответствии с логикой жанра евангелия от противного. Существует даже некое мнение, что «Мастер и Маргарита» – это и есть седьмое доказательство (якобы потому что после прочтения книги сомнений в том, что есть дьявол, уже не остается, это остроумное высказывание приписывают академику Д. Лихачеву). На самом деле, в главе «Седьмое доказательство» Булгаков лишь продолжает художественную традицию, которая идет от Достоевского и которая унаследована им, в свою очередь, от Пушкина и И. Гёте, в новое время первыми заставивших диалогизировать своих героев с Чертом (следуя, впрочем, еще более глубокой традиции, идущей от евангелистов Луки и Матфея, которые гораздо раньше «озвучили» диалог между Христом и дьяволом, а также следуя Книге Иова, в которой в одной из первых мы найдем диалог Бога и Сатаны). Если пойти еще вглубь создания антижанра, то там мы обнаружим и «демона» Сократа, о существовании которого тот заявлял как о субстанции, которая иногда заставляет его делать поступки, идущие вразрез с его убеждениями.
Однако, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» (Глава 9) даже сам Черт высказывает некоторое сомнение в правомерности постановки подобного вопроса: «И если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли бог»:
Иван:
– Уж и ты в бога не веришь?
Черт:
– То есть, как тебе это сказать, если ты только серьезно…
Иван:
– Есть бог или нет?
Черт:
– А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу не знаю, вот великое слово сказал.
Иван:
– Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты – я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!
Черт:
– То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана, – все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего довременно и единолично» (гл. 9).
Здесь диалог между Чертом и Иваном Карамазовым вдруг превращается в монолог. Тут Черт вдруг начинает произносить как бы внутренний монолог самого Ивана Карамазова, который обращен к нему же – к Черту, монолог из которого можно заключить, что Иван Федорович осознает, что они с Чертом одной философии и что Иван – последовательное развитие его «я», существующего довременно, и что он, Иван, – его эманация.
Черт:
«– Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.
Иван:
– Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есь.
Черт:
– Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле».
По законам жанра евангелия от сатаны вопрос о существовании Бога всегда будет сбиваться, собственно, на вопрос о существовании дьявола, ибо в жанре евангелия от сатаны все от противного и все «вверх тормашки».
Человекобог и богочеловек. Две ипостаси Иешуа. Люди, возомнившие себя богами, и бог, снизошедший до людей, – такая постановка вопроса – совсем по-достоевскому – звучит, как ни странно, у Толстого в «Анне Карениной» в его сцене, которая происходит в мастерской художника Михайлова (часть 5; XI), где поднят одновременно вопрос веры и неверия. В диалоге между мастером Михайловым и Голенищевым (который выступает здесь как критик), последний задает художнику вопрос: «А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог?» И сам же отвечает на свой вопрос применительно к картине художника Михайлова «Увещание Пилатом»: «Если вы позволите сделать это замечание… <…> Это то, что Он у вас человекобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели» («Анна Каренина» 5:XI).
В продолжение этого диалога у Толстого художник Михайлов объясняет Голенищеву свое видение образа Христа: «Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, – сказал Михайлов мрачно. – Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль… Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, не тронутую.
– Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?
– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений. А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог? и разрушает единство впечатления.
– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать. Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли» («Анна Каренина» 5:XI).
Вообще писать роман или картину о Богочеловеке невозможно. Интерес художника Михайлова как автора не в изображении Богочеловека, а в поиске человеческого в Сыне Божием. Это же можно сказать и о поисках булгаковского Мастера в своем романе о Понтии Пилате, а скорее романе о мессии (об этом отмечалось такими исследователями, как Г. Эльбаум и В. Лакшин). И Мастер у Булгакова размышлял о моральном выборе, об ответственности за слова и поступки, о человеке, о бессмертной душе человека и его предназначении, в том числе, и о самом совершенном человеке, которого и опознать-то никто не смог. Иешуа у Булгакова – человек, а не Сын Божий; он одинок (нет родителей, нет учеников и последователей); его Истина от мира сего, он проповедует веру в добрую волю человека. Но с другой стороны, делая Иешуа простым человеком, Мастер (а вместе с ним и Булгаков) усиливает мысль о способности человека достичь нравственного совершенства. Роман наполнен намеками, хотя Булгаков прямо не пишет о том, кто стоит на балконе дворца Ирода Великого, но это становится понятным «проницательному читателю» (очевидно, сам Воланд). Булгаков не пишет, кто стоит на галерке в театре Варьете и наблюдает сверху происходящую «человеческую комедию», которую разыгрывает на сцене дьявол Воланд (очевидно, это сам Бог с высоты «галерки» бросает реплику о том, чтобы вернуть оторванную голову на место).
Булгаковский человекобог Иешуа в «Мастере и Маргарите» пребывает в двух ипостасях: как реальный образ земного человека, очутившегося в необычных житейских обстоятельствах, и как эманация трансцендентного образа богочеловека – символ идеального вневременного бытия, соответствующий евангельскому сказанию. Булгаков развивает образ Иешуа от одной «ершалаимской» главы Мастера к другой постепенно – от простого человека до образа божества «света»: сначала в предчувствиях Пилата, потом в его же «лунном сне», потом во всей окраске разговора Пилата с Левием Матвеем, где его именуют «Тот». И, наконец, в финале романа Иешуа окончательно показан как Владыка «света». И здесь Булгаков в согласии и с Толстым и Достоевским, и Пушкиным, которые под совершенством подразумевали высшую мораль, противопоставленную у них западному идеалу сильной личности, нашедшей затем в новое время свое развитие в «сверхчеловеке» у Ницше. Рисуя своего Духа Зла, Булгаков не только прорисовывает демонический облик Воланда, но в этом образе мелькают у него также и проблески наполеонизма – через некоторые аллюзии, связанные с изображением Наполеона у Пушкина.
Воланд и комплекс демиурга (наполеонизма). Москва – третий Рим («…был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву»). Не случайно в «Мастере и Маргарите» присутствует сцена перед «отступлением» Воланда («Сейчас придет гроза, …, и мы тронемся в путь»; гл. 29), в которой тот наблюдает пожар в Москве с крыши старинного московского особняка: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев… Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг <…>: – А отчего этот дым там, на бульваре? – Это горит Грибоедов, – ответил Азазелло» (гл. 29).
В этой сцене Булгакова можно обнаружить ретроспективное звучание темы Москвы как столицы, испытавшей нашествие с Запада: «Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город». А образ Воланда сливается здесь с образом Наполеона перед отступлением из горящей Москвы, данный Булгаковым через призму его изображения Пушкиным в лирическом отступлении в «Евгении Онегине»: «Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. <…> Отселе, в думу погружен, Глядел на грозный пламень он <Наполеон> ” («Евгений Онегин»; 5:XXXVII).
В сцене Булгакова перед нами скорее именно Петровский замок с его округлой башней посреди террасы («…оба гаера …скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы»; гл. 29). Булгаковская сцена прощания Воланда с Москвой действительно скорее ассоциируется с ретроспективной пушкинской сценой бегства Наполеона из Москвы в «Евгении Онегине». И Воланд Булгакова тоже находится в подобной ситуации, которую пушкинский герой в лирическом отступлении передает как конец триумфа зла:
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок… (7:XXXVIII).
Петровский замок в эпизоде Булгакова тоже является свидетелем падшей славы (славы падшего ангела). Воланд, конечно, не осознает себя проигравшим в сражении добра и зла, он, «желая злая», тем «совершает благо», как известно, в некотором роде считая даже себя победителем. То грозовое облако, которое принесло нашествие бесов в Москву, это же облако и уносит их обратно на запад: «Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим во мгле» (гл. 29).
Подобную сцену, в которой черная туча накрыла Москву, мы видели также у Булгакова и в романе о Понтии Пилате, созданном Мастером. Та же самая туча накрыла и там священный город Ершалаим (Иерусалим). Параллелизм в описании сцен грозы как аллюзии конца мира относит нас на другой противоположный полюс мира, но история и там повторяется.
Когда Воланд говорит о Москве: «Какой интересный город, не правда ли?», Азазелло отвечает почтительно: «Мессир, мне больше нравится Рим!» (гл. 29). По этой реплике Азазелло мы можем себе представить, откуда, возможно, происхождение такого персонажа как Азазелло – в нем явно просвечивают итальянские корни. Само же замечание дает желание повнимательнее присмотреться к свите Воланда и поговорить о сути этих «фантастических» персонажей не только у Булгакова, но и у Пушкина и Достоевского.
Эвфемизмы черта
Таинственный визитер
…какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
А. С. Пушкин«Демон» (1823)
«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной».
М. А. Булгаков«Мастер и Маргарита» (гл. 13)
Дьявол и свита («В чьей свите я имею честь состоять…»). Итак, центр мироздания в таком повествовании как евангелие от сатаны смещается в сторону дьявола. Он возникает там, где границы жизни и смерти становятся преодолимыми. Тогда возникает он – герой, неизвестно откуда появляющийся как некий «незнакомец», «иностранец», «гость», «таинственный визитер», «гастролер». Крайнее воплощение смерти и зла, он может явиться под любой маской, в том числе и веселой, двойником любого персонажа из мира людей. Явление «маски», «двойника» и «двойничества» всегда возникает в художественном мире произведения там, где ослабевают границы миров. В романе Брюсова дьявол Мефистофелес в своих речах Фаусту лукаво трактует библейское (Моисеево) понимание человека как «подобие божие», подменяя его своим – как «изображение божие», то есть, маски: «…мы все изображаем что-нибудь: я – чародея, вы – ученого, которому ничто не мило. Всякий человек, согласно с Моисеем, только изображение божие» (В. Брюсов «Огненный ангел»; гл. 12)
По многим поверьям и легендам дьявол является, чтобы забрать с собой душу человека после смерти. Уже в древнем ритуале погребения понимание смерти рассматривалось как переход границы миров, а сама смерть как некий переходный период, в который все живое отделяется от мертвого (и мертвое от живого): происходит отделение человеческой души от тела, отделение имени человека от самого человека, что отражается и в многочисленных запретах в ритуале погребения. Так в похоронных плачах легко можно заметить, что вместо имени умершего скорее используется система метафорических замен (эвфемизмов). В обряде похорон запрещается часто произносить имя покойного, носимое им в свете. Тогда непременным условием погребального действа становится такое явление как «заместительство» покойного определенными участниками обряда, в ходе которого и происходит отделение мертвых от живых. И наоборот: «явившегося» из другого мира ассоциируют с фигурами мира живых (по принципу отражения в зеркале). «Он» становится отражен в различных фигурах-двойниках, которые воспроизводят «его» признаки и функции. Поэтому Дьявол часто не имеет собственного лица и мимикрирует в зависимости от обстановки, а имя его часто не называется и заменяется эвфемизмами, заместительными метафорами.
Существо эфемерное (некий гений, дух, тень), который способен воплощаться и снова развоплощаться, приобретая самые различные облики, в том числе и человеческий («какой-то злобный гений //Стал тайно навещать меня»), он может предварительно, еще до своего воплощения являться (например, девушкам в преддверии их замужества) – обычно в их снах (как Деве Марии или Татьяне Лариной в соответствующих «Снах» героинь Пушкина).
Бес – неустанный путешественник по мирам. Его «второе пришествие» неизбежно. Его не всегда узнают, поскольку каждый раз он надевает новую маску. Интересно заметить, что Пушкин, рассуждая о том, кем именно должен будет «вернуться» из путешествия его Онегин, надевавший на себя и демоническую маску в том числе, рассуждает так, как будто речь идёт не иначе как о «втором пришествии» Онегина-демона:
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной. (8:VIII)
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»
В мифах о пришествии дьявола ядро сюжетной схемы обычно составляет описание мести дьявола человеку: завлечения им в свои сети новых душ, ввержение в грехи, заключение договора о запродаже человеческой души, дальнейшее участие героя в шабашах и черных мессах, символически означающее служение дьяволу.
«Черт прибежал амуров с целым роем», – так Пушкин начинает в «Монахе» (1813) историю нашествия чертей («амуров») в монастырь – во главе с главным чертом (дьяволом), который ввергает монахов (людей веры) в самые отъявленные грехи. Дьявол и подвластная ему многочисленная рать чертей (демонов) всегда стремятся навредить человеку, доказывая богу несовершенство его творения. Они искушают человека, морочат его, строят ему козни.
В «Монахе» Пушкина Бес является в монастырь, как и Черт у Достоевского в «Братьях Карамазовых», который также – прежде чем предстать перед Иваном Карамазовым, сначала заявляется в Оптину Пустынь. Он всегда стремится к святым местам, где ему окажут наибольшее сопротивление духа. Воланд у Булгакова впервые появляется в Москве не где-нибудь, а на Патриарших прудах – название, которое говорит само за себя. Татьяне Лариной, впрочем, он тоже являлся вблизи церкви, когда она подавала бедным («Когда я бедным помогала //Или молитвой услаждала// Тоску волнуемой души. //И в это самое мгновенье //Не ты ли, милое виденье, //В прозрачной темноте мелькнул?» Татьяна принимает здесь демона Онегина своих снов за самого Онегина).
«Видение в прозрачной темноте» появляется и у Достоевского в романе «Братья Карамазовы» – как некий «гость» (один из самых устойчивых эвфемизмов для Черта): «Какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен». Рассказчик в романе шесть раз иронически именует его «джентльменом» (еще один эвфемизм для Черта). Он уподобляет его «приживальщику хорошего тона», которого все принимают за «порядочного человека». Достоевский при этом использует широчайшую систему метафорических замен (эвфемизмов) для черта. Впоследствии эти имена начинает употреблять и сам Иван Карамазов. Устойчивые эвфемизмы для Черта: «Приживальщик» и «шут!» – напоминают Ивану о его отце – Федоре Павловиче Карамазове, другие же имена – «осел», «лакей» – напоминают ему о Смердякове. Иван Карамазов так и воспринимает Черта – как некоего приживальщика (не имеющего своего дома), а сам Черт в описании Достоевского напоминает некого отставшего гастролера. (Вспомним, что шут Коровьев-Фагот у Булгакова тоже «в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы»).
Гастролирует и черт Воланд со всей своей свитой: «А я только что сию минуту приехал в Москву», – говорит он и, по какой-то уже сложившейся в этом жанре традиции быть приживальщиком, воинственно заявляет, что собирается жить в квартире Берлиоза. Черт всегда стремится заполнить создавшуюся пустоту и поселиться в пустом доме, что в христианской мифопоэтике означает пустоту духовной жизни, поэтому духовный дом человека не должен быть пуст. (У Булгакова обыгрывается в этом плане фамилия его героя – поэта и атеиста Ивана Бездомного. Если рассматривать происхождение имен литературных героев с точки зрения их духовной родины и небесной топонимики их проживания, то Онегин, Ленский и Печорин, например, обитают в этой розе миров где-то на территории, которая будет небесной проекцией таковой между русскими реками и озерами – Онегой, Леной и Печерой, то для Ивана Бездомного там даже нет соответствующего «дома»).
По какой-то недоступной человеческому разуму логике, Добро и Зло всегда устремляются одновременно туда, где образовалась пустота, но человек сам иногда дает повод для того, чтобы Зло в виде черта или дьявола поселилось в его доме. Такая логика христианской мифопоэтики становится сюжетообразующей и у Булгакова, развивая мотив «нехорошей квартиры» в романе «Мастер и Маргарита».
Рыцарская армия бесов («Черт прибежал амуров с целым роем»). Осуществляя соблазн, Сатана пользуется услугами свиты своих бесов. Собственно, еще у Данте в «Божественной комедии» в Песнях XXI – XXII «Ада» мы видим армию бесов, которые становятся проводниками Данте и Вергилия в Круге Восьмом, где «нет пути» (ср. у Пушкина во «Сне Татьяны» – «дороги нет»), так как шестой мост, построенный дьяволом-ваятелем, оказывается обрушен:
И недругов увидев грозный счет,
И я всем телом, ждущим обороны,
Прильнул к вождю и пристально следил,
Как злобен облик их и взгляд каленый.
Нагнув багор, бес бесу говорил:
«Что, если бы его пощупать с тыла?»
Тот отвечал: «Вот, вот, да так, чтоб взвыл!»
Но демон, тот, который вышел было,
Чтоб разговор с вождем моим вести,
Его окликнул: «Тише, Тормошило!»
Потом сказал нам: «Дальше не пройти
Вам этим гребнем; и пытать бесплодно:
Шестой обрушен мост, и нет пути.
Данте А. «Божественная комедия» (Песнь XXI)Пер. с итал. М. Лозинского
Старший дьявол в этой сцене призывает всю свою армию на подмогу путешественникам в их опасном путешествии: «Не бойтесь их, идите с ними смело». При этом каждого из бесов (воинов зла) можно узнать по его боевому характеру – по тем кличкам, которыми они, словно псы, прозваны в Аду, и которыми их называет старший дьявол:
«Эй, Косокрыл, и ты, Старик, в поход! —
Он начал говорить. – И ты, Собака;
А Борода десятником пойдет.
В придачу к ним Дракон и Забияка,
Клыкастый Боров и Собачий Зуд,
Да Рыжик лютый, да еще Кривляка».
Данте А. «Божественная комедия» (Песнь XXI)Пер. с итал. М. Лозинского
«Рыжик Лютый, да ещё Кривляка» – узнаются также и в другой свите – в свите Воланда, своеобразно трансформировавшиеся в романе Булгакова в кривляку Фагота-Коровьева и рыжего Азазелло, неожиданного соседа Маргариты по скамейке в Александровском парке: «Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком» (гл. 19). «Совершенно разбойничья рожа!» – подумала Маргарита, вглядываясь в своего уличного собеседника» (гл. 19), хотя он и пытается «щеголять несколько иной маской»: «в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстук был яркий» (гл. 19). Однако то, что он только что с панихиды (поминок), выдают некоторые детали: «Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость» (гл. 19).
Свита Воланда является Степе Лиходееву, возникнув ниоткуда – из зеркала, откуда сначала выступил Коровьев-Фагот, а следом за ним – Бегемот, затем «случилось четвертое, и последнее, явление в квартире… Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий…». К этой «труппе» присоединяется и четвертый – Азазелло. Эти «явления» у Булгакова происходят обычно в той последовательности, в какой происходило и их первое появление на Патриарших прудах, где также за Воландом возник сначала Коровьев-Фагот, а затем и Кот Бегемот.
«Миссии» бесов четко распределены у Булгакова. Азазелло получает, очевидно, задание встретиться с Маргаритой и вручить ей волшебный крем для преображения в ведьму (присутствие Маргариты-ведьмы, то есть, посредницы между дьяволом и людьми, необходимо было Воланду, особенно в сцене вершимого им суда и кары, как свидетеля от живых людей – из некой справедливости им нужен свидетель именно из общества людей и, как мы это узнаем у Булгакова, желательно, королевской крови). Миссией Коровьева-Фагота было уговорить Маргариту принять «королевский венец» сатаны во время бала (и поскольку он с легкостью этого добился, – «рыцарь свой счет оплатил и закрыл!»; гл. 30). Последней и замыкающей группу Воланда в Москве была служанка Гелла (ведьма-вампир, олицетворение служанки изменчивой Фортуны, отвернувшейся от человека).
Пятый персонаж в свите Воланда – Абадонна, он апокалиптический персонаж, появляющийся как призрак смерти. Очки Абадонны – деталь символическая («Эти очки почему-то произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда»). Дважды в романе Абадонна снимает свои очки, заставляя жертву посмотреть в свои лаза – то есть, в глаза смерти. Дважды его взгляд подобен взгляду самой Смерти как разящей стрелы: сначала он убивает этим взглядом женщину на глобусе, затем – барона Майгеля на балу. Это также эсхатологический персонаж, который действует только в «пятом измерении». Пока не наступили последние времена, он не появляется в земных пределах, но незримо сопутствует всем войнам, катаклизмам и массовым смертям.
Шут Арлекин как шарж на рыцаря («На жизнь насмешливо глядел»). Абадонна у Булгакова чем-то внешне напоминает Фагота-Коровьева: та же худоба, те же очки и та же подвижность Арлекина. Традиция разыгрывать чертом Арлекина (разбитного шута и слугу), показанная у Достоевского в его знаменитой сцене с чертом, восходит еще к пушкинскому Мефистофелю в «Сцене из Фауста» (1825), где тот выдает свое карнавальное «прошлое»: «Как Арлекина из огня //Ты вызвал, наконец, меня», – говорит пушкинский Бес Мефистофель Фаусту, ассоциируя себя с персонажем итальянской Комедии дель Арте (истоки которой надо искать в карнавальной традиции). Изначально в Комедии дель Арте Арлекин – это шут в клетчатых штанах и с бородкой, которая торчит у него из-под маски. Он представляет собой шарж на рыцаря, латы которого немного поизносились с легендарных времен его подвигов. У Достоевского об этих подвигах Черта-Арлекина напоминает только перстень с опалом (можно предположить, за какие заслуги).
Арлекин не случайно вплетается у Достоевского в русскую современность середины XIX века. Иван Карамазов называет своего «гостя» «шутом и дураком». Этот образ некоего шута и гастролера затем подхватывает также и М. Булгаков, у которого, как и Черт у Достоевского, его Воланд – черный маг, импровизатор и гастролер – выступает в варьете с сеансами магии (у Пушкина, впрочем, в «Монахе» бес тоже назван «подземный чародей»).
У Булгакова его инфернальные герои также выдают свою принадлежность к карнавально-площадной смеховой культуре. «Ярмарочная площадь», «балаган», «дешевые фокусы», «шут гороховый», «окаянный ганс» и т. д. – все это те образы и характеристики карнавальной культуры, которые Воланд упоминает в сцене с Котом Бегемотом, спрятавшимся под кроватью при появлении Маргариты: «Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? – притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд. <…>. Оставь эти дешевые фокусы для Варьете. <…> Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный ганс! <…>. Нет, я видеть не могу этого шута горохового» (гл. 22).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































