Текст книги "Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III"
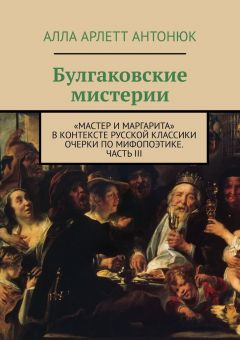
Автор книги: Алла Антонюк
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого писания: это – лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость одностороння, а истину можно повернуть любой гранью!
(Из речей Мефистофелеса Фаусту).В. Брюсов «Огненный ангел» (гл. 13)
«Новая метода-с!»
Ф. М. Достоевский.«Братья Карамазовы»
Земное-временное и небесно-метафизически-вечное. Сочетание двух планов изображения жизни и смерти: земного-временного и небесно-метафизически-вечного оправдывает у Булгакова и роль Воланда (как и роль Мефистофеля у Гёте и у Пушкина) – как той «вечной силы», «всегда желавшей зла, творившей лишь благое» – ведь в мистериальном целом произведений Булгакова и Гёте, и Мефистофель и Воланд являются средством осуществления божественного Промысла – призванные спровоцировать страдание человека и через это страдание очистить его душу.
У Булгакова многократно подчеркнута в романе значимость и очистительная сила зла. «Не будешь ли ты так добр, подумать над вопросом: что делало бы твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?» – спрашивает Воланд Левия Матвея. Булгаков заимствует этот постулат (как и Гёте в свое время), у иудейских религиозных мыслителей и средневековых каббалистов. Но еще в Книге Иова звучал этот постулат: «Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres» («Неужели добро мы будем принимать от Бога, а зло не будем принимать? И в этом не погрешил Иов устами своими»; перевод с фр. наш – А.-А. А).
Вспомним, как Мастер у Булгакова обрел свою первую идиллию: тогда судьба неожиданно проявила к нему свою благосклонность – вдруг он выигрывает в лотерею сто тысяч рублей, на которые он смог купить себе квартирку в подвальчике московского особняка, где затем он писал свой любимый роман и полюбил Маргариту. В какой-то момент этой идиллии Мастера Фортуна стала проявлять свою «ускользающую» природу. Рассказ Мастера о потерях, которые вдруг настигли его, можно сравнить разве что с рассказом библейского Иова о тех бедствиях, которые наслал на него Сатана (Satan), отняв у него все то, что тот имел в жизни благодаря Богу: дом, скот, здоровье, детей. Иов ничего не знает о замыслах Бога и Сатаны (как провокатора «сделки» с Богом). В какой-то момент, раздосадованный, он начинает роптать на Бога. Эту линию вопиющего от горя и восстающего на Бога героя продолжает в русской литературе образ пушкинского бедного Евгения в «Медном всаднике», где «безумец бедный» Евгений восстает против небесных сил.
Мастер Булгакова, как и «бедный» Иов из библейской Книги Иова (а также «безумец бедный» Евгений из поэмы Пушкина «Медный всадник»), тоже неожиданно теряет все в своей жизни. Сначала покой из-за своего романа, не найдя признания в литературных кругах, потом сам роман, сжигая его в печке, затем теряет свою возлюбленную Маргариту, ушедшую в ночь и оставившую его одного буквально перед самым арестом. Выигранные деньги его давно закончились. И, в конце концов, он лишается и своего дома – в результате темного заговора своего странного друга с застройщиком квартирки, купленной на Арбате. Когда Мастера выпускают из-под ареста, в его квартиру уже вселился его «друг» -доносчик. Мастер лишается своего последнего пристанища и сам становится «Иваном Бездомным».
Исповедь Мастера о том, как он дошел до психиатрической лечебницы, – поистине «вопль» бедного Иова (но только без единого упрека в адрес Бога). Мастер оказался под арестом, а затем в психиатрической клинике, а бандиты, решившие его «квартирный вопрос», не только были на свободе, но и владели его квартирой. Зло окончательно как бы побеждает в этой ситуации, в которой оказывается Мастер.
Какие силы (какие «ведомства») стоят за бедствиями, которые выпали на долю бедного Иова? А в случае с «бедным» Евгением? Или в случае с «бедным» Мастером? В жанре «евангелия от Сатаны» всегда есть завеса и тайна, кто именно стоит за роковыми событиями, в водоворот которых ввергается ищущий истину герой.
Отрицание зла («…злых людей нет на свете»). Проповедь добра. В то время как Мастер Булгакова страдает в психиатрической клинике, герой написанного им романа, бедный философ Иешуа – также под арестом, и его судят вместе с разбойниками: Дисмасом, Гестасом и Варравваном. Иешуа также в ситуации, когда Зло окончательно побеждает Добро. Но Иешуа, как и Мастер, не ропщет. Иешуа продолжает проповедовать Добро и утверждает, что Зла нет («злых людей нет»). На допросе у прокуратора Понтия Пилата он не отступает от своей линии (Пилату он представляется всего лишь бедным и безумным философом):
Прокуратор:
– Не знаешь ли ты таких: некоего Дисмаса, другого – Гестаса и третьего – Варраввана?
Иешуа:
– Этих добрых людей я не знаю.
Прокуратор:
– Правда?
Иешуа:
– Правда.
Прокуратор:
– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
Иешуа:
– Всех, злых людей нет на свете.
Прокуратор:
– Впервые слышу об этом, но, может быть, я мало знаю жизнь! В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
Иешуа:
– Нет, я своим умом дошел до этого.
Прокуратор:
– И ты проповедуешь это?
Иешуа:
– Да.
Проповедь и отповедь. Очистительная сила зла («Каждое ведомство должно заниматься своими делами»). Иешуа у Булгакова непреклонен в своей проповеди Добра и отрицании Зла, и в этом он противостоит дьяволу Воланду, которой дает отповедь Добру («что делало бы твое добро, если бы не существовало зла?»). Левий Матвей, сторонник сил Света и Добра, не случайно называет Воланда «старым софистом», искусно оправдывающим Зло и приписывающим ему некую «очистительную» силу. Здесь мы найдем у Булгакова отголоски жанра «сократических диалогов» (не зря Пилат спрашивает Иешуа, в какой из греческих книг он прочитал проповедуемые им мудрости, возможно, намекая и на самого греческого философа Сократа).
Мы найдем также здесь и скрытую реминисценцию из «Сцены из Фауста» Пушкина (1825), где с той же интонацией упрека, что и у Воланда («что делало бы твое добро, если бы не существовало зла?») пушкинский Мефистофель (называя Фауста «философ мой») пытается доказать ему свою правду: «Не правда ль? Но нельзя ль узнать… Кого изволишь…»; «Скажи, когда ты не скучал?… Тогда ли… Как…?». С этими интонациями «философа» (софиста), повторяющимися затем и у булгаковского Воланда, Мефистофель у Пушкина также упрекает Фауста в некоторой неблагодарности, лукаво вопрошая его, что делал бы он – пресытившийся жизнью господин, если бы не он – Мефистофель, дух зла и «адское творенье»:
Но – помнится…
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался…
А. С. Пушкин. «Сцена из Фауста» (1825)
Другой предшественник Воланда и последователь Мефистофеля в родословной духов зла – Черт в «Братьях Карамазовых» Достоевского, явившийся Ивану Карамазову, еще более искусен как софист в своих рассуждениях о Добре и Зле. Он вступает в спор с самим Гёте, скептически обыгрывая высказывание немецкого классика о том, что Зло – лишь часть Добра и что одно без другого существовать не могут, что, по мнению Черта, явившегося Ивану Карамазову, саму мысль о Добре и Зле доводит до абсурда. Черт у Достоевского готов даже якобы принять мир без зла и сам, в свою очередь, доходит до абсурдной мысли, – что якобы он сам должен быть уничтожен как олицетворение зла, но… не он создавал этот мир: «Вот и служу скрепя сердце, … и творю неразумное по приказу» («Братья Карамазовы», гл. 9). Черт у Достоевского признает над собой силу, которой он не может якобы противостоять и не творить зло («творю неразумное по приказу»), поскольку признается Ивану Карамазову, что сам Бог ему «приказывает». Здесь у Черта Достоевского мы обнаруживаем совершенно дьявольскую софистику со всеми возможными подменами понятий. В одной мысли, однако, Черт Достоевского сходится с Гёте – в той части, что есть некая завеса и тайна в решениях, принимаемых высшими силами в судьбе человека.
Учение Христа о добре и правде, записанное его учениками в «Евангелиях от…» Матфея, Луки, Марка и Иоанна – это, прежде всего, проповедь Добра как самостоятельной силы, которая не нуждается в соотнесении его со Злом.
Рассказ о событиях священной истории от лица Беса-искусителя требует от художника иного подхода к изображению Добра и Зла в создаваемом жанре. Если «Бытие» от Моисея и «Евангелие» от Матфея, Луки, Марка, Иоанна – это проповедь, то «Евангелие» от Беса-искусителя – это всегда будет отповедь. В ней можно найти также отражение Слова Божия и проповеди Христа, но довольно своеобразно, – скорее, как в кривом зеркале. Понятия Добра и Зла в жанре от противного могут существовать лишь относительно одно другого – по принципу противоположностей в зеркале.
«С рассказом Моисея //Не соглашу рассказа моего», – говорит Змей-искуситель в «Гавриилиаде» Пушкина. Уже у Пушкина мы можем найти те кривые зеркала (обратно-симметричного отражения в отповеди мотивов евангельской проповеди), которые мы встречаем затем у Пушкина в его «Сцене из Фауста» (1825), а также в отповеди Онегина Татьяне в «Евгении Онегине». Можно считать Пушкина одним из первых, кто экспериментировал в жанре отповеди (евангелия от сатаны), – не только в русской, но и в мировой литературе (такие его произведения как баллада «Монах» (1813), стихотворение «Тень Фонвизина» (1815), «Гавриилиада» (1821) были написаны даже раньше, чем была переведена на русский язык трагедия Гёте «Фауст»; 1828).
Драма и мистерия. Немецкий классик Иоганн Вольфганг Гёте в своей трагедии «Фауст», развивая новый жанр «евангелия от сатаны», основывается на памяти «старого» – на эпизодах из библии (следуя также традициям гностицизма, некоторым идеям эзотерического учения иудаизма, т.е. каббалы, и некоторым положениям масонства). В «Прологе на небесах» Гёте, снова после библейской Сцены в Раю Моисея (Бог и Змей-искуситель у подножия Древа Жизни), снова после Сцены на небесах в Книге Иова, переносит в Рай героев своего пролога – Бога и Дьявола (туда, где, собственно, изначально и было совершено искушение Змием первого человека – в эпизоде истории грехопадения). Из «Пролога» Гёте мы узнаем, что Бог отправляет своим посланником на землю в Новый Свет не ангела (серафима), а Беса Мефистофеля, позволяя ему, собственно, творить новую историю человека и человечества (и будучи ее свидетелем, повествовать затем о ней от своего лица). «Пролог на небесах» с участием Господа, архангелов и Мефистофеля превращает трагедию И. Гёте в «представление в представлении» и придает ее тексту значение священной мистерии. Сама трагедия гётевского героя Фауста приобретает здесь также форму мистерии и двойной план значения испытаний для человека – земной и небесный. После «Пролога на небесах» небесные силы у Гёте нигде уже больше не вмешиваются в дальнейшую судьбу Фауста – его борьбу, искания, сомнения и скитания, он практически покинут Богом и должен один на один смотреть в глаза Мефистофелю, представителю темной силы и олицетворению сил Зла.
Трагедия и комедия. Мистерия и буффонада. Итальянский поэт Данте Алигьери, во времена которого возрождался интерес к античному искусству, назвал свое произведение «Божественная комедия», скорее всего, в дань тогдашней философской моде на «Поэтику» Аристотеля. Аристотель понимал комедию как жанр, в котором сюжет должен развиваться от трагичного положения героя в мире к его оптимистическому концу (соответственно, трагедия по Аристотелю – это жанр, развивающийся в обратном направлении – от веселого и оптимистического созерцания жизни к грустному и пессимистичному концу, к трагедии героя, то есть, собственно, к его смерти).
Показывая развитие трагедии как жанр и сравнивая его с комедией, Аристотель в «Поэтике» отметил, что происхождение обоих жанров имеет непосредственное отношение к древнему греческому уличному театру с его хором и корифеем хора (запевалой): трагедия и комедия свое происхождение ведут: «первая <трагедия> – от запевал дифирамба, а вторая <комедия> – от запевал фаллических песен». Под «фаллическими песнями» Аристотель, очевидно, имел в виду те задорные песнопения, которые исполнялись во время процессий в честь бога Диониса (дионисии), во время которых несли также «фаллос» как символ плодородия. Аристотель тут же отмечает, что эти песнопения («фаллические песни») сохранились с древних времен и были употребительны даже в его время во многих городах. Показывая дальнейшее развитие трагедии и комедии как противоположных жанров, античный автор «Поэтики» отмечал, что Эсхил ввел в хоры первого актера, который мог вести разговор с запевалой, прерываемый песнями хора, он «уменьшил партии хора и на первое место поставил диалог, а Софокл ввел в представление трех актеров и декорации». Интересно отметить взгляд Аристотеля на происхождение диалога трагедий («серьезный» диалог), он считал, что диалог трагедии обязан своему происхождению из «шутливого диалога» двух актеров («так как он родился из сатировской драмы»).
И. Гёте, как думается, не случайно, но именно ориентируясь на Данте, противопоставил и сместил жанровый акцент своей драмы «Фауст», назвав её трагедией» («Faust. Eine Tragödie»). На самом деле, оба произведения мировой классики Данте и Гёте являются мистериями, жанром, в котором человеческая «комедия» (драма с хорошим концом) и человеческая «трагедия» (драма с трагическим концом) взаимодополняют друг друга, и в котором проявления добра и зла органически взаимосвязаны между собой.
Мистерия как драматическое зрелище, разворачивавшееся во время средневековых религиозных праздников прямо на паперти перед церковью, это драма на библейский сюжет. Впоследствии, там же, на городских подмостках и на папертях (прямо на тротуаре – ср. фр. слово партер/«par terre» – «на земле») разворачивался и средневековый карнавал. Часто две процессии – карнавальная и церковная (религиозная), двигаясь навстречу друг другу, встречались, перемешиваясь в толпе и вступая в фамильярный диалог, который впоследствии стал родоначальником новых смешанных литературных жанров.
Но историческая память классической мистерии с ее драматическими диалогами имеет свои глубокие корни еще в античности – в литературных диалогах Сократа (которого можно считать основателем синкретического философского жанра, названного в его честь «сократическим диалогом»). «Сократический диалог», начало которому было положено в античные времена в литературном творчестве Лукиана и Мениппа, получил дальнейшее свое развитие в лоне священных драматических мистерий, разыгрываемых на паперти во время церковных праздников, а испытав влияние стихии карнавала, превратился в жанр синкретический. От этого нового синкретического карнавализованного жанра ответвился впоследствии такой его поджанр как «дьяблерия» – карнавализованная мистерия с ее карнавализованными образами мистерийных (буффонных) чертей.
Буффонада, фарсовое сценическое представление, построенное на смешных положениях (от итал. buffonata – шутка, фарс, выходка), вызревала как раз внутри карнавализованной мистерии, но в XV веке обрела свою полную жанровую независимость. В следующем столетии буффонада как жанр стала одним из господствующих жанров в театре и литературе (жанр комической оперы стал так и называться – «опера-буфф»). Совершенно благополучно дойдя до наших дней, приёмы фарсовой буффонады бережно сохранились в наше время, например, в цирковой клоунаде.
Мистерия призвана напомнить нам о «вселенском конфликте» сил Добра и Зла, происходящем «за кулисами», и о котором мы ничего обычно не знаем. Когда же силы Добра и Зла сходятся на единственно возможном поле битвы – в душе человека, – человечество способно и посмеяться над своим поражением и осознать его как трагикомедию (смех сквозь слезы). Мистерия (впоследствии карнавализованная мистерия) – есть, скорее, трагикомедия. Принято, например, называть трагедиями четыре небольших пьесы Пушкина «Маленькие трагедии». Однако, сам Пушкин назвал одну из пьес этого цикла – «Скупой рыцарь» – трагикомедией (Сцены из ченстоновой трагикомедии «The Covetuos knight»), подчеркнув синкретизм жанра своего произведения.
В свое время В. В. Маяковский назвал театральное представление, в котором сатирически обрисовал буржуазию в новое революционное время, – «Мистерия-буфф». Действие этого спектакля, поставленного Вс. Мейерхольдом по пьесе Маяковского и оформленного художником Казимиром Малевичем, происходит и на небе, и на земле, и в преисподней – с ее мистерийными чертями. Сам Маяковский играл в спектакле роль Человека Просто, а в отсутствие актеров исполнял роль ангела Мафусаила и даже одного из чертей. Так приёмы фарсовой буффонады через театральное действо сохранились в современной культуре и литературе, благополучно дойдя до наших дней.
«Гастроли» Воланда в «Мастере и Маргарите» – есть ничто иное, как отражение в творчестве Булгакова глубинных корней жанра театральной буффонады, которая, в свою очередь, уходит корнями еще глубже – в карнавализованные дьяблерии.
Жанр метафизических вопросов. Каждое поколение классиков, осваивавших этот новый древний жанр – «евангелие от сатаны», старались постепенно и поочередно разрешать «неразрешимые задачи» и вопросы. Неразрешимые они потому, что большей частью – это метафизические вопросы, которые неподвластны человеческому разуму. Таким образом, жанр евангелия от сатаны ставит метафизические вопросы, но ставит их способом от противного.
Основной упрек, который бросают силы Зла Богу, звучит в романе Достоевского «Братья Карамазовы» во вставной «Легенде о Великом инквизиторе»: «Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил мучениями душевное царство человека вовеки». По мнению сил Зла, Бог оставил людей. Так имеет ли право его Сын на свое второе пришествие? «Невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач», – упрекает Христа Великий инквизитор. По замыслу Достоевского, это и есть главный упрек Христу, брошенный ему в его второе пришествие, и выраженный папским инквизитором – представителем божественной власти на земле.
Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова как вершина жанра антиевангелия (жанра, берущего свое начало еще в «сократических диалогах» и эволюционировавшего до карнавализованной мистерии и «менипповой сатиры» – мениппеи и мистерии-буфф, – развивает тему борьбы метафизического (вселенского) Добра и Зла по всем законам этого жанра. При этом в поиске истины его герои все время вступают в фарсовый диалог со сниженными героями дьяблерии.
Средневековая мистерия в ходе сложной эволюции окончательно сблизилась со временем с античной мениппеей, в которой действие происходило не только «здесь» и «сейчас», а во всем мире и в вечности: на земле, в преисподней и на небе. Более того, мистерия как результат эволюции жанров, и есть ничто иное как видоизмененный средневековый драматургический вариант мениппеи.
Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита», c одной стороны, поддерживает сюжетную линию Евангелия и законы сложной мистериальной драмы. С другой стороны, его герои обитают не только на земле, но проходят и преисподнюю, а затем поднимаются на небо и даже обретают вечность – то есть, по всем законам античной мениппеи.
Доказательства бытия
«…эти миры, бог и даже сам сатана,
– все это для меня не доказано».
(Черт – Ивану Карамазову).
«Цель твоего появления уверить меня, что ты есь».
(Иван Карамазов – Черту).Ф. М. Достоевский.«Братья Карамазовы» (гл. 9)
«Тот свет и материальные доказательства, ай-люли!» Если в диалоге с бродячим философом Иешуа, который у Булгакова поддерживает сюжетную линию евангелия, рефреном повторяются слова «Поверь мне, добрый человек», то диалог Ивана Карамазова с Чертом в романе Достоевского (соответственно, отнесем его к линии анти-евангелия) начинается словами Карамазова: «Так я тебе и поверил». Евангелие от сатаны часто изобилует ложными смыслами, недостойными веры, поскольку его главный герой – черт – всегда лукавит и уже изначально по своей сути – обманщик и клеветник. Одна из его целей – ввести в заблуждение человека: «Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель», – говорит Черт Ивану Карамазову.
Евангелие от сатаны получает в наследство от поэтики и проблематики канонов Евангелия множество прозвучавших в нем вопросов. Дополнительно ко всем этим вопросам в евангелии от сатаны добавляется еще один вопрос – о существовании Бога (вопрос, который как таковой отсутствует в Евангелии, поскольку евангелие – это и есть Слово Божие).
В жанре от противного всегда будут вестись споры и возникнет необходимость доказательств существования Бога. Этот вопрос лукаво и провокационно будет задавать героям сам Черт. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» Черт, который, по сути, является автором вставной «Легенды о Великом инквизиторе» (это он продиктовал эту кощунственную легенду сознанию Ивана Карамазова), явившись Ивану в очередной раз в критический момент его жизни, снова поднимает в разговоре с ним тему доказательств существования Бога и, смеясь над Иваном и вообще над материалистами, которые нематериальное (спиритуальное, идеалистическое, фантастическое) хотят доказать с помощью критериев материального мира, словно шут Арлекин, который ходит на голове, переворачивает своими софизмами все понятия с ног на голову: «Тот свет и материальные доказательства, ай-люли!»; «…В вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные», смеясь говорит Черт Ивану Карамазову.
Воланд у Булгакова вторит Черту Достоевского, заявляя Ивану Бездомному: «И доказательств никаких не требуется» (намекая на свое собственное существование, а под доказательствами Бога подразумевает, на самом деле, доказательства существования дьявола – то есть, себя самого). В антижанре доказательства существования бога всегда будут лукаво сбиваться на доказательства существования дьявола.
Свидетелями существования Бога были только Адам и Ева. Но они были лишены божественного присутствия, и их сознательная жизнь на земле проходила уже без Бога. С тех пор человечество разделилось на тех, кто помнит о божественном присутствии, и тех, кто в суете «мирской» жизни забыл о нем. Люди, помнящие Его свет, вынуждены доказывать другой половине человечества Его существование. В своих философских науках человечество выработало даже пять доказательств существования Бога, что – вслед за Достоевским в «Братьях Карамазовых» – становится также мотивом сюжета в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
Этот ключевой вопрос в романе Булгакова задает героям сам Воланд (называемый в этом эпизоде романа то «неизвестным», то «профессором», то «иностранцем», то «заграничным гостем»): «Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? … И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, …потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком» (гл. 1).
Пять доказательств бытия божия («…коих, как известно, существует ровно пять»). Эта сцена, в которой Воланд прибегает к доказательству существования силы, управляющей жизнью мира (выдвинутому в свое время Фомой Аквинским), на самом деле сбивается на доказательство существования силы, которая управляет смертью. Эта булгаковская сцена имеет свои корни в другой, уже упоминавшейся нами, сцене – в Главе 9 романа «Братья Карамазовы», где Черт Достоевского (так же как и Воланд Булгакова, который глумится над Иваном Бездомным), – хочет доказать Ивану Карамазову свое существование («Цель твоего появления уверить меня, что ты есь», – говорит Иван Федорович).
Если Воланд ищет доказательств «материальных», в качестве такого доказательства предъявляя голову редактора Берлиоза, отрезанную трамваем (просто программирует его смерть, играя при этом, как игрушками, расположением планет), то Черт у Достоевского более идеалист. Он доказывает свое существование по своей «методе», говоря Ивану: «Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с!». Черт у Достоевского очень легко доказывает свое существование, потому что у него «метода-с!». Он берет философский постулат Декарта «Je pense donc je suis» («Мыслю, следовательно, существую», фр.), и переиначивает его смысл, так сказать, методом от противного: «Поскольку я – существо мыслящее, значит, я существую», – доказывает он, полагая при этом себя существом мыслящим – sapience (в отличие от homo sapience – человека, над которым он постоянно глумится как над существом неразумным), и на этом основании Черт у Достоевского в качестве доказательства своего существования делает логический вывод: раз я мыслю, значит, я (черт) существую.
Тема доказательств Бога получает в антижанре свое развитие, обрастая от произведения к произведению все новыми легендами и мифами и получая даже нумерацию доказательств, словно нумерацию глав, подобно какому-нибудь художественному произведению. У Булгакова Воланд напоминает поэту Ивану Бездомному и председателю московского литобъединения Михаилу Берлиозу о существующих пяти доказательств (Фомы Аквинского): «Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может» (гл.1).
Шестое доказательство («Доказательство Канта… также неубедительно»). Шестое доказательство существования Бога, как известно из философии, вывел немецкий философ-идеалист Иммануил Кант – «этическое доказательство» бытия сверхчувственного мира, которое исходит из объективного существования морали и этических законов, регулирующих поведение человеческих существ.
Тема шестого доказательства становится темой художественных произведений Достоевского и Булгакова. Еще до Булгакова речь о шестом доказательстве Бога идет у Достоевского в Главе 9 «Братьев Карамазовых» – в диалоге Черта с Иваном Карамазовым. Булгаков подхватывает и развивает этот мотив доказательств в «Мастере и Маргарите», в котором у него, так же как и у Достоевского, много игровых и смеховых элементов, происходящих из оксюморонов, которыми сыплет Черт (а затем и Воланд у Булгакова). Стилистическая фигура оксюморон – сочетание слов с противоположным значением, сочетая несочетаемое, дает в результате сильный смеховой эффект, и именно этим эффектом и пользуется остроумный черт у Достоевского, глумясь над homo sapience.
Воланд у Булгакова, также как и Черт Достоевского, поднимает вопрос о шестом доказательстве, которое приписывают Иммануилу Канту: «Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством» (гл. 1).
Беседы за завтраком с Кантом, Сократом и царем Соломоном («Ведь говорил я ему тогда за завтраком…»). Если Сократ утверждал, что поступки человека в самых важных случаях жизни определены неким внутренним «демоном», который отклоняет иногда человека от его намерений (хотя и не принуждает к чему бы то ни было), то Кант заявил о существовании в сознании человека некой обратной субстанции, которая позволяет ему иметь благие намерения и совершать благие поступки (совершать благо) – и вне зависимости от материальных поощрений, которые бы стимулировали его поведение при этом. По Канту, человек в своих поступках и действиях руководствуется часто ценностями, которые не принадлежат материальному миру, а принадлежат миру сверхчувственному. И это стало у него доказательством существования Бога как высшей субстанции, определяющей поведение человека в данном случае.
В сцене Булгакова Воланд демонстрирует, что он находится в неком фамильярном контакте с Кантом, называя его «стариком Иммануилом»: «Ведь говорил я ему тогда за завтраком: „Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут“. Берлиоз выпучил глаза. „За завтраком… Канту?.. Что это он плетет?“ – подумал он» (гл. 1).
Эта характерная для дьявола черта – намекать на свой непосредственный контакт с миром теней, в котором он, собственно, и пребывает вечно, откуда он, собственно, и явился и где действительно не мудрено встретить не только тень Канта, но и множество других теней знаменитостей, – этот мотив встречается как устойчивый во многих, недалеко отстоящих по дате создания от «Мастера и Маргариты» произведениях, например, серебряного века. Мы можем встретить этот мотив и в романе Брюсова «Огненный ангел», где в сцене знакомства с главным героем (у Кельнского собора) его черт Мефистофелес намекает герою на то, что знал самого царя Соломона, построившего соборную церковь. У Брюсова черт Мефистофелес также фамильярно называет царя Соломона «стариком»: «Как измельчали люди! Храм Соломона был не меньше этого <кельнского>, а построен всего в семь с половиною лет! Впрочем, и то сказать: работали на старика не одни рабы, но и духи стихийные. Бывало, пригрозит им перстнем, а они от ужаса дрожат, как листья осенью». С изумлением посмотрел я на того, кто о царе-Псалмопевце говорил, словно о человеке, лично знакомом» («Огненный ангел», гл. 2:II).









































