Текст книги "Движение литературы. Том I"
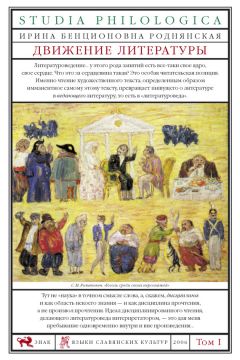
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Примечательно, что, несмотря на свою неизменную вовлеченность в злободневную полемику, Достоевский не дает в романе повода отождествить убеждения прокурора и адвоката ни с одной из реально существовавших тогда идейных позиций. Прокурор – западник, обличающий социальные язвы России и ее дикость («У тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»); в нем проступают даже отдельные черты сходства с Белинским – автором письма к Гоголю (страстная преданность своему кредо, значительность предсмертного выступления – «лебединой песни», использование гоголевских образов в целях общественной критики), но вместе с тем в его лице перед нами консерватор, ведущий свою атаку во имя традиционных основ общежития. Адвокат, при наличии еще более определенных жизненных прототипов, – тоже в некотором роде фантастическая фигура: он сочетает новейшие позитивистские идеи «среды» и эмансипации нравов с профанированными ссылками на Евангелие и с восхвалением, должно быть не совсем искренним, «русской правды» и русского будущего. Такая необычная конфигурация идей заставляет предположить, что в решающем эпизоде «судебной ошибки» Достоевский имел в виду не вредоносность тех или иных воззрений, с которыми ему доводилось вести публицистическую войну, а губительность идеологической предвзятости как таковой.
Здесь вопрос уже ставится не только о судьбе Дмитрия Карамазова, а о судьбе России. Образ знаменитой гоголевской тройки, «пожирающей пространство», – образ России, устремленной навстречу будущему, – привлекается, как не раз отмечалось в литературе о «Братьях Карамазовых», и обоими состязающимися на суде юристами, и (в главе «Сам еду») автором-повествователем. Но в изображении двух названных персонажей «тройка» эта движется так, как диктует каждому его схема: у одного она, «беспардонно» распугивая всех, несется куда глаза глядят; у другого, словно величавая колесница, въезжает в безоблачное будущее. Сам же автор дает понять, насколько эти измышленные в полемическом запале «тройки» не похожи на ту, которая летела в Мокрое с живым, безудержным, влюбленным, грешным, кающимся Митей, воплощением «русской души». Путь Митиной тройки проблематичен и чреват опасностями: подгоняемая его нетерпением, она в бешеной скачке рискует сорваться в овраг, или Митя во внезапном порыве отчаяния способен остановить ее на полдороге и пустить себе пулю в лоб. Но Достоевский усматривает для этой «тройки» путь надежды: Митя все-таки прибывает к месту, где наконец совершается просветление его страстей и начинается путь очищения страданием.
Автор «Братьев Карамазовых», задумываясь над положением России, уповал на двуединый нравственный процесс, изображенный в жизненном пути Мити и Алеши. Во-первых, это добровольное претерпевание заслуженных и незаслуженных испытаний, с тем чтобы изжить в себе «беспорядок», ту самую моральную аморфность, какую имеет в виду Митя, говоря: «Высшего порядка во мне нет». Во-вторых, это деятельный и общественно-значимый выход к другому. Создавая своего рода мемориальный кружок вокруг жертвенной личности покойного Илюшечки, Алеша следует примеру своего наставника, который «любовью… воздвиг кругом себя целый мир любящих». Илюшечкина община оказывается новым, нетрадиционным побегом на древе духовной традиции. Так Алешей сеется зерно не программно-отвлеченного, а непосредственно братского единения, а Митина очистившаяся душа – почва, в которой такое зерно, по Достоевскому, должно прорасти, принеся в конце концов изобильный урожай вселенского братства.
Это грандиозное этическое задание и есть последнее слово Достоевского, общее для финала «Братьев Kaрамазовых» и создававшейся одновременно Пушкинской речи. С восторгом откликаясь на нее, тогдашний вождь славянофильства И. С. Аксаков даже изобретает торжественный неологизм «всебратство», чтобы выразить свое полное единодушие с идеалами и чаяниями писателя (из письма И. С. Аксакова от 20 августа 1880 года.[126]126
Публикацию писем Ивана Аксакова Достоевскому см.: Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1972. Т. 31. Вып. 4. С. 353.
[Закрыть] Но, размышляя о «чувстве всебратства» у русского народа, Аксаков, в отличие от Достоевского, невольно делает упор на настоящее, в котором народный характер рисуется ему уже положительно завершенным, а не на будущее, когда этой способности к «всебратству» предстоит явить себя в творчестве новых общественных форм.
Достоевский же был озабочен будущим… Поэтому свои идеи нравственного служения он адресовал молодежи. Образом Алеши он надеялся популяризовать путь «деятельной любви» и вместе с тем уловить реальные черты нового деятеля на этом поприще. Действительно, среди его младших современников находились замечательные представители Алешиного духа. Каким энтузиазмом, какой готовностью к конкретному делу веет, например, от одного частного документа той поры: «Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое объединит очень многих – и нас с Вами очень близко. Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога. Правда, Вы лучше меня готовитесь к этому служению – живя для других и делая добро окружающему Вас миру <…> я говорю о неведомом – откроется ли оно? Одно несомненно, что без этого жить нельзя». Это строки из письма Владимира Соловьева его слушательнице на женских курсах и близкой приятельнице Елизавете Поливановой;[127]127
РГБ, ф. 700, к. 2, ед. 7.
[Закрыть] обоим было тогда, в 1877 году, по двадцать с лишним лет. Елизавета Михайловна Поливанова принадлежала к особо выделенному Достоевским типу русской девушки, о котором он говорит в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой и безо всяких отговорок все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, – убеждение в высшей степени верное и нравственное…».[128]128
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981. С 53.
[Закрыть] Когда во время русско-турецкой войны Лизе Поливановой не удалось уехать на сербский фронт, где уже воевали ее братья, она стала сестрой милосердия в подмосковном госпитале. Этот поступок и имеет в виду Соловьев, говоря о ее служении окружающим. А упоминая в письме о «неведомом боге» грядущего, он подразумевает «софийную» гармонизацию земного бытия – идеал, формулируемый им в семидесятых годах и созвучный близко общавшемуся с философом Достоевскому.
В самом поведении Соловьева было нечто сближающее его с Алешей Карамазовым.[129]129
Не касаемся здесь вопроса о том, в какой мере Владимир Соловьев послужил психологическим прототипом для Алеши, хотя настойчивые попытки отвергнуть это их сходство представляются не вполне убедительными.
[Закрыть] Например, он совершил шаг, необычный для его среды и научной карьеры: после университета стал вольнослушателем Московской духовной академии, в связи с чем пошли слухи о его намерении принять монашество. У Достоевского Алеша столь же непредвиденно отправляется в монастырь – и тоже не для того, чтобы навсегда остаться в его стенах. Оба в поисках всецелой правды курсируют между «дольним» и «горним», непроизвольно нарушая ранжир и кастовые условности. И в своем устремлении к жизненному воплощению идеала оба – реальный персонаж и литературный – являют собой тип еще «невыяснившегося» деятеля, на которого как на созидателя и единящий фермент русской жизни возлагал надежду автор «Братьев Карамазовых».
«Невыяснившийся» в текущем дне образ Алеши, мы знаем, дан в романе эскизно, и теперь уже невозможно решить, состоялось ли бы продолжение «Братьев Карамазовых» и получил ли бы в нем Алеша более пластичное художественное воплощение. Но, быть может, сегодняшнему читателю важнее другое: Алеша и задуман автором так, что самой исторической действительности предстоит наполнить реальным содержанием беглые контуры его облика.
Алеша, этот претендент на место главного героя, играет между тем в романе роль едва ли не служебного персонажа, лишенного собственной сюжетной линии и движущей личной страсти. Как лицо без определенных занятий он ушел с головой в посредничество между окружающими, которое, за исключением обращенного в будущее детского братства, не приносит осязаемых плодов: Иван повержен своим бесом; Лиза Хохлакова, исцеленная физически, захвачена эстетикой зла; Катерина Ивановна не вразумилась; Митя, упущенный Алешей в роковую ночь убийства, осужден. И тем не менее Алеша незримо входит в жизнь каждого из этих неустроенных людей, оказываясь критерием их совести. Его делание, его сердечный труд пополняют фонд добра, которое, по Достоевскому, из тайного непременно становится явным и изменяет в лучшую сторону баланс мировых сил.
Но для самого деятеля это отнюдь не путь торжества, и продвижение здесь измеряется не внешним успехом, а возрастающим чувством приобщения к правде. Алешина установка на собирание и накопление положительной энергии духа – именно в нынешнем расточительном мире, где никто не хочет ждать и требует немедленной отдачи, не должна ли быть осознана в ее нравственной плодотворности? Завещание, оставленное Достоевским, обращено теперь к нам…
Общественный идеал Достоевского[130]130
Публичная лекция.
[Закрыть]
Думаю, слушатели собираются в эту аудиторию не ради обогащения информацией, не ради заполнения пробелов в образовании (хотя последнее тоже нелишне после длительного вето, налагавшегося на русских мыслителей), а затем, чтобы узнать нечто о пути жизни.
Достоевский был великим учителем жизни, но если мои слушатели вообразят, что, очерчивая его общественный идеал, я сообщу что-нибудь такое, о чем они вовсе не догадывались прежде, – то ошибутся. Дело в том, что этот идеал у всех людей один, и такой древний, что мифологии относят его в глубокое, незапамятное прошлое, именуя «золотым веком», а двухтысячелетняя эсхатология переносит в искони чаемое грядущее: это Царство Божие на новой земле под обновленными небесами. Всякий, кого ни спроси, знает, в чем такой идеал: это жизнь между людьми в мире и согласии на изобильной цветущей земле, притом жизнь, проникнутая смыслом, любовью, ощущением своей нужности, своей причастности чему-то высшему и неуничтожимому.
Люди испокон веков спорят не об этом идеале человеческого общежития, а о том, достижим ли он и, если да, то какими средствами. Большинство сходится на том, что общественный идеал – это своего рода математический предел: в границах человеческой истории он недостижим, но это не значит, что стремление к нему бесполезно, это не значит, что человечеству суждено фатально двигаться в сторону, прямо противоположную. Так думал и Достоевский. «Счастье не в счастье, а лишь в достижении», то есть в стремлении, считал он, и тем не менее образ «счастья», как он нарисован, например, в видении «смешного человека», дает этому стремлению вектор, направление, вдохновляющий импульс. И тут-то встает вопрос о средствах достижения.
Надо сказать, что в такой сфере, как совершенствование человеческого общества, средства некоторым образом тождественны целям, они суть цели. Человечество – единая цепь поколений, и всякий социальный акт, адресованный будущему, вместе с тем направлен и на настоящее, на тех людей, которые живут сегодня. Если он не улучшает устроение этих, сегодняшних людей, значит, он бьет и мимо той отдаленной цели, какую себе поставил.
Все, что высказано Достоевским как общественным мыслителем, упирается в вопрос о средствах приближения к идеалу общей жизни. Таких средствах, которые не противоречили бы человеческой природе, то есть не были бы, с одной стороны – утопическими, а с другой – разрушительными; таких, которые не обращались бы в виде сюрприза в свою противоположность из-за неучтенной малости – метафизической сути человека (вспомним Шигалева в «Бесах», исходившего из абсолютной свободы и получившего в «ответе» своего логического построения абсолютное насилие).
Самым простым и общим было бы заявление, что Достоевский отвергал пути внешнего, тем более насильственного преобразования общества (пройдя на каторге через известное «перерождение убеждение») и делал ставку на внутреннее нравственное начало в человеке, просвещенное светом христианства. В такой, общей форме это утверждение верно. Но оно неточно. И, понимаемый столь неточным образом, просто как христианский моралист, как ординарнейший из христианских моралистов, Достоевский подвергался нападкам со стороны публицистов либерального и социалистического направления. Одному из них, А. Д. Градовскому, Достоевский отвечал так:
«Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной… Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью “спасти животишки”?… Узнайте, ученый профессор, что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанных от целого вашим ученым ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место, в виде отдельного “учреждения”, таких идеалов, говорю я, – нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать!… Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью».
Сходным образом разворачивался и спор с Н. М. Михайловским, где защиту точки зрения Достоевского уже после смерти писателя взял на себя Владимир Соловьев. Не буду останавливаться подробно на его оставшейся в черновике заметке «Несколько слов по поводу “жестокости”»; напомню только, что Михайловский общественным идеалом, какого не доставало, по его мнению, Достоевскому, полагал идею насильственного политического переустройства общества, в ходе чего злые человеческие страсти должны быть сконцентрированы и переплавлены в «необузданную, дикую к угнетателям вражду». Соловьев же отвечает ему:
«… Рядом с <…> изнанкой человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и показывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, – идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству Евангелием. Этот идеал не позволял Достоевскому узаконять и возводить в должное “необузданную и дикую вражду”; такая вражда всецело принадлежит дурной действительности, в достижении общественного идеала ей нет никакого места, ибо этот идеал именно и состоит в упразднении (сначала в себе, потом в других) дикой и необузданной вражды».
Итак, суммируя эти ответы, можно сказать, что Достоевский вовсе не отрицал необходимости гражданского общества со всеми его установлениями, уложениями и политическими механизмами, с собственностью, судами, изоляцией преступников и пр. (как известно, на первое же обнародование толстовского учения он откликнулся восклицанием: «не то, не то!»); он неустанно отрицал лишь ту мысль, что людей можно согласить между собой в правильное, не взаимоистребительное общежитие исключительно на основе их прагматических интересов, «спасения животишек», что гражданские институты могут успешно работать без точек морального согласия, консенсуса, органически присущего данному обществу. (Замечу в скобках, что эта мысль спустя век получила большое будущее. Для современной политологии становится все яснее, что нет и не может быть такой правовой нормы, которая не опиралась бы, в неявном подчас виде, на норму моральную, и что внешнеюридический, формально-регулятивный характер западного – как принято считать – общества и государства – не более чем иллюзия; там основные правовые нормы фиксируют, не всегда осознанно, этический капитал, нажитый в христианскую эру, еще со времен Юстинианова кодекса.) Это – во-первых. Во-вторых, Достоевский так настаивал на пути внутреннего, личного совершенствования отчасти потому, что верил в продуктивность, неисчерпанность существовавшего в России политического устройства. Таково было настроение русского либерального консерватизма – вслед за Пушкиным, считавшим русское правительство едва ли не самым надежным носителем просвещения, и вслед за Гоголем, надеявшимся, что вся система начнет исправно работать при добросовестности, христианской совестливости каждого ее сотрудника на каждом выпавшем ему месте.
Достоевский принадлежал эре реформ Александра II. Он был свидетелем значительнейшей после Петра I «революции сверху», которая, по его мнению, могла явиться «началом конца» петербургского периода русской истории, послужить переходом от административного управления Россией к земскому самоуправлению, поднять достоинство земледельческого сословия, соединить народ с интеллигенцией. Самодержавие представлялось ему силой, все это инициировавшей – без кровопролития, без пауперизации крестьянства, освобожденного все-таки с землей (крестьянскую реформу 1861 года впоследствии не раз критиковали за неполноту и непоследовательность, забывая тот ее вариант, что виделся Достоевскому и его современникам как реальная, хотя и негативная возможность, – а именно: освобождение крестьян без земли). Иными словами, Достоевский ждал от самодержавия свободы, дальнейших освободительных актов – и земских, и гражданских (для печати, например); заботой же его было, чтобы свобода эта не стала источником расшатывания страны, получила бы положительное нравственное наполнение, чтобы она не завела куда-нибудь вкривь, на бездорожье. Мы не имеем права утверждать, что Достоевский кругом ошибался в своих политических упованиях. Ведь террористы-первомартовцы, в сущности, думали точно так же, иначе они, руководствуясь экстремистской максимой «чем хуже, тем лучше», не постарались бы сорвать акт, расширяющий гражданскую свободу в России, накануне его принятия. В развитии общества всегда существует некий подвижный баланс между внешними преобразованиями и внутренним накоплением положительной духовной энергии. Мы склонны акцентировать второе, когда оно грозит отстать от первого. Так было и с Достоевским.
В чем же неординарность, особенное глубокомыслие того лично-нравственного подхода к общественному деланию, который проповедовал Достоевский? А вот в чем. Ни у кого ни прежде, ни после не было с такой художественной и философской убедительностью показано, что любой другой отправной пункт способен привести к попранию свободы и достоинства личности, к покушению на человеческую природу. «Великое дело любви и настоящего просвещения. Вот моя утопия», – писал Достоевский в ответ на обвинения в мечтательности, утопичности его социально-этических соображений. И все, что он знал о человеке, выстраивалось у него в своего рода отрицательную апологию этого девиза, подтверждаемого методом исключения всех остальных решений. Достоевский – величайший антрополог и величайший философ свободы, и это свое проникновенное знание о началах и концах человеческой личности он обратил в оборонительное заграждение против политических утопий, уже в его эпоху принявшихся всерьез сотрясать основы общежития. (Ведь, как напоминает один из биографов Достоевского, идейная жизнь писателя началась с участия в политическом заговоре, а оборвалась за месяц до первомартовского цареубийства.)
Итак, что поведал нам Достоевский о человеке?
Это колоссальная тема, которую я не берусь здесь даже наметить; коснусь только ее непосредственных проекций на общественную жизнь. Для начала приведу слова Г. Чулкова, русского литератора Серебряного века, написавшего в 20-х годах несколько отличных историко-литературных статей: «Достоевскому до конца дней не хотелось расставаться с надеждою, что рано или поздно, но человечество разрешит социальную проблему в духе справедливости, без утраты той свободы, которая для личности так же необходима и желанна, как хлеб насущный».
В Мертвом доме Достоевский открыл для себя то, к чему подходил еще до каторги – и в «Бедных людях», и в «Двойнике», и в «Хозяйке»: что и высочайшие взлеты, и самые глубокие падения человека происходят из одного корня – из чувства абсолютной личной ценности или, что одно и то же, из чувства свободы, которое бурлит в человеке наподобие вулканической стихии и, стиснутое или извращенное обстоятельствами, способно разрушить мир. Истребить это чувство в душе человеческой невозможно, не истребив ее самое (мечты «великого инквизитора» о превращении человечества в питомник существ, променявших риск свободы, экзистенциальную необеспеченность на беспечную сладость стабильности, мечты эти несбыточны, хотя и опасны). Но можно это чувство свободы зарядить положительно, «обра́зить» (народное словечко, подслушанное Достоевским у каторжников), ввести в русло любви и добровольной жертвы. И это путь личного примера, обаяния жгущей сердце нравственной, духовной красоты, путь участливого и бережного уважения к падшему, путь подражания Христу, каким идут избранные на служение «положительно прекрасные» герои Достоевского: князь Мышкин, Алеша Карамазов, «русский инок» Зосима; подобно Тому, Кому они подражают, они ничего не меняют во внешнем устройстве мира, но вносят в него новую закваску, которая, при видимости первоначального поражения, в конечном счете переменит мир исподволь.
Но, повторю, особая сила Достоевского – не столько в этой положительной, сколько в отрицательной апологетике: безусловная ценность свободы – ее вырождение в тираническую самость – мобилизация этой самостью энергии социального недовольства для подавления чужой свободы, – вот диалектический ход, прочерченный Достоевским, вот чему противопоставляется «великое дело любви», возвращающее свободе ее собственную сущность.
Всякий раз эта трагедия самоотрицания свободы совершается не в пустоте, а в социальной среде, по определению несовершенной и более или менее порочной, так что грех личной воли подпитывается грехами социального окружения. «Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся – нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности».
Эти слова написаны Достоевским в 1861 году, и советую всякому, кто хочет углубиться в мысль писателя о природе личности, обратить особое внимание на его произведения 50-х – первой половины 60-х годов – от «Дядюшкина сна» и «Села Степанчикова» до «Записок из подполья». (Одновременно Достоевский развивал программу почвенничества на страницах издаваемых им совместно с братом журналов «Время» и «Эпоха»; между художественными произведениями и публицистикой этой поры есть важные соответствия, к чему я еще вернусь.)
Одному из глубоких исследователей писателя Б. Энгельгардту принадлежит применительно к основным созданиям Достоевского определение: «идеологический роман». М. М. Бахтин не отверг эту дефиницию, а принял ее с той поправкой, что Достоевский выступает не пропагандистом, а портретистом идей, идеологий. Примем это определение как рабочий термин и мы. Так вот, можно сказать, что большим «идеологическим» романам Достоевского предшествуют его малые «антропологические» (человековедческие) романы и повести. В центре их – амбициозная личность с искривленным, извращенным чувством своего достоинства. Это «поэты» бытового авантюризма – как госпожа Москалева в «Дядюшкином сне», и «поэты» тиранства – как Фома Опискин, мировой тип, созданный Достоевским. Поэт здесь очень важное слово – иначе говоря, тот, кто пытается перекроить мир не заради частной выгоды, а по мерке своего хотения, во имя выгоды «бескорыстной» – воли к власти. От Опискина идет прямая дорожка к героям «Бесов»; вспомним, что Петруша Верховенский – «энтузиаст» в том самом смысле, в каком Фома – «поэт»: ведь тот же Фома на своем усадебном островке, в своей Икарии предвосхищает шигалевский эксперимент, рассчитанный в масштабе континентов, вводя все в таких случаях положенное, вплоть до раздачи новых именований и реформы календаря. Антропологическая тайна Фомы раскрывается в словах, сказанных о нем одним из персонажей «Степанчикова»: «Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может».
Затем, вслед за поэтами тиранства, это категория лиц безудержных, «выскочивших из мерки», внезапно извергающих из себя сдавленную обстоятельствами энергию своеволия. «На время человек вдруг выскакивает из мерки», – говорится у Достоевского об иных узниках Мертвого дома, которых в состоянии такого экзистенциального бунта не могут остановить уже ни угрозы, ни увещевания, ни истязания. Неуправляемость этого рода присуща, по наблюдениям Достоевского, чаще простолюдину («Да простого-то человека я и боюсь!» – говорится у него в «Селе Степанчикове»), но она схватывает и тонко играющего мыслью, блистательно рефлектирующего героя «Игрока»: «Просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут», – с полным основанием говорит о себе этот интеллектуальный представитель «русского безобразия», столь богатого возможностями, но столь опасного в своей безбрежности.
Это – еще одна категория – и самовлюбленный прожектер-теоретик, герой «Скверного анекдота», администратор с либеральными фантазиями, которые при столкновении с неподатливой жизнью он немедленно отбрасывает и, согласно многократно описанной Достоевским диалектике перехода умозрительного либерализма в деспотизм, обращается к рецепту: «Строгость, строгость и строгость». Это, наконец, подпольный рефлектер-парадоксалист, который восклицает о себе: «Я не могу… мне не дают быть добрым!», – потому что его уязвленная самость непрерывно болит и безуспешно алчет утоления через попрание другого человеческого «я».
Все эти герои, включая человека из подполья, играющего идеями, но не придавленного ни одной из них, – все они существа еще не идеологизированные. Они только безосновные существа. «Где у меня первоначальные причины, на которые упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» – недоумевает и жалуется подпольный. Их своеволие, не получая никакого внутреннего оформления и обуздания, не ведая ничего о радости самоограничения и самосовладания, беспорядочно вырывается наружу и выбирает случайных жертв своего деспотизма.
В «Записках из Мертвого дома» Достоевским сказаны страшные слова, страшные именно в качестве общественного прогноза. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке». Меня всегда, как только я натыкалась на эту фразу, поражало в ней слово «современный». Разве – если уж доверять преданию о грехопадении, которому, без сомнения, следует Достоевский, – эти свойства не находятся в «зародыше» в человеке любых времен, начиная с Каина, из зависти погубившего брата своего Авеля? Но теперь, как мне кажется, я понимаю, что хотел сказать Достоевский этим тревожным словом. «Современный человек» – значит, человек, покинувший вселенную христианства, отданный на съедение своей обособившейся самости, понизивший свое личное достоинство от подражания абсолютной личности Христа до голого самоутверждения и похоти властвования. Такой «современный человек», не имеющий внутреннего упора и точки соединения с другими людьми, – он, впрочем, «палач» лишь в зародыше, в потенции, в возможности. Но возможность становится действительностью, как только в его внутреннюю пустоту вселяется «скверная трихина» идеологической агрессии и замещает отсутствующие онтологические основания. Те палаческие свойства, которые доселе бессознательно дремали «в зародыше», отмобилизовываются и преобразуются в законопреступное деяние…
До сих пор в нашей и мировой науке о Достоевском идут споры: что толкнуло Раскольникова на путь палача – самоутверждение, презрение к обыденной морали (под которое тоже можно подвести идеологическую – штирнеровскую либо наполеоновскую – базу, но которое, в сущности, в такой базе не нуждается, ибо Достоевский оставил портреты подобных «сверхчеловеков» из простонародья тоже) – или же чисто идеологическое убеждение, что во имя социальной справедливости можно пренебречь жизнью вредной и никчемной старушонки. Но в том-то и секрет, раскрытый Достоевским, что здесь нет никакого «или – или», что самоутверждение Раскольникова («Я для себя одного убил!») и идея, дозволяющая ему «кровь по совести», взаимно индуцируют и подкрепляют друг друга, что вместе с внедрением такой идеи-трихины падает последняя, совестная преграда между экспансионистским «я» и миром как объектом его притязаний.
Достоевский жил уже в век идеологий (по мнению некоторых историков идей, мы отпраздновали двухсотлетие этого «эона» вместе с юбилеем Великой французской революции). И он понял, что защита человеческой личности от тирании чьего бы то ни было взбесившегося «я» есть одновременно защита ее от идеологической атаки. Задатки палача переходят, согласно его антропологии, в задатки диктатора и совпадают с задатками доктринера.
Достоевский предупреждает, что на лицо человеческое могут наступить две идеологии, всходы которых он наблюдал вокруг себя. Это идеология перекройки человечества «по новому штату» – и идеология «золотого мешка», «идея Ротшильда», как она названа в «Подростке». Замечу сразу, что последняя для Достоевского – не просто практическая власть денег, не просто явление социальной жизни или черта нарождающейся в России экономической структуры, а именно идейный принцип, на свой лад обосновывающий волю к власти. Деньги как мистический фетиш, как символ господства над жизнью и честью человеческой (а вовсе не как источник благ, роскоши, наслаждений или деловых инициатив) фигурируют в четырех из пяти больших романов Достоевского и не играют сколько-нибудь заметной роли только в «Бесах», как бы уступая натиску другой мощной идеологической заразы.
Скажу тут же, чтобы больше к этому специально не возвращаться: страх Достоевского перед тем, что принято называть развитием товарно-денежных отношений (помните апокалиптического всадника, о котором толкуется в романе «Идиот»: в руке у него весы, все меряется и оценивается, идет на обмен, на продажу, и это значит, что конец близок), – не кажется ли этот страх сейчас преувеличенным? Это была роковая мания русской мысли – от Победоносцева до народников, от петрашевцев до Блока: «отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана», «век буржуазного богатства, растущего незримо зла» и пр., лучше, дескать, что угодно, чем это. В записных тетрадях Достоевского можно обнаружить даже такое: «купец есть лишь развратный мужик» – явная несправедливость к русскому купечеству в его экономической и культурной перспективе. Впрочем, мысль Достоевского, в поисках противоядия Ротшильдовой идее, никогда не соскальзывала к утопическому отрицанию собственности. От этого предостерег его опыт Мертвого дома, где лишение свободы («А чего не отдашь за свободу?» – восклицает повествователь «Записок из Мертвого дома») и лишение собственности стояли рука об руку как две стороны одной и той же пытки. «Без труда (имеется в виду свободный, не принудительный труд. – И. Р.) – и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя» – слова из тех же «Записок…». Острый практический толк Достоевского (а его «идеализм», как он сам понимал, бывал реальнее «реализма» его оппонентов) вкупе с его метафизическим чутьем подсказывали ему корректирующий противовес развитию промышленности и банка, буржуазному Хрустальному дворцу, виденному на всемирной промышленной выставке в Лондоне и оставившему гнетущее впечатление. Выход этот – земля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































