Текст книги "Движение литературы. Том I"
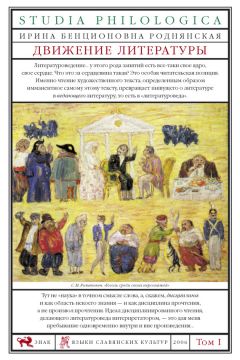
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В полифонических композициях (изучавшихся М. Бахтиным на примере творчества Достоевского) единство идейной авторской оценки, целенаправленность художественного замысла осуществляются самим ходом событий, через сюжет, «на деле» выявляющий правоту одних идейно-жизненных установок, заблуждения и тупики других. В «Демоне» этот прагматический итог настолько неопределим, неуловим, что не может «навести порядок» в разноречии позиций и множественности духовных ликов героя. В границах рассказа о событиях напряжение между эмоциональными и этическими «партиями» Демона, Тамары и повествователя остается неразрешенным.
В таком случае на чем же держится целокупность поэмы? Противоречивость ее глубоко спрятана под мифо-эпической простотой и обобщенностью художественных форм.
Прежде всего, в композиции «Демона» упор сделан на события, а не на их сложные истоки, на «факты», а не на «комментарии». При всем богатстве душевного мира поэму отличает намеренная невнятность в области психологических мотивировок. Так, по наблюдению Ю. Манна, Лермонтов в своем «Демоне» только расставил межевые столбы, но покинул невозделанным то экспериментально-психологическое поле, на котором предстояло потрудиться создателю «Записок из подполья» и «Бесов».[61]61
Манн Ю. Завершение романтической традиции (Поэмы «Мцыри» и «Демон») // Лермонтов в литературе народов Советского Союза. Изд. Ереванского ун-та. 1974. С. 58.
[Закрыть] Это подтверждается, в частности, ролью, какую играют в тексте «Демона» строки отточий: они замещают не пропущенные стихи (как в «Евгении Онегине») и не обойденные молчанием перипетии действия (как в «прерывистом» сюжете байронической поэмы[62]62
См.: Соколов А. Композиция «Демона» // Литературная учеба. 1941. № 7–8.
[Закрыть]), но те душевные движения героев, о которых автор предпочитает не говорить прямо, всякий раз прерывая развитие психологической темы в «горячей точке».[63]63
Часть 1, IX – впечатление Демона от пляски Тамары; часть 2, VI – томление Тамары по туманному «пришельцу»; часть 2, IX – внутренняя борьба в Демоне после объяснения его с Ангелом и перед решающим явлением Тамаре. В особенности же часть 2, XII – после отвлекающего эпизода с ночным сторожем непредставимая, но логически неизбежная ситуация: Демон над телом умершей в его объятиях Тамары – что он? как он?
[Закрыть]
От редакции к редакции Лермонтов не уточнял, а преимущественно устранял испробованные прежде мотивировки действия. Так, если в ранних редакциях присутствуют напряженные размышления над тем, что же все-таки мешает герою вернуться на путь добра, и выставляется двойная причина «неисправимости» Демона – в плане легенды («клятва роковая», данная Сатане) и в плане психологии («успело зло укорениться / В его душе»), – то впоследствии обе эти мотивировки были отброшены. Оставлено втуне и многообещающее замечание о необаятельности для героя добра, о невосприимчивости его к поэзии добра: «Оно в нем было бы чужое, / И стал бы он несчастней вдвое». В освободившейся от комментариев лакуне рождается догадка насчет рокового влияния «Божьего проклятья», раз и навсегда предопределившего судьбу Демона, – относительно особой непреклонности небес к «падшему» (эта догадка согласуется с саркастическим отзывом Демона об упованиях людей на божественное милосердие: «Простить он может, хоть осудит!»). И однако в поэме не хватает данных, чтобы именно таким образом объяснить весь трагический оборот событий. К отношениям между добром и Демоном скорее подошел бы недоуменный возглас одного из героев Достоевского: «Мне не дают… Я не могу быть… добрым!»
Но повествователь отлично обходится и без мотивировок. Ему не нужны никакие «почему», раз он свидетельствует: «Так было», – и свидетельство его обладает какой-то «архетипической» достоверностью.[64]64
Подзаголовок «восточная повесть» – тот же, что у «Измаил-Бея», написанного на исторической основе, – не случайно возводит поэму в ранг предания (а не вымысла). Так же определена еще одна сочиненная Лермонтовым «легенда» – «Ангел Смерти» (1831). Понятие «повесть», вопреки распространенному в лермонтовской литературе мнению, здесь вовсе не связано с «заземлением», с приближением к «быту».
[Закрыть] Вообразим – хоть это и нелегко, – что знакомимся с поэмой впервые. Разве и в таком случае не была бы нами предузнана ее катастрофическая развязка? Ведь в конце концов в любовной страсти Демона явлен не просто некий «подвид» любви (скажем, «эгоистическая любовь» в ее социальной и психологической обусловленности), а любовь-Эрос, стихийная мировая первосила («В душе моей с начала мира / Твой образ был напечатлен»), любовь как «предчувствие блаженства», в полноте своей невозможного, недостижимого.[65]65
Точно так же в балладе «Морская царевна» торжествующее восклицание царевича: «Али красы не видали такой?» – заставляет содрогнуться в предчувствии того рокового перехода от «незнания» к «знанию», о котором писал Аристотель, истолковывая феномен трагического.
[Закрыть] Данный в остром предощущении и не подлежащий обсуждению факт этой недостижимости отодвигает на задний план рефлексию о «беде» и «вине» демонического любовника. На таком элементарном символико-мифологическом уровне основные сюжетные перипетии «Демона» общепонятны, бесспорны и не нуждаются в противоречивых и равновероятных объяснениях психологического и умозрительно-философского порядка.
Другая особенность «Демона» как мифо-эпического построения – «протеизм» героя при монументальной твердости фабулы; единство главного лица, подобно единству мифических и эпических персонажей, достигается не в силу рельефных очертаний его индивидуальности, а держится тем, что с ним некогда происходило и навеки произошло.[66]66
Это позволяет ссылаться на его историю как на хорошо известный, получивший широкую «мифологическую» огласку прецедент: так, Сатана в мистерии К. Случевского «Элоа» припоминает: «С тех пор, как прикоснулся я к Тамаре…»
[Закрыть]
В самом деле, контуры легендарного, мифологического облика героя размыты не в меньшей степени, чем психологическая подоплека его поступков. Читатели, особо чувствительные к соответствию сюжета поэмы библейским источникам (например, Владимир Соловьев), сетовали на то, что в ней традиционные мотивы изгнания Демона из «жилища света» отодвинуты далеко в сторону и едва ли даже подразумеваются.[67]67
В зрелых редакциях «Демона» по сравнению с ранними библейский фон предыстории героя бледнеет: если раньше беда изгнанного Демона состояла в том, что он лишился блага богообщения, то теперь он скорбит об утраченных радостях космического братства – с венчанными светилами, с «ласковой» кометой, о выпадении из гармонии мироздания.
[Закрыть] Нелегко ответить и на естественно возникающий вопрос, кто же такой Демон с точки зрения христианской демонологии или «вторичного» новоевропейского литературного мифа о падшем ангеле. Заглавная характеристика – «дух изгнанья» – этически и философски нейтральна (не только следование пушкинскому словесному образцу, но и спор с пушкинским идейно-содержательным: «дух отрицанья, дух сомненья»); она акцентирует в Демоне то, что не выступало на первый план у его литературных предшественников, – бесприютность, страдательную позицию, – и вуалирует то, что считалось определяющим: мятеж, противление, ненависть. Этот первый стих – камертон поэмы: он сразу же избавляет героя от слишком конкретной привязки к прежним фабулам и представлениям, ограничиваясь самым общим намеком.[68]68
Кстати, соответствующий библейский персонаж не изгнан, а низвержен с небес, – смена оттенка существенна.
[Закрыть] Далее, прописной буквой Лермонтов превратил нарицательное имя одного из многих («легион» – так отвечают на вопрос об их имени злые духи, «демоны» в Евангелии) в имя собственное, – но нареченное этим именем единственное в своем роде существо лишено четких координат и функций, «чина» и целей в мироздании.[69]69
Ср. с Дантовым адом, где, по словам И. Голенищева-Кутузова, «Люцифер и его ангелы <…> вошли в систему мира, предначертанную Божеством, и должны стать озлобленными, но послушными исполнителями свыше назначенных казней для соблазненых ими людей» (см. его примечания в кн.: Данте Алигьери. Божественная комедия. М.: Наука, 1967. С. 557). Ср. также с Люцифером в «Каине» – он для Байрона вторая, наряду с Богом, мировая сила, гордая своим неуничтожимым бессмертием и ни на миг не выпускающая из виду главной задачи противления.
[Закрыть] У Демона, беспокойно летающего «под сводом голубым» и «над грешною землей», нет земного или адского пристанища.[70]70
Лермонтов воспользовался возможностями, заложенными в одном традиционном церковном эпитете диавола – «князь воздуха».
[Закрыть] Он не Сатана (хотя бы потому, что до падения был херувимом, не самым высшим чином в ангельском воинстве), но над ним не начальствует и архистратиг темных сил (версия «подотчетности» Демона «князю бездны» отпала вместе с прочими имевшимися в ранних редакциях поползновениями навести порядок в мифологических реалиях). Нет у него и обязательств перед подчиненными: «служебные духи» и «подвластные братия» – периферийные детали, не влияющие на концепцию образа. Демон один обеспечивает в мире наличие мятежного и разрушительного начала, один возбуждает «вечный ропот человека», но, сея соблазны, сомнения и зло, он ведет себя скорее как своевольный партизан, беспечный дилетант, нежели как регулярная и специализированная сила. О собственно демонической деятельности героя говорится глухо, словно о кратком и миновавшем этапе («… Зло наскучило ему», «И я людьми недолго правил»), как о «мрачных забавах», не требующих усилий ввиду коренного несовершенства человеческой природы[71]71
Ю. Манн в упоминавшейся выше работе справедливо подчеркивает, что в Демоне (в отличие от полусказочных падших духов у Жуковского и Подолинского) благодаря его единственности зло получает субстанциальное средоточие и тем самым центральный образ поэмы обретает максимальную философскую весомость, становясь в связь с «последними» вопросами о природе и источниках зла, и пр. Однако надо помнить, что ответственность за зло в поэме все же «рассредоточена», во всяком случае, если следовать логике героя, то второй (а может быть и первый!) источник зла обнаруживается в человеческом мире – каким он вышел из рук Творца или из горнила цивилизации.
[Закрыть] и тем более неспособных заполнить собой вечное существование.
Этот, по Блоку, «падший ангел ясного вечера» – существо, не только помещенное вне привычной этической оценки, но, приходится думать, с иной, нежели традиционно представимая, историей, иной судьбой; в отличие от Мильтона или Байрона, Лермонтов не переосмысливает, а переписывает предание. Как известно, эту историю «существа сильного и побежденного», изгнанного за провинность из родного звездного жилища, но не преданного злу в силу необратимого решения, Лермонтов принялся было рассказывать в «Азраиле» (1831) – драматической поэме, дочерней по отношению к самым ранним редакциям «Демона». Сюжетная версия «Азраила», произвольно-фантастическая и потому не имевшая онтологической весомости, не могла удовлетворить Лермонтова, но Азраил «остался» в Демоне, многое объясняя в сложившемся у Лермонтова мифе об отверженном духе: его промежуточность, «неокончательность» его внутреннего облика («Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..» – таким он не только предстает Тамаре, но и рисуется во всех ранних вариантах: «Страшась лучей, бежал он тьму», «Угрюм и волен, избегая / И свет небес, и ада тьму»), субъективную несвязанность его воли последним, неотменимым выбором.[72]72
Вопреки демонологическим представлениям христианской теологии, согласно которым довременный выбор, сделанный свободной волей ангелов, не может подвергаться изменчивым колебаниям во времени.
[Закрыть] Под этим углом зрения сюжет «Демона» приобретает совершенно своеобразный смысл: как повторное – и на сей раз окончательное – отвержение однажды уже понесшего кару ангела, которое настигает его в результате отчаянной попытки почерпнуть из земного источника утраченное на небе блаженство.[73]73
Опять-таки необходимо сослаться на Ю. Манна, который, кажется, первым взглянул на сюжет «Демона» в таком повороте. Если это прочтение верно, тогда смерть героини из печального эпизода в вечных скитаниях Демона (каковым эпизодом она фактически была вплоть до VIII редакции) при последней обработке поэмы превращается в решающий пункт его метафизической судьбы, и благодаря новому финалу «Демон» завершается не элегическим аккордом (горький упрек сопернику Ангелу на могиле возлюбленной), а подлинно трагедийной развязкой. Это может служить дополнительным аргументом в пользу органичности последней, VIII редакции.
[Закрыть] Ведь именно после любовной катастрофы в Демоне проступают и внешние (овеянность «могильным хладом»), и внутренние («вражда, не знающая конца», какою он прежде не мог жить) «сатанинские» черты, так что и резиденция его оказывается отныне в адской «бездне».
Но попытка увидеть в поэме беспрецедентный миф о «повторном отвержении» не имеет абсолютного приоритета перед любым более традиционным пониманием центрального лица и того, что с ним случилось. Набор эпитетов, акцентирующих библейскую и религиозную репутацию Демона («лукавый Демон», «злой дух» и т. п.), и самоаттестации героя, отсылающие к литературным источникам («царь познанья и свободы» – перекличка с Байроном; владыка стихийных духов, «прислужниц легких и волшебных», и распорядитель утонченных наслаждений – это из А. де Виньи), – все вводит в мир поэмы множественность точек отсчета. Лермонтовская фабула не зря сополагает огромные культурные пласты: архаику библейскую (любовь «сынов божиих», ангелов, к «дочерям человеческим» – Быт., VI, 2) и языческую (схождение богов к земным женам), христианское Средневековье (к легендам о соблазнении монахинь диаволом фабула «Демона» формально наиболее близка) и, наконец, открытую философским и литературным сознанием Нового времени диалектическую контрастность, взаимопритяжение жизненных и психологических полюсов (здесь уже появилась возможность воспользоваться достижениями не только романтической поэмы, но и психологического романа, в первую очередь «Евгения Онегина»). Перипетии судьбы Демона всякий раз могут быть объяснены не только из лермонтовского текста, но и из большого культурного контекста.[74]74
Подобная работа с литературными и культурными реминисценциями как строительными элементами собственного замысла впоследствии развернута Достоевским. См., например: Назиров Р. Г. Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 2. Л.: Наука, 1977.
[Закрыть] Демон и не тот и все-таки тот самый, каким он известен вероучительной литературе и новоевропейской поэзии.[75]75
Ввиду «протеизма», пластичности главного лица каждая эпоха, подхватывая едва брошенный автором намек, вышивала по канве «Демона» собственные идейные узоры – и при этом самотождественности героя наносился не такой уж большой ущерб. Так, Врубель наряду с общей конгениальностью миру лермонтовской поэмы вывел наружу такие возможности развертывания образа, которые у Лермонтова только намечены: почти античный титанизм (могучие обнаженные руки и плечи), связь не только со стихией воздуха, но и с землей, с кристаллическим строением ее пород. Дав место в кавказских редакциях поэмы отзвукам народных поверий, окружив Демона метелями, обвалами, льдами, Лермонтов тем самым породил импульс для создания подобного образа титана, физически приближенного к своему горному обиталищу. Такую, стихийно-языческую телесность подчеркивал В. Розанов, почти – и все же не до конца! – отрываясь от лермонтовского источника (Демон – человек-гора, какое-то огромное архаическое существо, напоминающее великого Пана; не дух, а блистающее одушевленное тело); так же и в стихотворении Блока Демон наделен «божественно-прекрасным телом».
[Закрыть] Законы литературного оперирования мифологическим образом таковы, что его накопленное, вековое содержание не может и не должно быть отмыслено: все, что когда-либо говорилось о «враге святых и чистых побуждений», немедленно «прилипает» к Демону; сквозь новые контуры проглядывают старые очертания, и незыблемыми, неоспоримыми остаются только простые, внушительные факты фабулы, переданные с возможной непредвзятостью. Здесь – в сравнительно ограниченном масштабе – повторяется казус «Гамлета»: можно веками спорить о том, безумен ли герой или притворяется таковым, почему он медлит, медлит ли он вообще, но нельзя оспорить достоверное внутреннее ощущение: что события трагедии разворачиваются единственно возможным образом, что «иначе и не могло быть».[76]76
Л. Выготский в своем анализе «Гамлета» впервые показал, что немотивированность и необъяснимость могут быть структурными факторами (см.: Выготский Л. Психология искусства. 2-е изд. М.: Искусство, 1968. С. 209–246, 339–496). Того же рода бездонная неясность таится в трагической фабуле «Идиота» (сошлюсь на анализ этого романа у Вячеслава Иванова: Иванов Вяч. Свобода и трагическая жизнь: Исследование о Достоевском: Реферат И. Б. Роднянской // Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 4. Л.: Наука, 1980. С. 225–231).
[Закрыть]
Итак, «Демон» – редкий пример того, как изобильная и мучительная запутанность содержания отливается в объективно убедительную форму, как жизненная раздвоенность находит пути к эстетически законченному целому. Этот процесс охватывает все зрелое и в особенности позднее (1839–1841) творчество Лермонтова и может быть назван «эстетическим обузданием демонизма». Смена литературной позиции предшествовала здесь смене жизненной философии – назревшему, но так и не успевшему совершиться духовному перевороту. Эстетическое освобождение от демонического эгоцентризма выражалось у Лермонтова прежде всего в движении к творческим методам фольклора. Так, в последние годы жизни Лермонтов-лирик из остро пережитого кризиса романтического сознания вынес, спас и отдал почти фольклорной всеобщности песни и баллады все то «вечное» и надындивидуальное, что романтизм, бунтуя против просвещенческого рационализма, сам позаимствовал у более отдаленных культурных эпох: мифологию одушевленной Земли и космической музыки, народно-сказочные, «райские» образы заповедной красы, воли, отрады, идеал простоты как целокупности и целомудрия (в противовес «несвязному и оглушающему» языку страстей). Этот мир «вечных образцов» Лермонтов осложнил трагизмом Нового времени, грустно-мужественной нотой обозначив ту преграду, которая воздвиглась между ними и «современной» душой, – но личную сложность и трагедийность он пожелал возвести к неразложимой простоте вселенской нормы и народного мифотворческого сознания.
Однако то, что в лирике Лермонтова ощущается как резчайший перелом («до» и «после» 1837–1839 годов), в «Демоне» выглядит «порубежным» синтезом старого и нового; эта поэма – как бы недостающее звено между ранней и зрелой лермонтовской поэзией. Неизжитой противоречивостью она обязана своему лирико-психологическому и лирико-философскому генезису в период лермонтовских «бури и натиска» (1829–1832), а цельностью – общезначимым мифо-эпическим художественным формам, к которым поэт наконец прорвался из кельи самозамкнутого «я». Новый подход к предмету сам в себе нес неожиданное противоядие «ядам демонизма», и есть особый нравственный смысл в том усилии, благодаря которому из глубоко личной демонической муки Лермонтову удалось создать «сагу», которую можно рассказывать «на всех перекрестках». В этом отношении этически безошибочна легендарная популярность «Демона», давно ставшего частью народно-массовой культуры; такая популярность заключает в себе простодушную и обезоруживающую поправку к демонскому надмению.
Развязка «Женитьбы», или Чему смеемся?
Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно, но, увы, комедия не была понята!
С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем
1
В молодом московском Театре на Юго-Западе играли «Женитьбу». Спектакль был хорош и сопровождался взрывами хохота. Я смотрела его уже не впервые и пока вместе со всеми веселилась и хлопала в ладоши, оставалось время задуматься: в чем источник общего смеха. Гоголь ли извлекает его из современной аудитории, действуя через актеров как через своих проводников, или актеры его возбуждают, пользуясь услугами Гоголя-комедиографа (есть ведь какая-то разница между тем и этим)? И наконец, так ли именно воздействует раздающийся в зале смех на души зрителей, как того хотел Гоголь?
В некрологе великого писателя, вышедшем из-под пера Ивана Аксакова, есть слова, до сих пор взывающие к нашему размышлению: «Много еще пройдет времени, пока уразумеют вполне глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи».[77]77
Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 250.
[Закрыть] Мы привыкли употреблять, применительно к пути Гоголя, те же понятия в другой последовательности: сначала – сатирик, потом – христианин, отказавшийся от обличительного пафоса; на первых порах – юморист, веселящий себя и других в минуты душевной тоски, а уж после – аскет, которому за душеспасительными заботами было не до юмора с его «божественной», как любили выражаться немецкие романтики, полнотой созерцания.
Сколь ни груба эта двухтактная схема духовного развития Гоголя, даже и он сам своими признаниями сделал многое, чтобы закрепить ее в представлениях потомков. И вот Иван Аксаков (член близкого писателю семейства) разом перевертывает эту схему, «сатирика» присоединяя дефисом к «христианину», а «юмориста» выпуская вслед за «аскетом», как если бы первое был причиной, а второе – следствием. Тут есть толчок к мысли!
Не менее, однако, важен намек на «неразрешимую задачу». Идет ли у Аксакова речь об оправдании «светского» искусства как такового перед судом религиозной совести, – как, например, адресуясь в письме, включенном в «Выбранные места из переписки с друзьями» к А. Д. Толстому, с его позициями крайнего мироотрицания, оправдывал Гоголь театр (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 тт. АН СССР, 1940–1952; далее том и стр.: VIII, 267–277)? Но вряд ли Аксаков, настроенный совсем не так, как А. Д. Толстой, считал именно эту задачу неразрешимой. Здесь, видимо, имеется в виду несколько иное, в высшей степени специфичное для Гоголя противоречие.
Думаю, не ошибался В. Гиппиус, в старой своей книжке определивший литературную позицию Гоголя в расцвете его таланта словами: «миссия комического писателя».[78]78
Гиппиус В. Гоголь. Л., 1924. С. 87.
[Закрыть] И он же прав, полагая, что на эту особенную и еще не опробованную русским писательским самосознанием миссию Гоголь переложил в середине 30-х годов все упования, связывавшиеся у него прежде с государственным, педагогическим, журналистским и т. п. поприщем. В русле такой миссии и встала «задача», которую Гоголь-комик глубоко пережил, прежде чем внятно сформулировать в 1846 году: «Вы думаете, возможен этот поворот смеха на самого себя, противу собственного лица?» (IV, 136); никто, полагаю, не возьмется сплеча ответить, «разрешима» ли она. А ведь для Гоголя она связана еще с одним вопросом, заданным тут же: «Зачем нам дан смех?» «Дан» – значит, определен свыше, как совесть, как разум; значит, относится к духовной природе человека, к «светлой» его природе, как в другом, еще чаще цитируемом месте утверждает Гоголь. Смех «дан» как орудие самопознания, самопроверки, как зеркало, в которое глядится человек, когда хочет увидеть себя не из собственного экзистенциального центра, не из самостного «я», а глазами других, человеческого коллектива или, более того, глазами «настоящего ревизора», ведающего о нас последнюю правду. Но вместе с тем смех во всех его разновидностях – от грубой насмешки над физическим недостатком до всеобъемлющего юмора – всегда есть смех над другим, над объектом, не тождественным «я» смеющегося, – и даже когда смеемся над собственной ошибкой, мы в акте смеха отчуждаем ее от себя, как будто ее допустил кто-то иной. В этом смысле поворот смеха «противу собственного лица» вроде бы невозможен, а с другой стороны – необходим, ибо в противном случае смех не принадлежит к работе духа и миссия комического писателя оказывается пустой мечтой, сам же он – всего лишь «скоморохом» (чего Гоголь боялся). Итак, «неразрешимая задача», но требующая разрешения и манящая возможностью разрешения. Вот над чем изнемогала мысль «комического писателя», понуждая его становиться своим собственным экзегетом и комментатором.
Важнейший путь ее решения виделся в создании высокой общественной комедии. Поэтому на «Ревизора» возлагались Гоголем такие кардинальные надежды и с ним же после первой постановки были сопряжены столь мучительные разочарования. В общественной комедии («аристофановской», как гласит традиционное для «Ревизора» сопоставление) и субъект, и объект смеха, так сказать, собирательны, коллективны; уже одним этим обеспечивается неполное отождествление каждого смеющегося «я» с теми, над кем оно смеется. Оно причастно к осмеиваемым как член одного с ними сообщества, но не как «эта», конкретная, личность. Такая «полутождественность» позволяет смеющемуся обратить свой смех не совсем противу собственного лица, а скорее против своего социального функционирования, что, конечно, не вполне одно и то же. Даже эта мера отождествления, задевавшая социальное достоинство осмеиваемых (они же, как рассчитывал автор «Ревизора», смеющиеся), оказалась труднопереносима, и против Гоголя, по его словам, восстали «все сословия». Все же, как свидетельствуют современники, у присутствовавшего на спектакле самодержца достало демонстративной готовности смеяться – в порядке монаршей самокритики. Так или иначе, катарсический эффект «Ревизора» показался тогда Гоголю вопиюще ничтожным, а достигнутая мера самоотождествления публики с лицами на сцене – совершенно недостаточной. В окончательной редакции пьесы он пытался повысить эту меру отождествления смеющегося с осмеиваемым, введя знаменитый эпиграф и не менее знаменитое обращение Городничего к присутствующим лицам. Некоторых читателей он задел после этого еще сильнее, чем прежних зрителей (характерно сообщение С. Т. Аксакова: «Загоскин неистовствует против “Женитьбы” и особенно взбесился на эпиграф к “Ревизору”. С пеной у рта кричит: “Да где же у меня рожа крива?” Это не выдумка»[79]79
Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 95.
[Закрыть]); но вызвал ли он тот покаянный смех, которого так добивался?
По ходу дела мы успели уяснить, что возможность «покаянного смеха» (такого, за которым невольно следуют слезы стыда и самообвинения) зиждется на хрупкой диалектике «различения – отождествления», «расподобления – уподобления» между смеющимся и осмеиваемым, на отношении к себе как к другому и опознании в другом себя. Требование полного отождествления субъекта и объекта смеха, авторский нажим или усиленный намек в этом направлении ведут к противодействию (криво, дескать, твое «зеркало», а не моя «рожа»); при отсутствии же каких-либо данных для такого отождествления смех излетает уже не из светлой природы человека, становится «не тем» смехом, окрашиваясь элементарно-физиологически или агрессивно.
Средством «расподобления» и последующего «уподобления», настраивающим читателя на нужное отношение к персонажу, у Гоголя часто служит то, что можно назвать комментируемым смехом. Говоря несколько пространнее, это социально локализованный смех, сопровождающийся расширительным авторским комментарием. То обстоятельство, что все «смешные» гоголевские лица (исключая малороссийскую панораму) – господа средней руки (чиновники невысокого разбора, провинциальные помещики) вкупе со своими слугами, в общем, публика, далекая как от аристократизма или подлинной образованности, так и от положительных народных начал, – эта социальная привязка много способствует необходимому, растормаживающему смех эффекту «расподобления». Ведь автор не может не предполагать, что над его героями посмеются люди, принадлежащие к среде с более гибким интеллектом и самосознанием, с более утонченным душевным развитием, чем у тех, кто послужил натурой для комического изображения. Недаром Гоголь как литератор принадлежал к «аристократической» партии «Современника». Прибегая к старейшей традиции комической литературы, он склонен был обозначать между смеющимся и осмеиваемым ощутимую социально-культурную дистанцию. По этому поводу сам он замечал: «И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества» (XI, 45), то есть сокращение культурной дистанции гасит смех. Кстати, и Белинский объяснял частичный неуспех комедий Гоголя на сцене тем, что в зрительный зал набивалась публика, по своему общественному и образовательному уровню мало отличающаяся от представленных на сцене персонажей.
Однако вслед за таким (в данном случае, социальным) расподоблением, которое должно облегчить «излетание» смеха, обманув бдительность нашего, пуще всего боящегося показаться смешным, «эго», у Гоголя следует уподобление, призванное перевести смех на рельсы самоузнавания и покаянной самокритики. Этой-то цели в гоголевской прозе часто служит комментарий повествователя. Широко известен пассаж из «Мертвых душ» о Коробочке: «… веселое мигом обратится в печальное, если только застоишься перед ним, и тогда бог знает что придет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами…» (VI, 58). Осмелимся признаться себе, что в этом комментировании, резко снимающем социальную дистанцию и обращающем «противу лица» образованных читателей вслед за смехом (с его «недумающими, веселыми, беспечными минутами») «иную чудную струю» горечи и печали, – что в этом риторическом вопрошании уже сквозит некая искусственность. В самом деле, чем так Коробочка, именно Коробочка, похожа на аристократическую даму, толкующую о модных уклонах католицизма и политических переворотах? Разве что расстроенным хозяйством, – но у Коробочки, несмотря на тупость, как раз есть хозяйский толк. Чувствуется, Гоголь дидактически здесь форсирует свою потребность в «повороте смеха». Но сама эта потребность существовала в нем исходно, а не только на стадии осознано-программных, учительных задач.[80]80
Сошлюсь здесь на замечание С. Г. Бочарова, сделанное им в статье, к которой еще будет повод обратиться. Говоря о единстве «самодовлеюще-комических “шуток” середины 30-х годов» (т. е. «Носа» и «Коляски») и позднейших воззрений Гоголя, исследователь добавляет: «По нашему убеждению, нет разрыва между гоголевской философией комического с ее серьезным психологическим обоснованием и органической спонтанной комической поэтикой названных “шуток”» (Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 207). Уместно тут вспомнить и давние слова П. Вяземского о «непрерывности» Гоголя: «Не то, чтобы он лег спать автором “Ревизора” и “Мертвых душ” и проснулся автором книги “Выбранные места из переписки с друзьями”…» (Вяземский П. А. Сочинения. Т. 2. М., 1982. С. 175).
[Закрыть] Тому пример – «Иван Федорович Шпонька…», писанный еще в 1831 году. «Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если глядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там уже знакомое, читанное несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе» (I, 288–289). Молодой, веселящийся автор как бы успевает предупредить своего образованного читателя, чтобы тот не слишком зазнавался и не считал милого Шпоньку круглым идиотом, отделенным от него, читателя, множеством маршей на «лестнице человеческого совершенствования». Городской житель, клубный завсегдатай, наравне с Иваном Федоровичем живущий смешной инерцией привычек, должен послужить посредствующим звеном в уподоблении микроскопического Шпоньки горделивому читателю.
Если же такой «уподобляющий», «расширителыный комментарий в силу избранного – драматического – жанра со стороны автора никак невозможен, комментарий этот, как бы подразумеваемый в замысле того или иного сценического лица, часто напрашивается на перо чуткому толкователю. Откликаясь рецензией на «Женитьбу», Белинский замечает по адресу Подколесина: «Пока вопрос идет о намерении, Подколесин решителен до героизма; но чуть коснулось исполнения – он трусит. Это недуг, который знаком слишком многим людям, поумнее и пообразованнее Подколесина. В характере Подколесина автор подметил черту общую, следовательно идею…».[81]81
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 574.
[Закрыть] Еще интересней в комментировании Белинского выглядят те, кто «поумнее» и «пообразованнее» Кочкарева, а между тем в прочем подобны ему. Вводная формула, предваряющая рассуждения критика об этом удивительном персонаже, несколько случайна, недостаточно прицельна: «… добрый и пустой малый, нахал и разбитная голова». Но дальше следует уже знакомое нам выведение образа за рамки его локальной среды: «Горе тому, кто удостоится его дружбы. Кочкарев переставит у него по-своему мебель в комнате, да еще будет ругать, если тот не усердно будет помогать ему распоряжаться в своем доме… Кочкарев хочет, чтобы все шло и делалось через него…».[82]82
Там же. С. 575.
[Закрыть] Уж не свою ли дружбу с Бакуниным, ее мучительные испытания имеет здесь в виду Белинский? Дружбу с Мишелем, обладателем тиранического темперамента, с человеком, который, по свидетельству «Висяши» (Виссариона Григорьевича), требовал от наставляемых им друзей общности взглядов даже на гречневую кашу? Во всяком случае, в отзыве Белинского проскальзывает готовность признать некое сходство между личностью своего склада и Подколесиным, между Кочкаревым и своими знакомцами – так что дистанция, отделяющая комические персонажи «Женитьбы» от просвещенной аудитории, снята во имя «общей идеи», юмористической тотальности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































