Текст книги "Движение литературы. Том I"
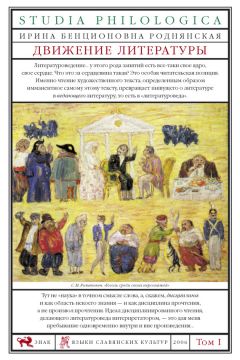
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Лирический образ вещи в поэзии двадцатого века
Трудно понять пути новой русской поэзии, не проследив и не уяснив судьбу вещи в ней: от вспомогательного, обстановочного элемента – к первостепенной лирической величине – и затем, по крайней мере, в одной из тенденций, к ее расщеплению, дематериализации и исчезновению за пологом слова и звука.[173]173
Тема настоящих размышлений была поднята в известных работах Л. Гинзбург «Вещный мир» и «Поэтика ассоциаций» (Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 311–406).
[Закрыть]
Разумеется, образ вещи может быть дан в литературе и, значит, в лирике только словом, через слово. Но это не означает, что всякое именование вещи выдвигает на первый план ее образ. В поэзии – гораздо больше, чем в повествовании, само слово является образосозидающим. Лишь когда в слове о вещи не выпячена его лексическая новизна, погашена его стилистическая характерность (поэтизм, прозаизм, диалектизм, вульгаризм и пр.), когда вещественные значения не подмяты поэтическим корнесловием («В волчцах волочась за чулками…» – или опять-таки у Пастернака: «… чайный и шалый зачаженный бутон» – бутон уже не виден) – тогда только образ вещи действительно просвечивает сквозь слово как самостоятельный лирический компонент. Поясню простым примером – стихотворением раннего Есенина «В хате»:
Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц.
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.
Это типичный натюрморт в лирике, с «настроением» (милое детство!), с признаками нового зрения (обилие ближних планов, благодаря которым предметы не просто детально обозначены, а именно лирически облюбованы). Но легко заметить, что вещность всех поименованных здесь вещей не одинаково интенсивна. Диалектные и специфически «деревенские» слова слегка как бы развеществляют то, что ими названо. «Шелуха сырых яиц» гораздо, так сказать, материальней, чем драчены, для приготовления которых были только что разбиты эти яйца, а «тараканы» вещественней «попелиц». В общем, эта яичная скорлупа – единственно подлинная новая вещь в наполненном вещами маленьком этюде Есенина; пройдя через стилистически нейтральное слово, она удивляет именно как предмет, до сих пор не присутствовавший в поэзии, не исключая поэзии с бытовой и фольклорной окраской.
Еще одно, столь же трудноуследимое, но потребующееся в дальнейшем разграничение – между лирическим, с одной стороны, и изобразительно-обстановочным, с другой, – образом предмета. Моменты изобразительности, обстановочности неизбежны в лирике – искусстве, пусть по традиционной классификации «выразительном», однако связанном с ситуацией, с конкретностью места и времени, в отличие от музыки или нефигуративного орнамента. «Она сидела на полу / И груду писем разбирала», – это эпизод из тютчевского лирического романа («денисьевского цикла»), и он требует предметного упора, элементов сценической обстановки, – которые и даны: в виде груды писем. Но чтобы предмет зажил собственно лирической жизнью, он должен быть втянут в сеть субъективнодушевных ассоциаций или символических соответствий. Он должен свободно входить в состав всех метафорических сопряжений – и как реалия, и как идеальное подобие, ее поясняющее, как то, с чем реалия сравнивается; должен без труда обосновываться на обеих «половинах» иносказания, тропа.
Таким образом, «мир вещей» в принципе не составляет специфического начала в лирике, и в границах целых эпох или стилей он может лежать на периферии ее возможностей. В определенном смысле мощная обстановочность Державина, добросовестные реалии Некрасова или даже летуче-скупой абрис у Фета: «Рояль был весь раскрыт…» – явления одного порядка. Вещи здесь по преимуществу типичны, а не символичны; они «работают» по принципу метонимии (конкретная частность свидетельствует о целом, например, о некоем укладе с его мирочувствием), а не по принципу метафоры (ассоциативный мостик от одной сферы восприятий к другой). «Шекснинска стерлядь» Державина или «крест да пуговица» в некрасовской песне про Калистратушку, как говорится, не равны себе: за ними пласты жизни, бытовой и духовной, – но взятые не в специально лирическом модусе.
Притом для классической лирики очень важна отобранность, отборность вещей. Я имею в виду не только ту общепонятную сторону дела, что вещи, иерархически заниженные, из нижних слоев быта, с трудом проникали в высокую лирику, – окруженные извиняющим их комическим ореолом («фламандской школы пестрый сор») или стилистически отмеченные в качестве дерзких прозаизмов. Я имею в виду другое: лирика XIX века не была заставлена и захламлена, в отношении мира вещей в ней действовала своеобразная бритва Оккама – столько предметности, сколько нужно, чтобы жизненно укоренить лирический импульс и дать ему разгон, – но не больше. Рядом с раскрытым роялем Фета немыслим столик, на котором дымится чашка шоколада, или трюмо, в котором отражается певица, – это было бы просто кощунством. То же очевидно, если обратиться к классической медитативной лирике, где отправной точкой для раздумья служит памятный или чем-либо поучительный предмет, вещь: «Цветок засохший, безуханный, / Забытый в книге вижу я…» (А. С. Пушкин); «На серебряные шпоры / Я в раздумии гляжу…» (М. Ю. Лермонтов). Эта вещь оказывается только берегом, от которого отталкивается, чтобы уплыть, ладья поэтического воображения; всякая ее конкретизация и окруженность другими вещами ощущались бы здесь как избыточные.
Итак, до сравнительно недавнего времени мир вещей проникал в лирику только сквозь ряд строгих фильтров: стилистической уместности, типичности, причастности к заданной ситуации (о мире природы, тоже предметном в своем роде, я не говорю – в прошлом веке он уже был насыщен давней лирической жизнью, взаимопроникновением «я» и «не-я»: «Все во мне и я во всем»). И вдруг – в отношении вещей – все в поэзии переменилось. Фильтры внезапно лопнули, и вещественность цивилизованного мира хлынула в лирику. Лирика встала перед проблемой освоения вещи не периферией своих средств, а самым своим существом, ядром своей впечатлительности и выразительности. О том, что это так, мне кажется, свидетельствуют все направления новой поэзии, начиная даже с символизма. Если на минуту отвлечься от социально-идеологической стороны их споров, манифестов и рекомендаций, то едва ли не всякий раз в остатке получится вопрос о смысле и способе присутствия вещи в поэзии. В первой четверти двадцатого века спорили о предметном образе (и о предметности слова) так же горячо, как в первой четверти девятнадцатого – о языке и стиле. Уже девиз «от реального к реальнейшему» постулировал в лирике мир реалий, хотя и собирался сделать его мостом к миру сущностей. Постсимволистские течения борются с символизмом за самодовление реалий (акмеизм), за расширение их круга, выход на улицу (футуризм, фактически уже упрежденный экспрессионистскими опытами Брюсова, Блока, Белого); затем идут имажинисты с их поисками «органического образа», конструктивисты с их «локальным приемом», «обэриуты» с их предпочтением мужественной конкретности материальных предметов всяческим «переживаниям», – куда ни кинь, лирическое слово воспринимается как опредмечивающее, по-своему сталкивающее и стягивающее предметы.
Конечно, показательны в первую очередь не теории и эксперименты, а полноценная поэтическая практика художников-творцов. Между ними в интересующем нас ракурсе окажется больше сходства, чем различий. По воспоминанию Пастернака, Маяковский как-то сказал ему: «Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге».[174]174
Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1982. С. 456.
[Закрыть] Но это только летучий афоризм, характеризующий программность Маяковского, а не наклонности Пастернака. Последний любил, мог любить молнию в электрическом утюге не меньше, чем Маяковский, хотя и по-другому: не как техническое достижение, а как знак домоводства, пленительной женской хлопотливости. Дело не в мотиве, а в самом лирическом приятии вещи. Пресловутый «утюг» не мог быть для Пастернака, также как и для Маяковского, низким, а главное – не мог быть немым предметом.
Но прежде чем обратиться к опыту самих стихов, естественно будет задаться вопросом, откуда же взялась эта экспансия вещей в лирику, начавшаяся после первой русской революции, в эпоху «модерна», и к рубежу 1917 года достигшая решительной силы? Ближайшее (хотя и слишком общее, поскольку речь идет о самобытных путях искусства) объяснение находим в вещном пафосе позднекапиталистической цивилизации, которая стала выбрасывать на рынок множество новых «комфортных» вещей, культивировать потребности в них и прославлять эти потребности как симптомы роста и расширения человеческой индивидуальности. Сейчас, когда новые вещи, как на ровно движущейся ленте конвейера, съезжают к нам в жизнь и оттуда – беспрепятственно – в искусство (так что, например, умиленное манипулирование автоматом с газированной водой, как предметом в некотором роде метафизическим, сразу дало почувствовать, в известном стихотворении Б. Ахмадулиной, позу и натяжку), – короче говоря, в наше привычно-затоваренное время трудно уже представить всю претенциозность и весь психологический эффект того натиска, который когда-то испытали рафинированные пласты духовной культуры со стороны нового мира вещей. На рубеже веков немецкий экономист и философ В. Зомбарт, энтузиаст наступательного капиталистического этоса, писал с интонацией торжества: «… поколению литераторов, философов и эстетиков, бедных кошельком, но богатых сердцем, богатых sentiments, но страшно бедных sensibilité, несвойственно было из принципа или по недостатку средств настоящее понимание материального благополучия, украшения внешней жизни. Даже Гёте, который принадлежал к более светской эпохе, который не чужд был наслаждений и у которого не было недостатка во вкусе к роскоши и блеску, даже Гёте жил в доме, убранство которого нашему теперешнему вкусу представляется жалким и нищенским… Даже художники не знали волшебного очарования обстановки из красивых вещей, они ничего не понимали в искусстве жить в красоте: они были аскетами или пуристами. Они или одевались как назореи в верблюжий волос и питались акридами и диким медом, или вели жизнь гимназического учителя или чиновника». Теперь же, по словам Зомбарта, «все жизнепонимание претерпевает перемены. Оно становится из преимущественно литературного преимущественно художественным, из абстрактно-идеалистического чувственным. Пробуждается вкус к видимому здешнего мира, красивой форме даже внешних предметов для радости жизни и ее наслаждений… В настоящее время впереди всех по части эстетической обстановки идут магазины, торгующие парфюмерными товарами и галстуками, магазины белья, салоны для завивки дам, салоны для стрижки и бритья, фотографические мастерские и т. д. Деловая и торговая жизнь пропитывается красотой».[175]175
Цит. по кн.: Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903. С. 268–269. С этими хвалами Зомбарта любопытно сопоставить отзыв Блока о качестве модных товаров, продиктованный его эстетическим неприятием буржуазности. В июне 1911 г. Блок пишет жене в Париж: «Пойми, наконец, простейшую вещь, что все современное производство вещей есть пошлость и не стоит ломаного гроша, а потому покупать можно только книги и предметы первой необходимости» (Блок А. Письма к жене // Литературное наследство. Т. 89. М., 1978. С. 264).
[Закрыть] Этот довольно-таки агрессивный вызов просачивался сквозь все поры жизни и не мог не породить ответной лирической реакции, той или иной. От пассажей Зомбарта легко перекинуть мостик к миру эгофутуристических поэз Северянина, к некоторым раннеакмеистическим «радостям жизни». Но даже для того, чтобы быть отвергнутым, этот новый «дизайн жизни» должен был быть воспринят внутрь лирической чувствительности и как-то переварен ею, в форме ли мелькающих бликов «таинственной пошлости», или как видение «бунта вещей», возвращающихся к растительно-животному, живому миру, который послужил для них сырьем, или еще как-нибудь.
Однако было бы наивно объяснять брак лиризма с вещностью исключительно влиянием на жизнь массового производства, его щедрых соблазнов и пороков. Чтобы учесть неточность этой социологической проекции, надо вспомнить, что, если умножение вещей в их количестве и разнообразии и могло вызвать определенную перестройку поэтического мира, то оскудение вещами нисколько эту перестройку не задержало, наоборот – обострило. «Серная спичка», которая могла бы согреть зябнущего на задворках жизни поэта, – тоже новая вещь, и притом доросшая уже до символа, поэтически куда более значительная, чем «алмазные сливки иль вафля с начинкой» в ранних стихах того же автора – Осипа Мандельштама. Когда вещи по-новому прочно вошли в лирику, выяснилось, что им не надо быть ни красивыми, ни вызывающе пошлыми, ни технически удивительными – им достаточно быть простыми, так сказать, демократическими вещами, чтобы конденсировать энергию лирического чувствования. Какой-нибудь «выкройки образчик» становится свидетелем лирической драмы, как «цветок засохший», и у Пастернака (герой чьих стихов плачет над этой «выкройкой») именно «уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок» облекается высшим лирическим достоинством.
Дело, по-видимому, еще было в общей переориентировке внимания с вечного на текущее, которую переживает культура накануне Первой мировой войны. В какой-то момент культурной истории вечные темы лирики – природа, любовь, смерть, душа, Бог – зацепились за мир созданных человеком вещей и уже словно бы не могли обрести себе выражение в обход этого мира. Так, у Анненского смерть сопряглась с фенолом, которым предохраняют от тления мертвое тело. Это современная смерть, современный ужас смерти, вечная тема, пропущенная сквозь сегодняшнее: «… левкоем и фенолом / Равнодушно дышащая Дама». (Решимость лирики в таких вещах подстегивалась, конечно, романом; всем памятна жуть заключительной сцены «Идиота», где Рогожин объясняет Мышкину, как он накупил склянок с дезинфицирующей жидкостью, чтобы тело Настасьи Филипповны подольше сохранилось.)
Сюда же надо добавить сдвиг мысли, «любомудрия» от натурфилософии к культурфилософии. Позволю себе каламбур: от твари к утвари. Поэзия впрямую не зависима от философских интересов своего времени, но все же соотносительна с ними. «Лирику природы» потеснила неожиданно отвоевавшая себе много места «лирика культуры», и, главное, оба мира стали взаимопроницаемы и равноправны. Мало того что Природу можно стало сравнивать с Римом и пояснять ее сущность его историческими контурами (ранний Мандельштам), что в лесе стала чудиться колоннада, а не обратно (ранний Пастернак). Но и в самой «лирике культуры» было погашено философски влиятельное различение между культурой и цивилизацией – культурой, которая органически сопутствует природе, и цивилизацией, которая ей противоположна. В стихотворении молодого Мандельштама «Теннис» спортсмен разыгрывает партию с девушкой-партнершей, «как аттический боец, в своего врага влюбленный». Теннисный мячик залетел, как видим, высоко, очень высоко.
Разительный перепад между космологическим, натурфилософским и, с другой стороны, культурно-вещным, культурно-материальным подходом к одному и тому же источнику впечатлений могут проиллюстрировать следующие две выдержки. Это, правда, не стихи, а проза, писавшаяся в конце 20-х – начале 30-х годов, но проза двух больших поэтов, сохраняющая все признаки их исходной, первоначальной поэтической образности. Короче, я цитирую два путешествия по Армении – Белого и Мандельштама.
Андрей Белый: «Легендою жизни потухших вулканов меняются местности в лапы седых бронтозавров <…> в спины драконов, едва отливающих розовым персиком, в золотокарие шерсти, в гранаты хребта позвоночного, в головы, вставшие из аметистовой тени… За Караклисом исчезла в ландшафте земля, ставши светом и воздухом <…> там оттенки текучи, как статуи в русле неизменного очерка гор, их сквозных переливов, слагающих светопись кряжей Памбака…».[176]176
Впервые: Красная новь. 1928. № 8.
[Закрыть]
О. Мандельштам: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вливаются в стакан румяного чаю и расходятся в нем кучевыми клубнями… Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов – отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано».[177]177
Впервые: Звезда. 1933. № 5.
[Закрыть]
Оба эти эпизода написаны тогда, когда спор символизма с акмеизмом давно отошел в прошлое, но они, как было сказано, являют рецидив юности каждого из поэтов. Мы же, глядя из нашего времени, равно удалены, кажется, от обоих способов восприятия. Нам уже представляется совершенно недостоверным – и как физика, и как «метафизика» – золотой, парчевый, аметистовый космос Андрея Белого, увитый мифическими телами воздушных драконов, осыпанный драгоценными каменьями, испещренный печатками гностических эмблем. Но испарилась и освободительная свежесть мандельштамовского (как сказано в одной из его программных статей) «сознательного окружения человека утварью».[178]178
Мандельштам О. О природе слова (1922) // Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 64. В этой статье Мандельштам, как известно, формулирует свое понимание «эллинизма» – в противовес спиритуализму символистов: «Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку <…> очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом».
[Закрыть] Нарочитая сподручность того, что «утварью» никогда не станет и не должно становиться: превращение облаков в сливки, селения – в корзинку из цветочного магазина (или еще оттуда же: землянки отшельников – дачные погреба; «гробницы, разбросанные на манер цветника»; севанский климат – «золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца»[179]179
Литературная Армения. 1967. № 3. С. 83, 85.
[Закрыть]) – не раскрепощает уже, а смутно тревожит: чересчур удобный и профанный, мир этот понуждает вспомнить не об античных ларах и пенатах, мечтавшихся Мандельштаму, а – воспользуюсь выражением Андрея Битова – о «пляжной цивилизации».
Взгляд на природу и вообще на большой мир как на подобие, грубо говоря, склада – салона или амбара, все равно – бытовых вещей не есть только акмеистическая отметина Мандельштама. Ту же вещно-бытовую фамильяризацию природы мы находим у самых разных поэтов в постсимволистские 10-е годы. Для Пастернака в это время «Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла», и если мы обратимся к небесно-природному хозяйству раннего Есенина, то и там обнаружим изрядно утвари, которая более плавно сопрягается с зорями и водами потому, что она – не городская. Смешать природное с миром искусственных вещей, уподобить одно другому, уравнять то и другое в достоинстве, приписать природе не просто сотворенность, а некую рукотворность (когда даже самый Бог созидает не творческим словом «Да будет», а возится у станка: «Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа / И с дней Экклезиаста / Не покидал поста / За теской алебастра») – такова была поэтическая философия времени. Очень интересно проследить за мотивом окна в поэзии Анненского, Мандельштама, Пастернака. Оно – как бы грань между заоконным космосом небес и деревьев и интерьером комнаты, но грань не разделяющая, а роднящая. Рисунок ветвей на небе, как на эмали или листе бумаги, вставленном в раму (у Анненского и Мандельштама), или, наоборот, сад, вбегающий в окно или трюмо, чтобы поселиться среди комнатной толчеи вещей и вывести их наружу (Пастернак), – вот композиция таких натюрмортов с элементами пейзажа. Можно было идти обратным путем – как водилось у футуристов: не фамильяризация природы, а романтизация вещи, повышение ее в чине. Молодой Маяковский выводит за собой в космическую даль мир вывесок и витрин: «Я сразу смазал карту будня, / Плеснувши краски из стакана, / Я угадал на блюде студня / Косые скулы океана, / На чешуе жестяной рыбы / Прочел я зовы новых губ…» Казалось бы, это совершеннейший контраст тому, когда поэт отождествляет себя с веткой после дождя и, держа руку-ветку на весу, убеждается: «У капель тяжесть запонок» (Б. Пастернак). Тем не менее тенденция едина: природа как генератор лирических тем утрачивает свою неприкосновенность и чистоту. Можно ли здесь увидеть отражение орудийного и потребительского отношения к природе, свойственного все той же полосе цивилизации? Такой вывод, идеологически не лишенный смысла, погрешал бы эстетически, зачеркивая непреходящее в завоеваниях новой поэзии. Поэтому я предпочитаю поставить тут многоточие…
На первом этапе открытие вещей в новой лирике мало чем отличается от такового в прозе: это экстенсивное освоение прежде незнакомых или непривычных именно в лирической сфере реалий. Втягиваясь в личный мир поэта, такого рода вещи, конечно, преображаются, получают подсветку и таинственную прибавку к своему прямому значению: но пока они все еще привносят в лирическое стихотворение собственную обстоятельственную микросреду, в отрыве от которой не могут быть ни названы, ни использованы. Блок не боялся новых вещей. Новая удивительная вещь могла стать у него темой стихотворения. Он один из первых – быть может, первый – написал стихотворение о самолете (даже два, но здесь имеется в виду более раннее): «О стальная бесстрастная птица, / Чем ты можешь прославить Творца?» Самолет в этом стихотворении – символ неприемлемой технической цивилизации, ее демонического падения с высоты – безусловно, не изобразительная, а лирическая единица. Но самолет может тут существовать только как часть определенной тематической картины, между ним и внутренним миром лирика сохраняется непереходимая полоса отчуждения. Перемены в лирической судьбе «самолета» можно проиллюстрировать стихотворением позднего Пастернака «Ночью». «Он потонул в тумане, / Исчез в его струе, / Став крестиком на ткани / И меткой на белье»; он же, этот малый стежок швейной иголки, приравнивается звезде, а художник уподобляется бессонному летчику, который, конечно, составляет с самолетом одно целое, его душу. Пастернаковский самолет побывал во всех пластах жизни – от домоводства до славы звездной и творчества, он непроизвольно нарастил множество значений, в том числе имеющих мало общего с прямой его летательной функцией. Можно утверждать, что он лирически обжит.
Был непривычен – не новизной, а невхожестью в прежнюю лирику – и предметный мир блоковской «Незнакомки». И. Анненский в необычайно проницательной статье «О современном лиризме» сразу отметил особое свечение этого обыденно-затертого мира: «Крендель, уже классический, котелки, уключины, диск кривится… и как все это безвкусно – как все нелепо просто до фантастичности… шлагбаумы и дамы – до дерзости некрасиво. А между тем так ведь именно и нужно, чтобы вы почувствовали приближение божества».[180]180
Анненский И. Книга отражений. М., 1979. С. 362
[Закрыть] Но опять-таки все эти вещи – пусть лирически загадочная, но единая среда, сама в себе спаянная и противостоящая мечте. Обстановочное и внутреннее еще размежеваны, располагаясь по ту и по сю сторону жизни души, и нужна мотивировка опьянением, чтобы преграда пала и «перья страуса» закачались «в мозгу». Н. Гумилев, рецензируя новые поэтические книги, в 1912 году писал о пути Блока к предметности: «Во второй книге Блок как будто впервые оглянулся на окружающий его мир вещей и, оглянувшись, обрадовался несказанно…» И дальше: «… мир, облагороженный музыкой, стал по-человечески прекрасным и чистым – весь, от могилы Данте до линялой занавески над больными геранями».[181]181
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923. С. 155–157.
[Закрыть] Гумилеву в пору его первого акмеистского энтузиазма приятно было заметить эти «линялые занавески». Но он поторопился увидеть в них одну из вещей мира в том смысле, какой мог быть близок его собственным устремлениям. Занавески эти живут в своем стиле – песенном (так что они не «облагорожены» музыкой, а прямо-таки продиктованы ею) – и в своем бытовом срезе: как аксессуар «мещанского житья» для ролевой лирики Блока; они совсем не то, что у него же – портрет «в его простой оправе», подлинно лирический предмет, не нуждающийся в побочных мотивировках, чтобы стать задушевным, но зато и предмет, вполне узаконенный классической поэзией. Иначе говоря, лирика Блока еще не вступает с вещью, тем более с новой вещью, в те интимные отношения, которые станут вскоре неустранимой чертой поэзии, вплоть до сегодня. Слово «еще» ни в малой мере не указывает на какую-либо творческую ограниченность Блока. Напротив, в этом «еще не», возможно, одно из его достоинств как, во многих отношениях, последнего классического поэта.
Подлинный отец русского лирического «вещизма» – конечно, Иннокентий Анненский. Мир «не-Я», в который всегда так жадно и недоуменно вглядывается человеческое «Я», стремясь как-то его разгадать, приручить, гуманизировать, втянуть в свою душевную историю, – этот мир «не-Я» представлен у Анненского именно миром вещей. Если у Тютчева «Ночь хмурая, как зверь стоокий, / Глядит из каждого куста», то у Анненского эта ночь бытия глядит с каждой полки и этажерки, из-под шкафа и из-под дивана. Разумеется, у Анненского есть тончайшие лирические пейзажи, и городские, и на просторе, но очевидно, что нерв его поэзии проходит не здесь. Глаза «не-Я» («Но в самом “Я” от глаз “не-Я” / Ты никуда уйти не можешь») – это у него глаза ближних предметов, а не космических стихий.
В названной статье «Вещный мир» Л. Я. Гинзбург говорит о присутствии в стихах Анненского «прозаизмов» (например, «вал», «шипы» – в устройстве шарманки). Но суть, пожалуй, в том, что эти слова у Анненского стоят уже по ту сторону деления на прозаизмы и поэтизмы и благодаря своей стилистической прозрачности, немаркированности тихо впускают в стих обозначенные ими вещи, с которыми тут же сживаешься. «Винт» и «таксомотор» запоминаются при чтении Блока как слова редкие, необычные. Анненский, давая почувствовать привычность предмета, именует его походя, без всякого нажима.
Анненский первый научился насыщать заурядные «городские» предметы, так сказать, сор цивилизации, излучениями внутренней жизни – своей, человеческой вообще. Сначала это делалось им почти наивно – в виде элементарной аллегории. «Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат, / Те же грустные лакеи, / Тот же гам и тот же чад… Муть вина, нагие кости, / Пепел стынущих сигар…» Это не колоритная обстановка дна, куда «в час назначенный» забредает поэт, чтобы встретить там Незнакомку. Это самый ход существования, аллегорически представленный поэтом в «трактире жизни», написанном вслед пушкинской, очень ценимой Анненским, «Телеге жизни». «А в сенях, поди, не жарко: / Там, поднявши воротник, / У плывущего огарка, / Счеты сводит гробовщик», – читаем в конце, и после такого финала вновь перечитываем стихотворение, чтобы полней уловить иносказательную подкладку этой мнимо-бытовой композиции. Здесь двойная жизнь навязывается вещам почти насильно, но вскоре Анненский сумеет этим вторым планом оживить и одушевить их.
У Анненского есть особый круг стихов, подобный лермонтовским так называемым «иносказательным пейзажам» (параллель, интересная еще и тем, что она дополнительно иллюстрирует скачок от натуры к фабрикату, на который отважилась, в обращении к новым предметам, поэзия). Этих пьес у Лермонтова не так много («Поток», «Парус», «Тучи», «Ночевала тучка золотая…»), но они – сгущенно лермонтовские: малые личные мифы, где лирическое чувство выражается косвенным, целомудренным образом, на древней основе психологического параллелизма. Целый ряд пьес, насыщенных подобной же красотой и печалью существования, можно назвать по аналогии «иносказательными натюрмортами» Анненского. Как и в случае с Лермонтовым, это лишь грань творчества Анненского, но такая, которая врезается в сознание как специфический «анненский элемент», подобный лермонтовскому элементу. «Старая шарманка», «Будильник», «Стальная цикада» – здесь предметы обладают внутридушевным бытием, изживают свой удел, свою судьбу, и хотя, по видимости самобытная, их жизнь вдунута в них человеческим переживанием, исходит из него и к нему же ведет обратно, но мир «не-Я» при этом все-таки получает собственную убедительную долю жизненности и сердечности. Когда в популярнейшем по справедливости стихотворении «То было на Валлен-Коски…» поэт говорит: «Бывает такое небо, / Такая игра лучей, / Что сердцу обида куклы / Обиды своей жалчей», – понятно, что жалуется-то он на свою обиду, на то, что сердце его одиноко, «как старая кукла в волнах». Но и куклу, эту деревяшку, швыряемую в водопад, тоже жаль всерьез, и, однажды наделенная отраженной жизнью, она навсегда остается для нас вправду живой и вправду несчастной. Так жалеть не человеческое умел только Лермонтов, который, по замечанию В. В. Розанова, чувствовал, как больно горе, когда в ее каменную грудь врезается лопата. В «Смычке и струнах» Анненского так же верится тому, что «сердцу скрипки было больно» и что поэту дано это ощутить.
Творческие задачи, связанные с миром вещей, Анненский ставил перед собой осознанно, в ходе глубокой рефлексии над современной ему поэзией. Он считал, что мир природы имеет вечное и неизменное эстетическое значение как мир сущностных стихий, запечатленный в архетипических мифах, к которым современному человеку, живущему в истории и повседневности, нечего добавить. Если такой современный человек захочет найти поэтический образ своей изменчивой, мимобегущей, исторически обусловленной жизни, ему лучше всего обратиться к городской обстановке, где ничего еще не получило освященного преданием мифологически стабильного значения и поэтому может символизировать сиюминутные душевные ситуации. «Там, где на просторе, извечно и спокойно чередуясь во всю ширь, то темнеет день, то тает ночь, где рощи полны дриад и сатиров, а ручьи нимф, где Жизнь и Смерть, Молния и Ураган давно уже обросли метафорами радости и гнева, ужаса и борьбы, – там нечего делать вечно творимым символам… Вам непременно будет казаться, что поэзия просторов, отражая этот, когда-то навек завершенный мир, не может, да и не должна прибавлять к нему ничего нового». Поэтому для Анненского «символизм в поэзии – дитя города. Он культивируется и растет по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы родятся там, где еще нет мифов, но где уже нет веры… Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея».[182]182
Анненский И. Указ. соч. С. 358.
[Закрыть]
Сам Анненский в общем остался чужд эффектам морга, зеленого сукна и паноптикума. Чудо его избирательного внимания в том, что он открыл для лирики в предметах, образующих заурядный фон человеческой жизни, психические резонаторы. Это открытие не кажется таким ошеломительным при сопоставлении с развитием психологической прозы: Достоевский, Толстой (например, цепляющийся за ненужные предметы и детали взгляд Анны перед самоубийством), конечно, Чехов; позже, на Западе, – Пруст, Вирджиния Вулф. Но нужно было упасть каким-то ограничениям и запретам именно на путях поэзии, чтобы такое вот общепонятное сцепление чувства с вещью: тоска больного, вперившегося в узор на обоях, и самый узор, как бы вобравший эту тоску, – вошло в стихи, притом расширенное возможностями лиризма до мировой скорби.
По бледно-розовым овалам,
Туманом утра облиты,
Свились букетом небывалым
Стального колера цветы.
………………………….
В однообразьи их томимый,
Поймешь их сладостный гашиш.
Поймешь, на глянце центифолей
Считая медленно мазки…
И строя ромбы поневоле
Между этапами Тоски.
(О том же – «Тоска маятника»: «И лежу я, околдован. / Разве тем и виноват, / Что на белый циферблат / Пышный розан намалеван».) В творчестве Анненского лирическая вещность переживает расцвет, момент равновесия: вещь вполне вводится в права иносказательной жизни, но еще не теряет своей цельности, самотождественности, не расщепляется на пучки ощущений и не заменяется словом о вещи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































