Текст книги "Движение литературы. Том I"
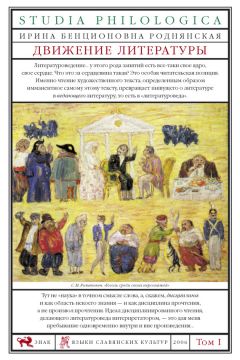
Автор книги: Алсу Бикташева
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«Братья Карамазовы» как завет Достоевского[117]117
Статья написана в соавторстве с Р. А. Гальцевой
[Закрыть]
Когда в июльской книге «Русского вестника» за 1879 год не оказалось очередных глав «Братьев Карамазовых», то читатели, оставаясь в неизвестности относительно того, что же последует за «бунтом» Ивана и его многозначительным разговором со Смердяковым, возроптали и даже грозились притянуть к ответу неповинного в этой заминке издателя журнала. Так, Ф. М. Толстой, будучи рафинированным человеком искусства и одновременно значительным лицом в цензурном ведомстве, с непосредственностью подростка досадовал на перерыв в захватывающем чтении и писал пылкому почитателю Достоевского литератору О. Ф. Миллеру: «Протестуйте же снова хоть сто раз против приемов, применяемых Катковым. Никто не насмехается так над публикой, как он, заставляя ожидать, затаив дыхание, все интеллигентное население России».
Теперь, много десятилетий спустя, молва идет впереди романа, и мы обыкновенно приступаем к чтению, уже зная, каким образом был убит Федор Павлович Карамазов (хотя до сих пор спорим о том, кто в конце концов виноват в его смерти). А между тем вовлекаемся в мир произведения все с тем же затаенным дыханием: не только умственно и эстетически, но как бы непосредственно участвуя в объемлющем нас событии Жизни. Из современных Достоевскому читателей по существу указала на это особое качество «Братьев Карамазовых» Екатерина Федоровна Тютчева (дочь поэта), правда, увидешая здесь будто бы не исполненную писателем задачу: «Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить словом то, что одна жизнь может совокупить…».[118]118
Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 489.
[Закрыть] Конечно же, и те читатели, которые трепетали в предчувствии литературной разгадки и развязки, соприкасались, сами не давая себе в том отчета, с более фундаментальной жизненной тайной. И все же нынешнее восприятие обладает преимуществами, ибо опыт протекшего времени все настойчивей открывает в контурах романа контуры мироздания с его «порядком» и «беспорядком», с непреложностью его не нами выдуманных устоев и хрупкой зависимостью от нашей воли, с его законом круговой поруки и болезнью раздробленности, с его невыяснившимся движением то ли к идеальному пределу, то ли к катастрофе.
Цельный образ мирового и всечеловеческого бытия всегда сопровождает в русской литературе личные искания героев и служит пространством, в котором разыгрывается их судьба. Как бы один наследуемый и видоизменяемый символ «всеединства» проходит от Толстого через Достоевского к Чехову. Всем памятен живой глобус, который Пьер видит во сне после своих мытарств в плену и каратаевской школы самоумаления: «Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой… В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает». Та же метафора океана, та же текучесть и слиянность мирового состава – в поучениях старца Зосимы: «… ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается». А Чехов словно подхватывает намеченную здесь же другую образную мысль Зосимы – о некоей вселенской цепи, которой повязано человечество в его историческом существовании. Студент из одноименного чеховского рассказа, ощутив трогательную приобщенность двух деревенских женщин к евангельскому повествованию об отречении Петра, с восторгом думает, что «прошлое… связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого», и ему кажется, «что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Однако именно в «Братьях Карамазовых» идея всеобщей связи постигнута так, что из нее рождается трагедия и мистерия.
Отношения между «каплями», образующими «глобус» Пьера, не составляют, судя по всему, проблемы для их нравственных воль: «капли» эти сближаются или отталкиваются, взаимопереливаются или взаимоуничтожаются по законам органической жизни; бессознательный разум Целого наделяет их склонностями, согласующимися с их судьбой. В рассказе «Студент» образ человеческой солидарности, единящий людей смысл являет себя не помимо культурно-исторического сознания и зависит от душевного труда каждого (внимавшая легендарной истории «Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль»). Но «правда и красота», «главное в человеческой жизни и вообще на земле», остаются как бы внутри душевного космоса, не обещая воцарения вовне (поэтому, быть может, от светлого чеховского рассказ исходит тончайшая грусть).
В романе Достоевского, где все имеет свое лицо и живет с напряженностью личных отношений, Иван Карамазов утверждает, что другого, «ближнего», любить вообще невозможно хотя бы потому, что он – другой. (Уже в нашем веке мэтр европейского экзистенциализма Жан-Поль Сартр отчеканит вызывающую формулу: «ад – это другие», вообразив новое откровение там, где для Достоевского был очевиден симптом духовной болезни.) Но примечательно: старец Зосима не отмахивается от правды, подмеченной в этом свидетельстве уединенного сознания. Он полагает, что в человеке присутствует неуничтожимая искра вечности и – как ее производное – такая неуступчивая сила самобытия, что ею действительно чрезвычайно трудно поступиться перед лицом другого. И потому «любовь деятельная», отказ от своей обособленной стези во имя бескорыстного участия в чужой жизни «есть дело жестокое и устрашающее». Здесь высказан не пессимистический взгляд на человеческую природу, а понимание ее трагедийной глубины и высших возможностей.
Как же при такой остроте личного самочувствия («В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь!») существует и не рассыпается человеческое единство, или иначе, как возможно, чем обеспечено «жестокое и устрашающее» дело любви? Достоевскому по сути предстояло воссоединить первоначала, которые вечно тревожили философский разум своей несогласуемостью: «существование», то есть личную суверенность человека, и «сущность», то есть бытие, предшествующее ему и соединяющее его с себе подобными и с миром. И писатель достигает этого в идеальной реальности романа. Недаром младшая современница Достоевского Е. Ф. Юнге, которую он причислял к своим наиболее проницательным и серьезным читателям, под впечатлением от романа заключала: «Ведь это же почти идеал искусства – человек, который реалист, точный исследователь, психолог, идеалист и философ. Да, он еще и философ, – у него совсем философский ум… видно, философы бывают врожденные, как гении!».[119]119
Юнге Е. Ф. Воспоминания. 1843–1860. М., 1914. С. VI.
[Закрыть]
По Достоевскому, сила, которая способна разомкнуть человека навстречу другому, имеет источник за пределами личных ресурсов. Она открывается тому, кто вступил на трудный путь самоотдачи, как радость, с виду беспричинная, не вытекающая из обстоятельств, а притекающая как бы из неповрежденного средоточия мира. В отчаянную минуту, заподозренный в отцеубийстве, только что пойманный в капкан тяжких улик, истомленный и униженный дознанием, Митя засыпает в избе, где его арестовали, на хозяйском сундуке, и видит сон, по своему колориту мучительно-страшный. Сновидение рисует ему голый и однообразный ноябрьский ландшафт (между тем как действие этой части романа происходит в ясные августовские дни) с падающим мокрым снегом, который, если вспомним «Записки из подполья», служит у Достоевского знаком уныния и сплошной безысходности. Митя мчится на тройке, как наяву он всего несколько часов назад подлетал к Мокрому в экстазе любовного самоуничтожения («… и исчезну!»). Но сейчас взгляд и душу его останавливает зрелище бедствия: деревенские погорельцы, иссохшие матери, голодный и озябший младенец, тянущий к нему ручонки. Отчего же, проснувшись, он «с каким-то новым, словно радостью озаренным лицом» произносит, обращаясь к своим мучителям: «Я хороший сон видел, господа»? Ведь в случае с Иваном такого рода картина пополнила бы собрание душераздирающих «фактов», предназначенных вызывать возмущение и толкающих к отвержению миропорядка.
Митина душа открывает в печальном зрелище посланную ей благодатную возможность выйти за пределы своего рока и своей муки к радости деятельного сострадания, что сродни уже изведанному Митей эротическому восторгу – как следующая ступень в жертве собственным «я» («… хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё… сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским»). И добровольным принятием на себя общей вины перед обиженными Митя, по Достоевскому, восстанавливает «высший порядок», в какой-то точке возвращая бытие к таинственной радостной первооснове, «без которой нельзя миру стоять и быть».
Мы знаем, что «бунт» Ивана Карамазова производил неотразимое – угнетающее и провоцирующее – впечатление на многих и многих читателей от К. П. Победоносцева до А. Камю. В соседстве со столь пронзительной аргументацией Ивана не оказывается ли провозглашенная в романе мажорная тема космической радости лишь авторским идейным пожеланием, остающимся за пределами художественного пространства?
Но чтобы поверить, что в «Братьях Карамазовых» дело не ограничивается разногласием «pro» и «contra» а приводится к некоей итоговой истине, нет нужды искать в романе серию неуклонных умственных аргументов. Последнее произведение Достоевского, более чем другие, заслуживает наименования вселенной со своей смысловой завершенностью и со своим расставляющим все по местам разумом. Создатель такой вселенной – не ментор, а демиург, его истина не умозаключается, а усматривается в его творении, и в этом смысле к роману приложимы слова Зосимы: «… доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно». Сосредоточенный на малом пространстве мир «Братьев Карамазовых» – это наподобие Ноева ковчега, совокупность всего живущего – взрослых, детей, животных, – связанная виной и любовью и поставленная перед лицом неба, преисподней и земли. Одной и той же ночью в одно и то же событие вовлечены четыре брата, представляющие все человечество. Они как будто расходятся и разъезжаются в разные стороны, теряют между собой связь, но каждый, поступая по-своему и идя своей дорогой, тем не менее не может выпасть из мистериального круга родства и взаимоответственности.
Всё совершается под общим небом, физическим и метафизическим, при безмолвном, но исполненном смысла свидетельстве одних и тех же звезд: они тихо сияют Алеше с «яхонтового неба», когда он в радостных слезах повергается на землю, и они в невозмутимой вышине сопутствуют смятению Мити, когда он мчится в последний раз взглянуть на свою избранницу. Их мог бы тогда же увидеть из окна поезда торопящийся прочь от отцовского дома Иван, если бы не надвинувшийся на его душу мрак, не подавленность тяжестью страшного открытия: «Я подлец!» (поезд символически соответствует духу Ивана, как тройка – Мите; у Достоевского железная дорога – неизменная эмблема извращенных и отчужденных человеческих коммуникаций: покрытая их сетью земля, как толкуется о том в «Идиоте», близка к апокалиптической развязке). И уже безнадежно удален от простертого над ним неба и от сияния этих звезд Смердяков, устроивший свое нарочитое падение в подвал-«преисподнюю».
Под небом романа происходят ужасные и преступные вещи: убийство, унижение бедняка, смерть ребенка, разгул ревности и самолюбия, схватка из-за денег. Как же Достоевский рискует в эту омраченную и катастрофически накаленную среду внести мысль о том, что «жизнь есть рай» – здесь и теперь?
В романе сквозь пелену человеческих страстей и непотребных деяний мгновениями просвечивает «райская» первозданность вещественного и душевного мира. В наших глазах утверждается единственность и драгоценность каждой вещи («любите всякую вещь»), оличенность каждой твари («посмотри на коня… али на вола, посмотри на лики их… какая красота в его лике»), ежеминутная возможность возврата к невинности («луковка» Грушеньки), незапятнанность существа ребенка – все это, расположенное как бы на заднем плане событий, становится ключевым и мирообразующим благодаря ощутительной близости к безгрешной, всепримиряющей земле, о небесной красоте которой напоминают высокие минуты романа.
В «Братьях Карамазовых» эта «тайна гармонии и порядка» дана прикровенно, косвенно, но о ней, как о чем-то, с несомненностью явленном взору, Достоевский уже засвидетельствовал в «Сне смешного человека»: «Я видел Истину – не то что изобрел умом, а видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки…» Достоевский в принципе отличается от искателей «золотого века» в историческом прошлом и от изобретателей его в будущем; для него гармония на земле возможна потому, что заложена в основе мира, а «рай» есть изначально пребывающее и только благодаря этому достижимое в грядущем состояние. Художественно-этическая интуиция Достоевского неотделима от русского духовного движения к «всеединству», впервые философски оформленного младшим другом писателя Владимиром Соловьевым и впоследствии принесшего разнообразные плоды в литературе, искусстве, космологии. Созерцание всех элементов мира в их родственном согласии и любовном взаимопроникновении, уверенность в этой как бы гарантированной «от века» норме бытия питали самые максималистские надежды и Достоевского, и Соловьева на погашение всех конфликтов, преображение человечества и восстановление попранной земли. Не наша задача проследить здесь, как это настроение, поначалу озабоченное прежде всего небратским состоянием человеческого рода, постепенно переливалось в заботу о судьбе мирового вещества и в фантастические по дерзости проекты перестройки всего его состава. Важно, что у порога «русского космизма» (ученые Вернадский и Циолковский, художник Чекрыгин, писатели Платонов и Заболоцкий) наряду с Н. Федоровым – проповедником титанической идеи «регуляции природы» – стоят Достоевский с его образом земного рая и Вл. Соловьев с его идеалом космической красоты – Софии.
Если Достоевский и утопист, то удивительным образом пренебрегающий тем, за что держится утопическая мысль, – ее организационным пафосом. В «утопии» его все должно «устроиться само собой» и «вдруг», стоит только людям, как говорит в романе таинственный посетитель старца Зосимы, «психически повернуться на другую дорогу». Это, так сказать, поворот внутреннего ока, когда мир неожиданно предстает как строй, а человек – как ближний. Достоевский призывает поверить той искре восторга перед бытием, которая по временам вспыхивает в каждом сердце, – поверить ей больше, чем своим обидам и счетам к миру. Согласно этике «Братьев Карамазовых», обращенный в эту сторону человек станет адресовать вину за беспорядок и горесть жизни не кому-либо другому, а самому себе. Он не впадет в панглосовское благодушие, он останется мучим страданием, – но не так, как Иван, у которого энергия сочувствия отделяется от наглядного предмета жалости и целиком переливается в абстрактное негодование, а так, как Алеша, который, не рассуждая и откликаясь словно на посланный именно ему зов, встает между бедствующим человеком и источником его беды (характерно, что возмутительные и скорбные «факты» из коллекции Ивана все без исключения относятся к прошлому либо к дальним краям; они едва ли не намеренно изъяты из сферы достижимости и деятельной помощи, а потому нагнетают отчаяние). Взять на себя вину сверх меры за каждое проявление жизненного раздора, возникающее на твоих глазах, это значит упразднить вражду взаимных счетов, это и значит любить деятельно, создавая вокруг себя все расширяющийся очаг «райского» преображения жизни. Поэтому афоризм Зосимы, загадочный для сознания, настаивающего на справедливом дележе: «Всякий перед всеми за всех и за все виноват», – расшифровывается не в смысле приговора человечеству, скованному чередой взаимных злодеяний и неизбежного возмездия, а как заповедь, мобилизующая добрую волю каждого в отдельности и всех вместе.
Внимательный читатель Достоевского, поздней его публицистики, записных книжек, последнего романа может остановиться в недоумении, набредя на две, казалось бы, несовместимые формулировки всеобщего идеала. С одной стороны, «счастье не в счастье, а лишь в достижении», иначе говоря, окончательное усовершенствование земной жизни не так важно, как стремление к нему, а с другой стороны – «золотой век» у нас уже «в кармане», как не совсем шутя и даже совсем не шутя заявляет Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год. Однако внутри определенной социально-нравственной программы эти утверждения не взаимопротиворечат, а скорее подкрепляют друг друга. Раз в нашей воле открыть для людей райскую дверь, а между тем она все еще затворена, то каждому уразумевшему это остается воскликнуть вместе со «смешным человеком» и Митей Карамазовым: в несовершенствах жизни виноват «один я!». Это, на вид юродивое, превышение всякой мыслимой личной ответственности за ход вещей должно, по неожиданной логике Достоевского, принести трезвый общественный результат: послужить плодотворным импульсом для постепенного социального восхождения, которое, «пока стоит мир», конечно, не может подойти к абсолютному пределу…
«Братья Карамазовы», как мы помним, имели у публики шумный успех, доходящий до экзальтации. Но, судя по откликам ведущих публицистов, современники Достоевского не пожелали понять или принять именно общественную проекцию его этического учения. И либерал А. Д. Градовский, и тогда молодой радикал Н. К. Михайловский, и охранитель К. П. Победоносцев, и «реакционер» (как он сам себя с гордостью именовал) К. Н. Леонтьев с единодушным – хотя и по-разному мотивированным – раздражением указывали на социальную неосновательность моральных идеалов Достоевского. Так, Градовский находил, что у автора «Братьев Карамазовых» и Пушкинской речи есть «великий религиозный идеал, мощная исповедь личной нравственности, но нет даже намека на идеалы общественные.[120]120
Градовский А. Д. Мечта и действительность // Голос. 1880. № 174.
[Закрыть] Михайловский вообще отказывал Достоевскому в наличии какого бы то ни было «общественного идеала», потому что связывал само это понятие исключительно с программой внешних социальных акций. Перед лицом такой безнадежной невосприимчивости Вл. Соловьев, отвечая Михайловскому, как, вероятно, мог бы ответить ему сам автор «Братьев Карамазовых», вынужден был растолковывать в заметке 1882 года «Несколько слов по поводу “жестокости”»,[121]121
Этот набросок Вл. Соловьева при жизни философа не увидел свет. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1989, № 1).
[Закрыть] что нравственный идеал Достоевского и есть его общественный идеал и что этой их тождественностью определяется выбор совсем иного пути, чем предназначенный обществу Михайловским: «У него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству Евангелием».
Но особенно был задет существом нравственной проповеди позднего Достоевского К. Н. Леонтьев, острый и парадоксальный мыслитель, пытавшийся сочетать византийски стилизованное христианство с «языческим» эстетизмом. Мысль о том, что духовные достижения личности могут оказывать реальное воздействие на мир, изменяя его к лучшему, вызывала у него прямо-таки тошноту.
С точки зрения Леонтьева, гармония на земле, питаемая «всемирной любовью», во-первых, невозможна и, во-вторых, нежелательна. Невозможна потому, что противна «и здравому смыслу, и Евангелию, и естественным наукам».[122]122
Леонтьев К. Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. М., 1912. С. 12.
[Закрыть] Нежелательна потому, что с нею упраздняется азарт и движение жизни: «Скучно до отвращения – пир всемирного однообразного братства», «поголовная однообразная кротость».[123]123
Леонтьев К. Н. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1886. Т. 2. С. 294, 297.
[Закрыть] За апелляцией Леонтьева к каким только возможно авторитетам с целью внушить, что «на земле все неверно и неважно» и что лев по всем законам земного бытия никогда не ляжет рядом с ягненком, несомненно, скрывается опаска лишиться захватывающего своими контрастами зрелища, будь то жестокая игра биологических форм или трагическое неравенство человеческих уделов. «Горести, обиды, бури страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки с одной стороны, а с другой – неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот жизнь, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом гармония… Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными, – и больше ничего!.. Гармонию я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский… не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей». И с явным опасением, что излучаемая проповедью Достоевского «теплота любви» способна растопить жестокую социально-бытовую регламентацию, дающую картины разительных жизненных перепадов, Леонтьев добавляет: «Нужны твердые, извне стесненные формы, по которым эта теплота может разливаться, не видоизменяя их слишком глубоко и даже временно…»
Как раз эта защита стабильности во имя сохранения эстетически привлекательного «разнообразия» была невыносима для нравственного чувства Достоевского, и если бы следующая его запись не относилась к семидесятым годам, ее можно было бы счесть прямым ответом на цитированную выше статью Леонтьева «О всемирной любви» (1880). Достоевский пишет: «Я никогда не мог понять смысла, что лишь 1/10 людей должны получать высшее развитие, а что остальные 9/10 служат лишь материалом и средством. Я знал, что это факт и что пока иначе невозможно и что уродливые утопии лишь злы и уродливы и не выдерживают критики. Но я никогда не стоял за мысль, что 9/10 надо консервировать и что это-то и есть та святыня, которую сохранять должно. Эта идея ужасная и совершенно антихристианская».[124]124
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 24. Л., 1982. С. 116–117.
[Закрыть] Квалифицируя подобную «философию неравенства» как противную духу христианства, Достоевский прозорливо предупреждает обвинение в еретическом вольнодумстве и недозволенном религиозном модернизме, через несколько лет предъявленное ему Леонтьевым. (Того же рода наговоры он заранее парирует и в «Братьях Карамазовых» – в сцене посмертного осуждения старца Зосимы его недоброжелателями: «“Несправедливо учил: учил, что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное”, – говорили одни из наиболее бестолковых. “По-модному веровал, огня материального во аде не признавал”, – присоединялись другие, еще тех бестолковее».)
Возмущение Леонтьева по поводу гуманистических «новшеств», усмотренных им в учении Зосимы и в Пушкинской речи, по-видимому, мобилизовало бдительность Победоносцева, чье недоверие к создателю «Братье Карамазовых» и единомыслие с гонителем «всемирной любви» может быть засвидетельствовано его письмо Е. Ф. Тютчевой от 4 февраля 1882 года: «Ведь они подлинно думают и проповедуют, что Достоевский создал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире и даже в русской церкви».[125]125
РГБ, ф. 230, М. 4410.
[Закрыть] В этих строках, написанных под впечатлением речи Вл. Соловьева в память Достоевского, звучит нешуточное беспокойство из-за тех возможных общественных перемен, которыми чревата завещанная Достоевским нравственная активность. Хотя, разумеется, тревога Победоносцева чужда леонтьевских эстетических мотивировок; ее предмет – заведенный порядок как таковой.
Самое любопытное, что у Достоевского есть персонаж, от которого Леонтьев, конечно, открестился бы, но который сверх всех ожиданий совпадает с ним в своих резонах относительно законов мироздания. Это черт из кошмара Ивана Федоровича. Ему тоже не по себе от одной мысли, что на земле могла бы когда-нибудь воцариться жизнь без страданий и вражды, и отрицает он эту гармонию всеобщего братства по соображениям, психологически близким к леонтьевским: «Без страданий какое было бы в ней» – в жизни – «удовольствие – все обратилось бы в один бесконечный молебен; оно свято, но скучновато». Единственную реальную согласованность в мироздании черт рисует как нескончаемую чересполосицу светлого и темного, плюса и минуса, добра и зла: стоит упраздниться отрицательной половине этого ряда, как жизнь, по уверению черта, иссякнет, что и дает ему, профессиональному отрицателю, предлог для собственной апологии: «Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло», «Рявкну “осанну”, и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему». Разве не то же, что говорит здесь от своего имени черт, Леонтьев утверждает от имени «Евангелия», «науки» и «здравого смысла»?
Но, в отличие от искренне мыслящего публициста, черт, как известно, – обманщик. И его действительно легко поймать на слове. Он оправдывает свою по существу разрушительную роль в бытии ссылкой на то, что без инспирируемых им «происшествий» все на свете «тотчас бы угасло» и воцарилась бы безжизненная скука. А между тем сам же жалуется на беличье колесо однообразного кругооборота событий, на вечное повторение: «Все в одном и том же виде до черточки. Скучища неприличнейшая…» Так черт Ивана Федоровича, обещая внести оживление в человеческую жизнь, на самом деле уводит человека в монотонность бесконечных пространств, где все вращается и вращается, подчинясь законам тяготения, заброшенный по чьей-то насмешливой прихоти топор и где, пролетая миллионы верст, так никого и не встретишь. Своей картиной мира он не только не рассеивает «скуки», но нагоняет ее до границы отчаяния. И обнаруживается, что жизни он со своими «происшествиями» не нужен, ибо дурная бесконечность – образ смертной тоски.
В сцене кошмара от черта исходит на Ивана невыносимое уныние – не оттого, что черт говорит тупые и пошлые вещи; он даже тонок и остроумен (Достоевский об этом позаботился), а оттого, что его аргументация намеренно сбивчива и бессвязна, как бессвязна бывает только клевета. Ведь задача клеветы – не логически убедить, а исподволь натравить и деморализовать. И призрачный гость Ивана достигает своей цели: если Иван и доносит на себя, то эта попытка повиниться тут же превращается в презрительное обличение синклита его слушателей. Тем самым вина, признаться в которой он явился на заседание суда, неожиданно переадресуется другим, человечеству вообще.
Когда Иван Федорович, разразившись внезапной истерикой, сменяет роль подсудимого на роль судьи своих судей, мы опознаем под скандалезным налетом этой сцены каноническую позу героя-романтика, уверенного в превосходстве над толпой. И поскольку на его горячечных инвективах («Р-рожи!.. Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца») лежит печать общения с ночным призраком, Достоевский по существу компрометирует здесь романтическое бунтарство, связывая его с духом разоблачительства и хулы. Это отношение к людскому сообществу как к живущей низкими инстинктами массе разделяет великий инквизитор – другое воплощение гордыни и другое отражение Ивана.
Великий инквизитор, защищая перед безмолвным своим Собеседником проект социальной гармонии, основанной на порабощении совести, всячески стремится продемонстрировать трезвый взгляд на природу человека – существа хаотичного, стадного и нуждающегося в неотступной опеке – и таким образом подвести к мысли, что им, инквизитором, найден единственный ключ к решению коллективных судеб. В том, что этот казуист вменяет историческому человечеству, есть некая доля правды, как и в вызове Ивана, брошенном толпе любопытствующих: «Не будь отцеубийства, все бы они рассердились и разошлись злые… Зрелищ! “Хлеба и зрелищ!”». Люди и в самом деле таковы в аспекте «массовой психологии», то есть когда они соединены на уровне низших душевных качеств и когда взаимная индукция примитивных страстей заглушает внутренний голос каждого. Но глубинная природа личности этим не исчерпывается, и великий инквизитор втайне знает о неуничтожимости «внутреннего человека». Его пресловутая мудрость – это искусство демагога, которому для успешного овладения людскими множествами сподручно игнорировать все личное, высшее и сокровенное. Что у записного романтика – «мещане», то у демагога – несмышленные «рабы». Оба, разрывая узы братства (один – из гордости, другой – из властолюбия), подходят к человеку с идеологическими шаблонами.
Эти опасные шаблоны (они же – идеи-«трихины» из символического сновидения Раскольникова, несущие с собой безумие и раздор) образуют в художественной реальности Достоевского как бы идейный антимир, противоположный «семенам из миров иных», приобщающим к высшему смыслу существования. То, что возникает в фантазии героя «Преступления и наказания», то, что движет катастрофический сюжет «Бесов», самым неожиданным образом дает о себе знать в развязке «Братьев Карамазовых», в связи с «судебной ошибкой».
Принято считать, что Достоевский неприязненно относился к пореформенному суду и изобразил его в отрицательных, едва ли не сатирических тонах, – то ли отвергая либеральное судопроизводство в силу своей позиции реакционера, то ли изобличая лживость судебной бюрократии как критический реалист. Однако из текста романа очевидно, что присяжные, в чьих руках – незадавшаяся Митина судьба, обрисованы с большим респектом, даже сочувствием: это в большинстве своем простые люди, со здравым смыслом, чувством правды и семейными устоями; им бы, по Достоевскому, как раз судить да рядить. И вовсе не они – источник роковой «судебной ошибки». С другой стороны, юридически полномочные лица, ведущие Митин процесс, – не равнодушные чиновники-службисты, а скорее идейно воодушевленные представители новой интеллигенции. Они-то со своими отвлеченными задачами, посторонними предмету судебного разбирательства – конкретной человеческой участи, и встают между Митей и народной совестью, дезориентируя присяжных заседателей. И чахоточный прокурор, жаждущий оставить свое завещание обществу, и адвокат – «прелюбодей мысли», привыкший обольщать аудиторию, используют трибуну суда для идеологического завоевания публики. Прокурор рисует мрачную, почти гротескную картину российской карамазовщины, где так кстати амплуа неистового отцеубийцы, под которое удобнее всего подвести Митю. Адвокат блестяще воссоздает подлинные обстоятельства преступления и, кажется, уже склоняет присяжных к мнению о фактической невиновности подсудимого, но тут-то ради торжества импонирующей ему ложной идеи, пренебрегая долгом защитника, выдвигает вместо близкой к истине версии – новую: Митя – отцеубийца, вынужденный к преступлению обстоятельствами и воспитанием, а потому заслуживающий всяческого снисхождения. По сути, происходит подмена юридического состязания идеологическим турниром, адвокату важно, чтоб его идея переиграла идею прокурора, и наоборот. В результате «мужички»-присяжные, подавленные развернутой перед ними картиной безобразия и возмущенные модными веяниями, отменяющими абсолютный смысл заповеди о почитании родителей, «порешили» Митю, который – представляя собой «Россию непосредственную» – был бы ими лучше понят, если б не стал фишкой в игре идей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































