Текст книги "Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля"
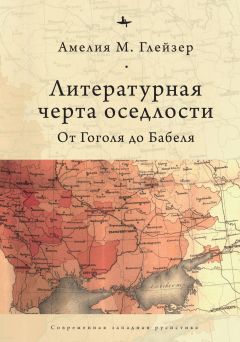
Автор книги: Амелия М. Глейзер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Украшения и одежда гоголевских героев являются частью коммерческого пейзажа, который благодаря этому становится еще более переменчивым. Интерес Гоголя к лентам возник во многом благодаря его знакомству с работами украинских этнографов, таких как Я. М. Маркович и А. Ф. Шафонский, который писал, что девушки «в праздники повязывают поверх кос разные ленты… ленты от самой головы до ног висят. Знатные прежде сего золотыми и серебряными сетками и позументами косы обвивали и до ног развешивали» [Шафонский 1851: 34][115]115
См. также книги Марковича и Ригельмана. Карпук полагает, что Ригельман, собиравший украинский фольклор в 1785–1786 годах, мог быть одним из источников Гоголя в том, что касалось женских причесок [Karpuk 1997: 224; Маркович 1798; Ригельман 1847].
[Закрыть]. Костюмы и предметы, фигурирующие в «Сорочинской ярмарке», создают передвижной пейзаж, который в менее явной форме появится впоследствии и в других произведениях Гоголя. Так, вездесущие ленты, разбросанные по всему творчеству Гоголя, в какой-то момент вплетутся в «радужных цветов косынку» Чичикова [Гоголь 1937–1952,6:9].
Из Сорочинцев на Невский проспект
Гоголевские ярмарки, как и его персонажи, обладают способностью путешествовать на далекие расстояния. Вспомните полет Вакулы верхом на черте в Петербург за черевичками государыни в «Ночи перед Рождеством», Янкеля из «Тараса Бульбы» с его вечно возрождающейся лавкой и Чичикова, разъезжающего в своей бричке в поисках мертвых душ. Подобно тому как на Сорочинскую ярмарку контрабандой проносятся потусторонние предметы вроде чертовой свитки, украинские товары из сорочинских лавок также проникают на рынки российской столицы. Такой рынок обнаруживается даже в сердце Санкт-Петербурга, центра высокой культуры[116]116
Как пишет Виктор Эрлих, «если в “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем” пространственной метафорой гоголевской картины мира является украинская глухомань с ее смертной тоской, то в “Невском проспекте” и “Записках сумасшедшего” такая же безысходность свойственна уже столичной ярмарке тщеславия» [Erlich 1969: 75].
[Закрыть]. Утренние посетители Невского проспекта вполне уместно смотрелись бы на украинской ярмарке, да и предметы, возникающие в этом описании, тоже похожи на вещи из украинских повестей Гоголя:
Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту [Гоголь 1937–1952,3: 11].
Слова, которыми здесь обозначаются деньги – гривны и гроши, – имеют украинское и польское происхождение; это провинциализмы, которые, как полагает рассказчик, могли бы показаться смешными, если бы украинские реалии не проникли уже так глубоко в жизнь имперской столицы[117]117
Подробнее об истории русских и украинских денег см. у Вернадского и Прозоровского [Vernadsky 1973: 121–123; Прозоровский 1865].
[Закрыть]. Пестрядевые халаты мальчишек – это предметы провинциального быта, добравшиеся до Петербурга. Невский проспект, хоть он и является замощенной камнем улицей, обладает всеми характеристиками гигантской передвижной ярмарки[118]118
Гоголевские истории, происходящие на Невском проспекте, передают страх города перед толпой, вызывающий в памяти известное высказывание Элиаса Канетти о том, что «разрушение изваяний – это отрицание иерархий, которые отныне не признаются» [Канетти 1997: 24]. Мощь необузданной толпы пугает столицу империи, угрожая уничтожить ее культуру и цивилизацию. Как писал Лотман, в XIX веке возник страх перед непонятным языком. «Так, отставной гусарский поручик князь П. Максудов доносил властям в январе 1826 г., что подслушал на Невском проспекте “подозрительный разговор по-французски”». Не понимая, о чем идет речь, он записал русскими буквами бессмысленный набор слов. В этой статье Лотман ссылается на Л. Н. Толстого [Лотман 2002: 333; Толстой 1978–1985, 2: 195–198].
[Закрыть]. С течением времени изменяется и состав прохожих: в полдень на Невский выходят гувернеры и гувернантки, а между двумя и тремя там появляются изысканные господа, чьи костюмы, профили и прически описываются набором восторженных прилагательных, с помощью которых торговцы обычно расхваливают свой товар: «Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды…» [Гоголь 1937–1952,3:13]. Петербург Гоголя полон звуков и продуктов, которые мы встречаем и в «Сорочинской ярмарке». Совсем рядом с «чисто подметенными тротуарами» и «запахами гуляния» находятся лавки с рыбой, вишней и арбузами.
В гоголевском тексте предметы живут собственной жизнью, «словно бакенбарды, усы, талии, дамские рукава, улыбки и так далее прогуливаются по Невскому проспекту сами по себе» [Манн 2005:123]. Неодушевленные предметы буквально бросают вызов своим хозяевам, показывая, что и они тоже способны к духовному совершенствованию. Литературный критик и исследователь творчества Гоголя Ю. В. Манн, указывая на борьбу между христианским началом и материальным миром, справедливо замечает, что коммерческий пейзаж Гоголя – даже в Петербурге – является сценой, на которой повседневные феномены материального мира вторгаются в ноуменальный мир духа [Манн 2005: 124]. Однако Гоголь, хоть он и высмеивает дьячков с их земными прегрешениями едва ли не чаще, чем ростовщиков, постоянно обращается в мыслях к Богу.
В начале 1830-х годов далеко не одного Гоголя волновали такие темы, как деньги, география и идеи Просвещения. После войны с Наполеоном Россия пыталась восстановить контроль над собственной экономикой. В своем сочинении 1833 года Бестужев-Марлинский пишет о том, что рынок переполнен историческими сувенирами. По его мнению, в эпоху романтизма сама история стала товаром:
Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон. «Барин, барин! – кричит вам гостинодворский сиделец, – купите шапку-эриванку». «Не прикажете ли скроить вам сюртук по-варшавски?» – спрашивает портной. Скачет лошадь – это Веллингтон. Взглядываете на вывеску – Кутузов манит вас в гостиницу, возбуждая вместе народную гордость и аппетит. Берете щепотку табаку – он куплен с молотка после Карла X. Запечатываете письмо – сургуч императора Франца. Вонзаете вилку в сладкий пирог и – его имя Наполеон! [Бестужев-Марлинский 1958: 559–612][119]119
Льюис Бэгби указывает на то, что в начале 1830-х годов Бестужев-Марлинский создавал романтический стиль, который, после публикации в 1834 году «Морехода Никитина», противопоставлялся гоголевской прозе [Bagby 1995:292].
[Закрыть].
Петербург Гоголя отражает то, как писатель воспринимал свою эпоху с ее мешаниной языков и валют, пугающими рынками, деньгами и чуждой материальной культурой, вторгающейся с Запада. Он вел подробную таблицу, в которую записывал наименования иностранных валют и их курс в рублях и копейках [Гоголь 2001:134–146]. Материальная культура несет угрозу гоголевским героям как в цивилизованном Петербурге, так и в пасторальных Сорочинцах. Опасность исходит не от крестьян в запачканных известью сапогах, а от чужаков – городских жителей и купцов, которые стремятся продать в Петербурге и Сорочинцах иностранный товар, и от бесконечного потока самого этого товара. В конце концов, тот юноша, который после первой в жизни разгромной рецензии скупил в петербургских книжных лавках все экземпляры напечатанного за свой счет «Ганца Кюхельгартена» и сжег их – чем не сорочинский черт, одержимо ищущий на ярмарке куски своей разрубленной свитки?[120]120
Известно, что у Гоголя была фобия, связанная с рынками и товарно-денежными отношениями; все это нашло отражение в его творчестве. Высказывалось предположение, что, когда Гоголь был ребенком, его семья, хотя и принадлежавшая к помещичьему сословию, испытывала трудности в обращении с деньгами. Гиппиус пишет, что Гоголи «в общем с трудом приспособились к замене натурального хозяйства денежным» [Гиппиус 1994: 14].
[Закрыть]
Евреи и другие чужаки на гоголевской ярмарке
Гоголь часто использовал в своих произведениях цыган и евреев для того, чтобы связать между собой события, происходящие в разных пластах текста[121]121
Как пишет Гавриэль Шапиро, «цыгане появляются только в ранних украинских повестях Гоголя, и их образ всегда выдержан в рамках вертепной традиции» [Shapiro 1993: 52].
[Закрыть]. Жидовка, в ресторации которой заключается помолвка между Грицько и Параской, является нейтральным посредником и потому может стать катализатором, который дает развитие сюжету. Будучи содержательницей кабака, она принадлежит к одной из самых презираемых еврейских профессий, как и «шинковавший на Сорочинской ярмарке» жид из вставной новеллы про черта. Оба этих еврейских торговца играют важную роль в жизни ярмарки и в сюжетах обоих рассказов[122]122
Хотя в современном русском языке слово «жид» является оскорбительным, в первой половине XIX века, когда Гоголь писал свои повести, оно не всегда носило негативный смысл. Слово «еврей», лишенное отрицательных коннотаций, получило большее распространение во второй половине XIX века. В украинском языке слово «жид» оставалось нейтральным вплоть до XX века.
[Закрыть]. Евреи были представителями иной, непонятной религии и потому могли выступать в качестве посредников между миром людей и миром бесов. Шинкарь (наряду с еще одним чужаком – цыганом) оказывается единственным персонажем истории про черта, которому удается с выгодой избавиться от красной свитки. Православные, купившие проклятую вещь, не могли затем ничего продать на ярмарке, и поэтому последнему владельцу пришлось разрубить ее на куски. В «Сорочинской ярмарке» Гоголь, намекая на родство между свиньями, чертями и евреями, предостерегает читателя от греха стяжательства, примером которого и является тот самый шинкарь. То, что он чужак, лишний раз показывает проницаемость коммерческого пейзажа, его неспособность противостоять внешним воздействиям. Еврей по самой природе своей является путешественником, торговцем и поставщиком иностранных товаров, который вторгается в патриархальный сорочинский мир[123]123
О восприятии евреев как чужаков в казачьем мире см. захватывающую книгу Гэри Розеншильда [Rosenshield 2008: 43–49].
[Закрыть].
Карикатурный еврей Гоголя – это изворотливый торгаш, который вопреки всему ухитряется извлечь выгоду из сделки с чертом и тесно связан со свиньями. В русской и украинской литературе XIX и XX веков евреи часто предстают польскими шпионами. Их язык и мобильность позволяют им выступать посредниками между различными восточноевропейскими народами, но также вызывают к ним всеобщее недоверие[124]124
Как пишет Джордж Грабович, «даже если они просто посредники, имеющие доступ к обеим сторонам, доверять им нельзя» [Grabowicz 1990: 331].
[Закрыть]. Редкие упоминания евреев в ранних текстах на украинском языке относятся к их коммерческой деятельности. Так, в «Энеиде» Котляревского Эней видит в аду пестрое сборище грешников, среди которых есть и еврейские торговцы:
Були там купчики проворні,
Що їздили по ярмаркам,
I на аршинець на підборний
Поганий продавали крам.
Тут всякії були пронози,
Перекупки і шмаровози,
Жиди, міняйли, шинькарі…
[Котляревський 1969,1:119].
(Все купчики, что с неклейменым
Аршином, с речью разбитной
На шумных ярмарках с поклоном
Сбывали свой товар гнилой;
Вьюны, пролазы, обиралы,
Мазилы-пачкуны, менялы,
Ростовщики и шинкари,
И те, что сбитень разливали,
И те, что ветошь продавали,
Все торгаши и корчмари
[Котляревский 1986: 112].)
Евреи, изредка возникающие в тексте поэмы Котляревского (как правило, в стереотипном образе торгашей-стяжателей), служат своего рода приправой к истории с окраины русской империи. То же самое мы видим и у Гоголя.
Шаблонный персонаж-еврей играет важную роль в повести Гоголя «Тарас Бульба», сюжет которой вольно интерпретирует историю одного из восстаний запорожских казаков, случившихся до того, как в 1648 году Богдан Хмельницкий выступил против Речи Посполитой[125]125
Серия подобных восстаний случилась и при Екатерине II, которая постепенно ограничивала права украинских казаков и крестьян, передавая все больше власти дворянству. Самым известным из них стало восстание под предводительством Емельяна Пугачева в 1770-х годах [Шеин 1902: 150].
[Закрыть]. Многие сцены насилия, описанные в «Тарасе Бульбе», либо происходят на рынках, либо напрямую связаны с меркантильными интересами. Так, казаки устраивают погром, разгневанные тем, что евреи получили в аренду церкви. «Перевешать всю жидову! – раздалось из толпы. – Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам!» [Гоголь 1937–1952, 2: 78]. «Сыны Израиля», перешивающие церковные ризы на юбки, превращают предметы культа в обычный товар, что абсолютно соответствует стереотипному представлению о евреях-коммерсантах, бытовавшему в украинской культуре. В «Тарасе Бульбе» евреи, хотя и являются презираемым народом, могут, подобно цыгану из «Сорочинской ярмарки», выступать посредниками между протагонистом и его целью. Тарас, пощадив Янкеля, затем неоднократно на него натыкается: тот возникает волшебным образом из ниоткуда, чтобы помочь Тарасу в сложной ситуации (за соответствующую цену). «Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремли, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы» [Гоголь 1937–1952,2: 82]. Янкель все время удивляет Тараса, неожиданно оказываясь то в одном месте, то в другом. Подъехав к Дубно, «Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе» [Гоголь 1937–1952, 2: ПО]. Когда Тарас навещает Янкеля, чтобы тот помог ему увидеться с его старшим сыном Остапом, «он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране» [Гоголь 1937–1952, 2: 150]. Переодевшись («для чего платье уже успел припасти дальновидный жид» [Гоголь 1937–1952, 2: 157]), Тарасу удается увидеть казнь Остапа. Янкель с его талантом «уже успеть» всегда и везде обладает властью над пространством и временем. В этой повести он второстепенный персонаж, но благодаря своей способности с легкостью перемещаться из одного места в другое Янкель играет важную роль в развитии сюжета.
Если Тарас Бульба как казак символизирует историю Украины, то Янкель – это фигура, символизирующая рыночную прибыль; по сути, это отрицание истории[126]126
Фигуру Янкеля, изображенного Гоголем как культурный анахронизм, можно анализировать в рамках теории Гегеля об устаревших стадиях развития общества. Евреи, представляющие устаревшие язык и культуру, больше не являются народом, активно участвующим в гегелевской «всемирной истории» – в данном случае в истории панславянской Российской империи. Как показал Эдвард Саид, националистическая иерархия Гегеля основана на том, что Восток (Orient) в восприятии Запада является антитезой прогресса и отрицанием истории. В повести Гоголя Янкель предстает комическим антигероем, противопоставленным благородному Тарасу [Said 2003].
[Закрыть]. Янкель перемещается между разными местами и противоборствующими сторонами, подобно вертепному черту, скачущему с нижнего яруса ящика на верхний и обратно: по сути, это трикстер, для которого, согласно Полу Радину, «не существует ни моральных, ни социальных ценностей; он руководствуется лишь собственными страстями и аппетитами, и, несмотря на это, только благодаря его деяниям все ценности обретают свое настоящее значение»[127]127
Радин писал о роли трикстера в устной традиции индейцев Северной Америки. Однако этот архетип существует и в восточноевропейской литературе, особенно если мы говорим о персонажах, взятых из вертепного театра. Как пишет Радин, «многие черты, присущие Трикстеру, запечатлены в фигуре средневекового шута и сохранились вплоть до нашего времени, обнаруживая себя в спектаклях о Панче и Джуди и в клоунаде» [Радин 1999: 7–8].
[Закрыть]. Именно Янкель сообщает Тарасу, что его сын Андрий влюбился в польку и перешел на сторону врага. Затем Тарас приходит к еврею, чтобы тот помог ему еще раз увидеть Остапа, который был схвачен поляками и приговорен к казни. Профессиональный переговорщик Янкель устраивает это, поговорив на идише с евреями, живущими в польском городе. Любопытно, что если в редакции повести от 1835 года Гоголь делает основной акцент на теме украинской национальной гордости, то в редакции 1842 года он уделяет больше внимания денежной стороне вопроса и тому, как по-разному это воспринимают Тарас и Янкель. В первой версии Тарас, услышав о предательстве Андрия, кричит Янкелю: «Ты путаешь, проклятый Иуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало веру. Если бы он был турок или нечистый жид… Нет, не может он так сделать! ей богу, не может!» [Гоголь 1937–1952,2:319–320][128]128
Редакция 1835 года.
[Закрыть]. Здесь восклицание Тараса – это плач казака, потрясенного изменой народу и вере. В обеих редакциях «Тараса Бульбы» такие украинизмы, как «не можно» (вместо русского «не может быть»), все время напоминают читателю, что действие повести происходит на Украине. В редакции же 1842 года диалог между Тарасом и Янкелем длится значительно дольше, и Гоголь обыгрывает в нем двойной смысл глагола «продать» в зависимости от того, произносит ли его казак или еврей. Тарас спрашивает Янкеля: «Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?» Янкель на это отвечает: «Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним» [Гоголь 1937–1952, 2: 112]. Более поздняя версия показывает, что Гоголю особенно важно было заявить о своем негативном отношении к торгашеству и о том, что православные народы должны быть заодно. Все это получило развитие в дальнейшем творчестве Гоголя, где украинские казаки предстают как братья русских внутри единой Российской империи. То, что Тарасу поступок Андрия представляется худшей формой измены, очевидно следует из того, что он сравнивает его с рыночной сделкой. Для Янкеля же, как для любого еврея, пересечение границ и смена отчизны является совершенно естественным процессом. В этот период творчества Гоголя рынок все еще является для него необходимой метафорой, отображающей угрозу, которую внешние силы (в данном случае евреи и поляки-католики) представляют для славянского духа. Гоголевский нарратив теперь охватывает куда более значительную территорию, чем в «Вечерах…», но опасность, грозящая культуре и духовности казаков, по-прежнему связана с утратой ими свободы и независимости.
Демонические покупатели на метафорических рынках
Ранний коммерческий пейзаж Гоголя вместе с составляющими его людьми и товарами служит своего рода лабораторией, в которой писатель изучает последствия Просвещения, нанесшего, по его мнению, вред духовным и культурным традициям русского народа[129]129
Как показал Ю. В. Манн, Диканька, окруженная не вполне понятно где находящимися хуторами и селами, представляла собой идеальную сцену для этих повестей Гоголя [Манн 2004, 30]. Роберт Магуайр заметил, что тексты Гоголя полны глубокого скептицизма по поводу влияния Просвещения на Россию: «Гоголь переходит от скептицизма к открытому неприятию Просвещения и всех его плодов, в особенности порядка, симметрии и практицизма, которые влекут за собой утрату интуиции, живости, эмоции и веры» [Maguire 1994: 78].
[Закрыть]. В своей статье «Просвещение», написанной в 1846 году (изначально это было письмо В. А. Жуковскому), Гоголь выражает сожаление в связи с тем, что значение этого слова было искажено при переводе на русский язык:
Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «Просвещение».
<…> Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь [Гоголь 1937–1952,8:285].
Наиболее сомнительные с моральной точки зрения герои Гоголя – это те, кого больше всех завораживают вещи, связанные с Западной Европой в целом и с Францией, колыбелью Просвещения, в частности. В «Мертвых душах», когда речь заходит о мечтах Чичикова, говорится: «Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам» [Гоголь 1937–1952,6:234][130]130
По поводу этого предложения Мережковский писал: «Европейское просвещение только усиливает сознание русского барина, “просвещенного дворянина” в его вековой противоположности темному народу» [Мережковский 2010: 199].
[Закрыть]. В повести «Портрет» Чартков, обнаружив в проклятой картине сверток с деньгами, «зашел к ресторану-французу» [Гоголь 1937–1952, 3: 97]. Подверженный внешним воздействиям русский рынок испытывает стойкость духа гоголевских персонажей, и большинство из них проваливают это испытание[131]131
Петербург с его стройной геометрией и ориентированностью на Запад представляет большую опасность, чем Сорочинцы. Как пишет Магуайр: «Петербург не был русским… однако, не имея подлинной формы, он с большей легкостью мог проникать в любой уголок страны» [Maguire 1994: 80].
[Закрыть].
Если говорить о женских персонажах у Гоголя, то они легко отвлекаются на всякого рода безделушки. Впрочем, они и сами выступают в роли таких безделушек, отвлекающих внимание персонажей-мужчин. В одной из повестей миргородского цикла, «Вие», бурсак Хома Брут даже в церкви не может изгнать нечистую силу из тела юной девушки. История начинается на рынке (а заканчивается в шинке), и интерес, который главный герой проявляет к различным товарам, выдает слабость его натуры. В начале повести говорится о том, что рыночные торговки боялись задевать философов и богословов, потому что те только брали товар на пробу. А когда дух мертвой панночки убивает Хому, его коллеги сходятся на том, что вокруг них повсюду ведьмы: «Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы» [Гоголь 1937–1952, 2:218].
Авторство этой идеи не принадлежит Гоголю. В украинском фольклоре полно историй об обычных с виду женщинах, которые могут превращаться в кошек и других животных[132]132
Пол Карпук, ссылаясь на украинского фольклориста Маркевича, пишет, что в украинских сказках «ведьм невозможно отличить от простых женщин, но они могут превращаться в любое животное, какое только захотят, – как правило, в кошку, – и у них есть небольшой хвост, которым они умеют “двигать быстро-быстро, словно козел”» [Karpuk 1997: 222].
[Закрыть]. Опасные женщины появляются и в более поздних произведениях Гоголя, например в «Невском проспекте», который является своего рода петербургской версией «Вия». На вытянутом в длину Невском проспекте, являющемся петербургским воплощением рынка, женщины, олицетворяющие собой иллюзорную красоту, несут угрозу и для комического героя – Пирогова, и для трагического – Пискарева. Пирогов следует за женщиной до ее дома, только чтобы оказаться в гротескном царстве ее мужа, немца по фамилии Шиллер. Художник Пискарев же, влюбившись до беспамятства в красивую проститутку, ищет убежища от реальности, погружаясь в наркотические фантазии: опиум становится для него купленной за деньги эстетической заменой собственному искусству. Его самоубийство – это гибель души, отравленной рыночными иллюзиями.
«Портрет», включенный Гоголем в издания «Арабесок», вышедшие в 1835 и 1842 годах, изображает Петербург во всем его архитектурном многообразии: от богатых домов знати до отдаленных уголков Коломны. В этой повести вновь возникают многие темы, поднятые еще в «Сорочинской ярмарке», однако в более буквальной и дидактической форме. Антигероем произведения является художник Чартков, который в раме старого портрета находит сверток с тысячей червонцев. Вознесшись из безвестности к славе, Чартков обретает почитателей, покровителей, учеников и все материальные блага, какими может обладать знаменитый художник. Однако в какой-то момент, увидев картину своего менее известного, но гораздо более искусного товарища, он осознает, что его жизнь и талант были потрачены впустую, после чего тратит все свое состояние на то, чтобы купить и уничтожить все прекрасные произведения искусства, какие только возможно[133]133
Любопытные параллели между культурой потребления в XIX и XXI веках проводит Гари Штейнгарт в своей переделке «Портрета», написанной после распада Советского Союза [Shteyngart 2002].
[Закрыть]. «Портрет» лишен юмора, отличающего ранние произведения Гоголя, так как это скорее манифест, повествующий о предназначении искусства, а не развлекательное чтение, к которому привыкли читатели Гоголя. Гоголь опубликовал две редакции этой повести (в 1835 и 1842 годах), и обе они были резко раскритикованы Белинским. «Да помилуйте, – писал Белинский, – такие детские фантасмагории могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто – смешны и скучны» [Белинский 1860, 6: 547]. Однако именно благодаря своей простоте и серьезности «Портрет» помогает нам понять, какую именно функцию выполняют рынки и товары в поэтике Гоголя.
Как и в «Сорочинской ярмарке», в «Портрете» есть вставная новелла. Художник, вызвавший у Чарткова зависть, рассказывает с интересом внимающей ему публике историю о том, как его отец однажды написал портрет ростовщика, о котором говорили, что в нем присутствует нечистая сила, и чьи деньги, как свитка сорочинского черта, приносили несчастье тем, кто их от него получал. «Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом» [Гоголь 1937–1952,3:122]. Портретист, чтобы снять с себя проклятие, постригся в монахи, и после долгих лет, проведенных в монастыре, ему это удалось, в то время как ничего не подозревающий Чартков растратил и свой талант, и деньги, спрятанные в картине.
Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, – почти бешенство готово было ворваться к нему в душу [Гоголь 1937–1952, 3: 114].
Эту историю следует воспринимать как предостережение о темной стороне арт-рынка. Коммерция восторжествовала над вдохновением художника: если искусство может продаваться, оно может и уничтожать.
После всевозможных персонажей, связанных с нечистой силой и рынками, Гоголь наконец создал в «Мертвых душах» совершенный образ демонического покупателя. Чичиков разъезжает по России, совершая нечестивые сделки, и все помещики, у которых он пытается купить мертвые души, даже если им нечего продать, вовлекаются в процесс торговли, а их земли превращаются во временные ярмарочные лавки. Коробочка, говорящая на смеси русского и украинского, воспринимает происходящее наиболее буквально:
«Да как же уступить их?»
«Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги».
«Да как же, я, право, в толк-то не возьму? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» [Гоголь 1937–1952, 6: 51].
Если души и могут быть объектом купли-продажи, то куда менее привлекательным по сравнению с теми товарами, которые Коробочка обычно продает купцам: «Право, я всё не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам» [Гоголь 1937–1952, 6: 54]. Коробочка, фамилия которой многое говорит русскому читателю, в конце концов продает Чичикову нескольких своих мертвых крестьян, после того как он обещает купить у нее и другие товары.
В главе про Плюшкина у Гоголя проскальзывает архетипический образ скупого еврея-торговца: «“А сколько бы вы дали?” – спросил Плюшкин и сам ожидовел; руки его задрожали, как ртуть» [Гоголь 1937–1952, 6: 128]. Поместья, которые посещает Чичиков во время своей одиссеи, образуют коммерческий пейзаж сельской России – огромный, многоголосый и приводимый в движение экономикой. Плюшкин, торгуясь, может «ожидоветь». Коробочка вставляет в русскую речь украинские восклицания. И хотя странствия Чичикова ни разу не заводят его на настоящий рынок, частица рынка присутствует в каждом персонаже «Мертвых душ», и наиболее ярко это представлено в образе Ноздрева.
Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду – насколько хватало денег [Гоголь 1937–1952, 6: 71–72].
Именно хаотичный Ноздрев в итоге и становится причиной того, что замыслы Чичикова расстраиваются. Ноздрев не просто напоминает нам о ярмарке, он сам и есть ярмарка. Список вещей, которые его окружают, превосходит даже перечень товаров, описанных в «Сорочинской ярмарке», и, как и на рынке, они представляют собой набор самых разнородных предметов. Азартный и всегда готовый продать или поставить на кон свое имущество Ноздрев, олицетворяющий собой карнавальный хаос, впоследствии разоблачит Чичикова, рассказав людям о его странных коммерческих планах. Такое срывание маски лишний раз доказывает, что Ноздрев выполняет у Гоголя ту же функцию, что и сама ярмарка: своими проделками и предложениями о сделках он сбивает с толку любого, кто попадает в его орбиту, и в конце концов выставляет на всеобщее обозрение скрытый под внешней благопристойностью хаос[134]134
Гоголь с его виртуальной коллекцией предметов и персонажей предвосхитил Вальтера Беньямина, который в своем труде «Проект аркад» разработал материалистическую феноменологию. Рассуждая о фланере и Бодлере, Беньямин пишет, что «современный герой подобен старьевщику: у него такая же судорожная походка, та же отрешенность, с которой он занимается своими делами, тот же интерес к мусору и отбросам большого города» [Benjamin 1999: 368]. Однако если Гоголь воспринимает материю как антитезу человеческой души, то Беньямин считает, что материальные объекты хранят важные следы истории. Вот что пишет об этом Сьюзен Бак-Морс: «Хотя Беньямин с самого начала отвергал гегелевскую концепцию истории, он был убежден в том, что смысл, заключенный в предметах, включает в себя также и их историю» [Buck-Morss 1991: 13].
[Закрыть].
Разъезжая по России и торгуясь с помещиками за их умерших крестьян, Чичиков интересуется тем, включены ли они в ревизскую сказку (подушную перепись). Это каламбур, намекающий нам о творчестве самого Гоголя, особенно о «Ревизоре». Собираемые Чичиковым души, подобно гоголевским персонажам, составляют его собственную «ревизскую сказку». Чичиков соревнуется (с чиновниками, ответственными за проведение переписи, или с Гоголем) за право первым записать на бумагу имя персонажа. Его список крестьянских имен – это не подвергаемое сомнению доказательство того, что он преуспел в накоплении бессмысленного капитала. Сходство между жадностью Чичикова и собственными претензиями на литературное превосходство поставило перед Гоголем неразрешимый парадокс. Собрав в своем романе множество душ, Гоголь, как Чартков, поддался разрушительным импульсам и сжег вторую часть «Мертвых душ» незадолго до того, как слечь в постель и умереть от истощения в 1852 году.
В конце первой части «Мертвых душ» читатели покидают ярмарку так же, как они въезжали на нее в начале «Сорочинской ярмарки»: уносимые лошадьми и в восхищении от увиденных сцен и завораживающего людского круговорота. В отличие от провинциальной украинской ярмарки, на которую отправляются Черевик и Параска, знаменитый отрывок про тройку в финале «Мертвых душ» описывает пейзаж, включающий в себя «всё, что ни есть на земли», и нашими спутниками в этой поездке являются не глиняные горшки, а вся Русь как она есть: «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» [Гоголь 1937–1952, 6: 247][135]135
Вайскопф убедительно показал, что образ тройки взят Гоголем из платоновского «Федра», где утверждается, что в колесницу человеческой души впряжены два коня: белый (благих намерений) и черный (дурных помыслов). «В “Федре” колесницы богов беспрепятственно поднимаются по небесному хребту, созерцая то, что за пределами неба; “зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возницу, если тот плохо его вырастил” (247b)» [Вайскопф 1995:106]. Бояновская называет тройку «повозкой, перед которой все народы постараниваются и дают ей дорогу, в то время как в этой триумфальной бричке мчится князь пошлости, посредственности, вульгарности и материализма – Чичиков собственной персоной» [Bojanowska 2007: 265].
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































