Текст книги "Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля"
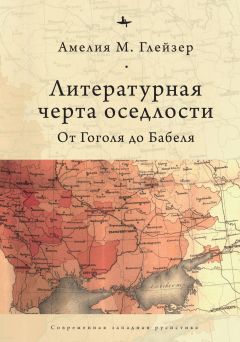
Автор книги: Амелия М. Глейзер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Проницаемость гоголевского пейзажа
Как написал в своей книге о Гоголе А. Д. Синявский (Абрам Терц), «художественное произведение сближается с исследованием географа и этнографа» [Терц 1992, 2: 234]. Действительно, в своей статье «Мысли о географии (для детского возраста)», впервые изданной в 1831 году и опубликованной впоследствии в «Арабесках», Гоголь рассуждает о том, что детям стоит преподавать географию постепенно, сначала давая им общее представление о карте мира, а затем рассказывая о природе различных частей и, наконец, о произведениях культуры, созданных человеком. Ребенок должен усвоить и хранить в голове «общий вид земли» и обращаться к карте, как к игральной доске, узнавая новые факты: «Чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась перед ним и вместила бы в себе все те картины, которые он видит в речах преподавателя» [Гоголь 1937–1952, 8: 100]. Хотя Гоголь так и не написал исторического труда об Украине, его размышления о географии очень важны для понимания его творчества. По словам его друга Анненкова, Гоголь говорил, что «для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу» [Анненков 1960: 77]. Для Гоголя важно, чтобы читатель представлял себе местность, о которой он пишет, – не только из-за того, что благодаря этому создается определенный контекст, но и потому, что таким образом очерчиваются границы сотворенной писателем художественной вселенной, а пейзаж, внутри которого происходит действие любого произведения Гоголя, играет ключевую роль в том, какой эффект эта история произведет.
В лирической интерлюдии в начале шестой главы «Мертвых душ» гоголевский нарратор рассказывает о радости, которую он испытывал в юности, подъезжая к новым местам:
Каменный ли, казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских, обывательских домиков, круглый ли, правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, – ничто не ускользало от свежего, тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии, на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их [Гоголь 1937–1952, 6: ПО].
В этом описании мы видим самые важные детали гоголевского пейзажа. Рынок расположен рядом с церковью. Также тут присутствуют франт, товары (изюм и мыло) и «невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука», существующего как бы сам по себе, вне фигуры его обладателя. Рыночные площади и сюртуки с сибирками, замеченные нарратором с телеги в юные годы, напоминают поездку на ярмарку: эти картины «мелькают» мимо походной телеги рассказчика, подобно непостоянному сорочинскому пейзажу. Похоже, что для своих многочисленных историй, действие которых происходит на рынках российской империи, Гоголь собирает и неоднократно использует одни и те же декорации, как Потемкин, который во время путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году пытался переделать (внешне) украинские деревни в идеальные городки.
Интерес Гоголя к географии (особенно к географии Украины) в 1830-е годы помогает понять, почему он постоянно начинает свои диканьковские истории с описания природы, а затем постепенно переходит к сделкам и разговорам, случающимся на ярмарках и в селах. В 1835 году Гоголь опубликовал статью, в которой утверждал, что более всего ценит у Пушкина описания природы: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа» [Гоголь 1937–1952, 8: 54]. «Беспорывность» – это свойство русской природы, ключевое в «Вечерах…» для внешнего круга действия, являющегося частью проницаемого гоголевского пейзажа. Все, что проникает в пространство гоголевского текста не из физического мира, в котором происходит действие истории, принадлежит к «миру вне опыта».
Воз Черевика, приближаясь к Сорочинской ярмарке, пересекает границу между внешним (природным) кругом и внутренним ландшафтом, в котором разворачивается остальное повествование. Гоголь обозначает эту границу, переворачивая пейзаж вверх тормашками и превращая его в пространство вымысла и волшебства:
Воз с знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы – всё опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну [Гоголь 1937–1952, 1: 113–114].
Перевернутое отражение в воде напоминает нам о «Чистилище» Данте, где предметом повествования становится отраженное изображение реальности, а не сам отражаемый пейзаж. «Суди, читатель, как мой ум блуждал, / Когда предмет стоял неизмененный, /Ав отраженье облик изменял» («Pensa, Letter, s io mi maravigliava, I Quando vedea la cosa in se star queta, IE nell’idolo suo si trasmutava») [Данте 1967:298]. Собеседница обращается к Данте «у священного потока» («di la dal flume sacro») [Данте 1967: 295][136]136
«Чистилище», песнь 31, с. 1, 124–126.
[Закрыть], и отражение в воде начинает жить своей жизнью. Так же и воз Черевика въезжает уже не на обычную ярмарку, а в отражение ярмарки, в котором все «стояло и ходило вверх ногами»[137]137
Эта инверсия позволяет нам понять, как устроено художественное пространство, названное Виктором Эрлихом попросту «перевернутым вверх дном миром украинских повестей Гоголя, в котором может произойти – и происходит – все что угодно» [Erlich 1969: 30].
[Закрыть].
В «Вечерах…» Гоголь постоянно использует эпитет «чудный», и это перекликается с дантовским maravigliava (удивлялся) в описании перевернутого мира, имеющим один корень со словом meraviglia (чудо)[138]138
О влиянии Данте на творчество Гоголя см. Асояна, а также Гриффитса и Рабиновича [Асоян 1986; Griffiths, Rabinowitz 1994].
[Закрыть]. Белый в связи с этим замечает, что, хотя слова «чудный» и «странный» эквивалентны друг другу, конкретно в «Вечерах…» Гоголь делает выбор в пользу «чудного», а не «странного», хотя последнее прилагательное в русском языке является более употребительным: «в “Веч[ерах]” чаще эпитет чудный; в бытовых повестях вместо него эпитет странный» [Белый 1969: 206]. Слово «чудный» вызывает ассоциации с идеализированным миром, миром, полным радостных чудес, но также и с таинственным измерением, где царят обман и черная магия[139]139
Возможно, Гоголь так часто это использует этот эпитет, потому что он созвучен украинскому слову «чужий» (чужой).
[Закрыть]. Гоголь также использует этот эпитет в описании реки в «Страшной мести»: «Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы» [Гоголь 1937–1952, 1: 257].
Большинство критиков сходятся на том, что «Страшная месть» отличается от остальных «Вечеров…» отсутствием в ней карнавально-фольклорной атмосферы, присущей другим украинским повестям Гоголя; это более серьезный текст, полный библейских аллегорий. Читатель только в самом конце узнает, почему всех героев «Страшной мести» ждал такой ужасный конец: все дело оказывается в давней семейной тайне: один брат предал другого и тем самым навлек на своих потомков ужасное проклятие[140]140
По мнению Дональда Фэнгера, финал этой повести, в котором выясняется, что все дело было в семейном проклятии, не соответствует столь сложно построенному тексту. «Это показывает, что история, рассказываемая Гоголем, начала жить собственной жизнью» [Fanger 1979: 238].
[Закрыть]. «Страшная месть» обнажила трещину, пролегшую сквозь вертепный мир Гоголя. Для того чтобы ужасные события этой повести приобрели смысл, автору приходится расширить рамки повествования. Такая же трещина присутствует, пусть и в менее явном виде, и в «Сорочинской ярмарке».
Хотя «Вечера…» слишком часто воспринимаются исследователями Гоголя как произведения незрелые и недостойные пристального внимания, именно этот цикл позволил Гоголю создать то, что Джон Коппер назвал «эстетикой непостижимого»[141]141
«В “Вечерах на хуторе близ Диканьки”… тщательно разграничены сферы естественного и сверхъестественного поведения; там, где эти сферы пересекаются, и создается сюжет» [Коррег 2002: 41].
[Закрыть]. Гоголь, внезапно открывая читателю новые географические пространства, находящиеся вне описываемого им пейзажа, побеждает тем самым кантовскую дихотомию феноменального (здесь и сейчас) и ноуменального (невидимого и неосязаемого) миров. Коппер пишет, что в «Страшной мести» «становится видимым то, что лежит за горизонтом: “…вдруг стало видимо далеко во все концы света”» [Коррег 2002: 46–47]. К концу повести из ее текста исчезают какие-либо упоминания о воде и ее целебных (и отражающих) свойствах[142]142
Как пишет Роберт Магуайр, «в последней главе “Страшной мести”, где слепой бандурист рассказывает подоплеку всей истории, нет ни единого упоминания о воде; он описывает nature morte — мертвый горный пейзаж. Здесь нет источника жизни» [Maguire 1994: 12].
[Закрыть]. В «Страшной мести» ноуменальному миру – миру вне нашего опыта – уделяется гораздо больше внимания, чем во всех других повестях «Вечеров…»[143]143
В роли окна в «мир вне опыта» гоголевские «Вечера…» очень напоминают театр из «Червя-победителя» Эдгара Аллана По, где зрители-ангелы с ужасом взирают на то, как на сцене человеческие жизни пожираются чем-то огромным и непредвиденным: «Что “Человек” – названье драмы / Что “Червь” – ее герой!» (пер. В. Я. Брюсова) [По 1995: 142]. Я благодарю Афшан Усман, которая обратила мое внимание на это сходство.
[Закрыть].
В «Сорочинской ярмарке» существование ноуменального мира только подразумевается. «Мир вне нашего опыта» предстает лишь отражением обычных предметов из обычного мира. После того как воз Черевика пересекает реку, Сорочинскую ярмарку стоит воспринимать как не более чем искаженный образ, отразившийся в реке. В то время как внешний круг гоголевского пейзажа переворачивается вверх дном в речном отражении, его внутренний круг поворачивается вокруг своей оси («Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки» [Гоголь 1937–1952,1:115]). Этакрутящаясяввихре ярмарка вместе со своими постоянно перемещающимися в пространстве людьми и товарами представляет собой фуколдианскую гетеротопию – пространство, которое «может помещать в одном реальном месте несколько пространств, несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы» [Фуко 2006: 199]. Гоголевские Сорочинцы, реальные и утопичные одновременно, представляют собой своего рода призму, отражаясь в которой реальность предстает перед читателем в самых разных перспективах.
Такая смена перспективы происходит и на последних страницах повести, где читателю напоминают, что праздничная атмосфера ярмарки недолговечна и потому иллюзорна. Параска сидит одна в хате – то задумчивая, то веселая, то радостная – и думает о Грицько: «как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: Парасю, голубко как пристала к нему белая свитка!» [Гоголь 1937–1952, 1: 134]. В гоголевской семиотической системе это упоминание свитки маркирует темный элемент девичьих грез Параски. Свитки, в конце концов, могут быть украдены и разрублены на куски; белая одежда может испачкаться (особенно если ее носит юноша, любящий кидаться грязью). Чувство Параски к Грицько поверхностно, оно слишком тесно связано с ярмаркой. Как писал Анри Бергсон, «то же психологическое наблюдение, которое открыло нам различие между материей и духом, делает нас свидетелями их соединения» [Бергсон 1999: 595]. Отсутствие у Гоголя в этой сцене описания традиционных атрибутов украинской свадьбы, возможно, связано с тем, что он поленился детально изучить эту тему, однако все это хорошо соответствует перевернутому и хаотичному пространству повести. Все внимание Параски поглощено нарядными вещами, которые она видит на ярмарке; суета карнавала захватывает ее, и ей уже нет дела до традиций и принятых ритуалов. Она забыла о ноуменальном мире ради осязаемого счастья здесь и сейчас.
В своих ранних заметках о природе гоголевского смеха Бахтин писал, что у Гоголя в основе смешного лежит страшное: «Школа кошмаров и ужасов. Смешные страшилища у Гоголя. Чума и смех у Бокаччо. Смешные страшилища в “Сорочинской ярмарке”» [Бахтин 1996, 5: 47][144]144
В 1965 году, когда Бахтин опубликовал свой труд о Рабле, он уже отошел от идей Бергсона (чья философия давным-давно была под запретом с СССР) и перестал писать о Гоголе. Мы можем только гадать, было ли это вызвано политическими или идейными соображениями. Бахтин подчеркивал, что его работы о природе смеха расходятся с теориями Бергсона, который, как он пишет, выдвигал «в смехе преимущественно его отрицательные функции» [Бахтин 1990: 83].
[Закрыть]. Эти смешные страшилища потом станут частыми гостями гоголевских текстов. Зло в «Сорочинской ярмарке» комично и аллегорично, там никого не убивают и никто не умирает от холода или опиума, и все же в финале повести время начинает нестись пугающе быстро. Параска мечтает о том, как станет замужней женщиной и ей больше не придется подчиняться своей мачехе: «Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла… дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» [Гоголь 1937–1952, 1: 134].
Образ согнувшегося дерева и Параски, вынужденной склоняться перед Хиврей, напоминает о сцене на реке в начале повести: «Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах…» [Гоголь 1937–1952, 1: 111–112].
Поток сознания Параски, синекдохически связанный с началом повести, побуждает ее склониться к собственному зеркалу: «Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками» [Гоголь 1937–1952, 1: 134].
Таким образом история еще раз отражается во втором зеркале, и, подобно Алисе, возвращающейся из Зазеркалья, читатель должен из вихря ярмарки вернуться в реальность, в которой время умчалось далеко вперед. Когда воз Параски впервые отразился в реке, она была юной девушкой. Во втором отражении незадолго до собственной свадьбы она уже носит головной убор своей мачехи. Черевик видит свою дочь, танцующую перед зеркалом, и, не устояв, присоединяется к ней: «…выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои» [Гоголь 1937–1952, 1: 135]. Затем Черевик прервал танец, а Параска «вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову» [Гоголь 1937–1952, 1: 135]. Лента Параски, как будто срезанная Гоголем с рукава чертовой свитки, выглядит здесь зловещим предзнаменованием, связывающим судьбу девушки с участью ее мачехи, которую, как вы помните, Грицько при первой встрече приветствовал следующим образом: «А вот впереди и дьявол сидит!» [Гоголь 1937–1952, 1: 114].
Эта свадьба является не столько праздником любви, которую испытывают друг к другу молодые люди, сколько внушающим страх смешением различных ярмарочных персонажей. При звуках скрипки все «обратилось… к единству и перешло в согласие», включая вставших между новобрачными старушек, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы» [Гоголь 1937–1952, 1: 135]. Конец «Сорочинской ярмарки» напоминает финал вертепного представления, в котором все куклы пускаются в пляс. Однако рассказчик мгновенно расширяет рамки повествования, включая в него невидимого дотоле кукольника: «Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету»[145]145
Стоит отметить, что Данте тоже завершает свою «Божественную комедию» сценой праздника. О. Э. Мандельштам в «Разговоре о Данте» писал: «В третьей части “Комедии” (“Paradiso”) я вижу настоящий кинетический балет. Здесь всевозможные виды световых фигур и плясок, вплоть до пристукиванья свадебных каблучков» [Мандельштам 1990, 2: 266].
[Закрыть][Гоголь 1937–1952, 1: 135–136]. Бергсон напоминает нам о том, что для создания комедии «надо представить себе, что видимая свобода прикрывает собою веревочки и что мы здесь, как говорит поэт, “…жалкие марионетки, нить от которых в руках необходимости”»[146]146
Бергсон цитирует здесь Сюлли-Прюдома.
[Закрыть] [Бергсон 1999: 1328]. С появлением марионеточных и вызывающих ассоциации со смертью старух (о которых ранее не говорилось ни слова) свадьба, а с ней вместе и вся ярмарка превращается в то место, где осязаемый мир запахов, звуков и вещей пересекается с таинственным миром, находящимся вне нашей реальности. Люди, двигающиеся как автоматы, приравниваются к ярмарочным декорациям; это усиливает комический эффект и прозрачно намекает на то, что никакой свободой этот с виду кипучий рынок не обладает и всем здесь управляет какое-то скрытое от наших глаз божество.
Протестует только один человек – мачеха Хивря (которую Параска уже начинает напоминать хотя бы тем, что примеряет на себя ее очипок). Черевик заставляет свою жену замолчать: «что сделано, то сделано; я переменять не люблю!» [Гоголь 1937–1952, 1: 135]. После этих слов течение времени ускоряется и ярмарка исчезает: «Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха» [Гоголь 1937–1952, 1: 136]. Доведя историю до развязки в духе вертепного театра – с танцами и музыкой, – гоголевский рассказчик вдруг покидает нас, оборвав повествование на минорной ноте: «Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье?.. Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему» [Гоголь 1937–1952, 1: 136].
Тонкая грань разделяет торжество материи и пустоту человеческой души, когда ярмарка закрывается. Порадовав читателей описанием ярмарки и всех ее чудес, рассказчик неожиданно показывает им пустоту, открывающуюся, когда праздник подходит к концу. Бренность и фальшь Сорочинской ярмарки проступает во всех произведениях Гоголя, начиная с фальшивого ревизора и заканчивая фальшивыми крестьянами Чичикова в «Мертвых душах»: ничто не вечно. Подобно рынку и всем его товарам, все в жизни обречено на исчезновение; останется только то, чего мы не можем ни увидеть, ни потрогать.
Глава 3
Балкон Апеллеса: Квитка-Основьяненко и критики (1833–1843)
Апеллес… выставлял на балконе законченные произведения на обозрение прохожим, а сам, скрываясь за картиной, слушал отмечаемые недостатки, считая народ более внимательным судьей, чем он. И рассказывают, когда какой-то сапожник, порицавший его за то, что на одной сандалии с внутренней стороны сделал меньше петель, а на следующий день этот же сапожник, гордясь исправлением, сделанным благодаря его вчерашнему замечанию, стал насмехаться по поводу голени, он в негодовании выглянул и крикнул, чтобы сапожник не судил выше сандалий.
Плиний Старший. Естественная история (Плиний 1994: 95)
В написанной по мотивам этого рассказа Плиния украинской повести Г. Ф. Квитки-Основьяненко в роли Апеллеса выступает художник Кузьма Трофимович, выставляющий свою картину на сельской ярмарке. В «Солдатском портрете» («Салдацький патрет», 1833) сапожник, обнаруживший неточность в изображении сапога, позже возвращается к картине и критикует то, как художник нарисовал рукав. На что Кузьма, высунувшись из-за картины, практически дословно повторяет слова Апеллеса: «Сапожник, суди о сапогах, а в портняжничестве разбирать не суйся!» («Швець знай своє шевство, а у кравецтво не мішайся!») [Квітка 1968,3:23]. В XIX веке все больше украинских авторов стали писать книги не на русском, официальном языке империи, а на родном украинском языке, но, как и греческому художнику Апеллесу, им приходилось постоянно бороться с суровыми критиками своего творчества, которые более чем охотно переступали границы собственной компетентности.
Одновременно с тем, как в русской читательской среде росла популярность Гоголя, происходило и возрождение украинской национальной культуры – причем как в восточной, Левобережной Украине, так и в западной, Правобережной[147]147
К Правобережной Украине относились территории, отошедшие России сравнительно недавно, после второго раздела Польши в 1793 году. Как писал Пол Магочий, «представление о самостоятельной украинской нации, которая имеет право на независимое государство, возникла не позднее начала XIX века, когда в Центральной и Восточной Европе наступил так называемый период национального пробуждения» [Magosci 2002: іх-х].
[Закрыть]. Учение Гердера о народном духе, которое колоссальным образом повлияло на философскую мысль начала XIX века, привело не только к тому, что экспортированные Гоголем родные пейзажи так понравились русским читателям, имевшим весьма туманное представление об украинском быте и людях, проживавших в этих местах. Эти идеи также вызвали у образованной части населения Российской империи интерес к литературе на украинском языке [148]148
Согласно Юрию Луцкому, современный украинский литературный язык появился на свет благодаря Котляревскому, Квитке и Шевченко [Luckyj 1983: 17].
[Закрыть]. По мнению В. Л. Скуратовского, сам украинский язык «с его певучим фольклором стал ключевым художественным средством, вызвавшим грандиозное лирическое преображение украинской литературы» [Скуратівський 1996: 12].
Отцом так называемой новой украинской литературы обычно признают И. П. Котляревского, полтавского дворянина, чью травестийную поэму «Энеида» Гоголь цитировал в эпиграфах к своим «Вечерам…». Еще одним кандидатом на эту роль является Т. Г. Шевченко – романтический поэт, художник и национальный символ Украины[149]149
Грабович пишет о Шевченко: «Хотя у многих народов место национального героя отдано писателю, нигде это лидерство не является столь же безоговорочным и единодушным, как в случае с Шевченко» [Grabowicz 1982: 1]. Екельчик отмечает, что культ Шевченко усилился в советский период: «По большому счету, советские идеологи и интеллектуалы сохранили пантеон национальных классиков, сформированный в среде дореволюционной украинской интеллигенции. В этом пантеоне высшее место принадлежало Шевченко как “отцу нации”, а Франко располагался чуть ниже, являясь отцом только для западных украинцев» [Yekelchyk 2004: 109].
[Закрыть]. Григорий Квитка-Основьяненко (1778–1843), хотя он и признается многими критиками первым украинским прозаиком, считается более спорной фигурой в качестве претендента на роль отца современной украинской литературы, потому что художественные достоинства его произведений нередко ставят под сомнение, да и сам он никогда не был до конца своим (в политическом или культурном плане) ни для украинцев, ни для русских. То, что Квитка недостаточно жестко выступал за украинскую культурную автономию, раздражало многих украинских критиков, которые превыше всего ценили борьбу с культурной гегемонией России. Что же касается русских критиков, то, хотя некоторые из них воспринимали его как самобытного украинского автора, стремящегося к установлению добрых отношений с Россией, другие обвиняли Квитку в том, что он пишет для черни. В отличие от Гоголя, весьма вольно обходившегося с украинским реалиями ради создания интересной истории, Квитка всегда был точен в деталях, и для него этнографическая скрупулезность была важнее эстетики. Как писал Н. Ф. Сумцов: «По словам харьковских старожилов, Квитку часто можно было встретить на базаре в воскресные и праздничные дни, где он прогуливался и подмечал тонкие оттенки народных нравов и выражений» [Сумцов 1893:193]. Описания украинских рынков в изобилии встречаются и в русских, и в украинских произведениях Квитки. Для него коммерческий пейзаж являлся как достоверным источником знаний о быте и речи Украины, так и аллегорией, олицетворяющей восприятие украинской литературы критиками в XIX веке. Ярче всего это проиллюстрировано в «Солдатском портрете».
Квитка-Основьяненко (чаще называемый просто Квиткой или Основьяненко) был на 30 с лишним лет старше Гоголя. Однако поскольку к писательской деятельности он обратился довольно поздно, то с Гоголем они являются литературными современниками, безусловно влиявшими друг на друга – как в плане выбора тем для творчества, так и в использовании схожих художественных средств. Квитка родился в селе Основа под Харьковом, а писательством занялся после сорока. Впрочем, и в ранние годы он принимал активное участие в развитии украинской культуры в самых разных ее областях – от религии до театра. В возрасте 23 лет он поступил в Куряжский монастырь, который был своего рода высшим учебным заведением – единственным доступным для украинца, живущего в Харькове [Вербицька 1957: 11–12]. Несмотря на то что через четыре года Квитка ушел из монастыря, он всю жизнь оставался глубоко религиозным человеком и написал большое количество сочинений моралистического содержания. Наивный оптимизм, отличающий его тексты, вызывал отторжение у части читателей, считавших Квитку слишком консервативным автором, не готовым бороться за освобождение Украины от гегемонии России. Свою литературную деятельность он начал с сочинения сатирических зарисовок, пьес и рассказов, написанных на русском языке; также он занимался переводами Горация. Квитка был редактором нескольких русских и украинских журналов, в том числе «Украинского вестника» [Данилевский 1856: 44].
Харьковская губерния, где родился Квитка, изначально называлась Слободской Украиной. В этой области (в 150 километрах от Сорочинцев, родного села Гоголя) находилось несколько монастырей, а в 1805 году здесь был основан Харьковский университет – первое высшее учебное заведение на Украине, где можно было получить светское образование[150]150
Как писал Г. П. Данилевский: «В качестве казацкой колонии, Слободская Украина несла с остальною Малороссией общую судьбу и в отношении первых попыток народного образования» [Данилевский 1866: 287].
[Закрыть]. Ричард Стайтс считает, что Харьков стал культурным центром благодаря своему географическому положению: «Харьков обращен не только к украинским городам и ярмаркам, но и на север: к Курску, Орлу, Туле, Острогожску, Воронежу, Рязани и Тамбову» [Stites 2005: 252]. Как и Котляревский, Квитка очень много занимался украинским театром. В Харькове всегда гастролировало много театральных трупп, ив 1812 году, в то самое время, когда Наполеон вторгся в Россию, Квитка участвовал в основании постоянного театра в Харькове и стал его первым директором[151]151
Стайтс пишет: «В 1840-е годы наряду с Шекспиром, Шиллером, Фонвизиным, Грибоедовым и Гоголем на сцене театра шли и пьесы местных любимых авторов – Котляревского и Квитки, а также французские мелодрамы» [Stites 2005:252].
[Закрыть]. До Эмского указа 1876 года, запретившего издавать книги на украинском языке, Харьков был важнейшим центром украинского книгопечатания[152]152
Гэри Маркер отмечает, что при Екатерине II было мало издательств, публиковавших светскую литературу. «Между 1765 и 1784 в провинциях появились еще два издательства: одно при Харьковской семинарии и другое при Полоцкой иезуитской академии» [Marker 1985: 138].
[Закрыть].
В статье к столетию Г. Ф. Квитки, написанной в 1878 году, В. П. Науменко писал, что критики Квитки делились на две группы: «…одни, признавая вполне достоинство его украинских рассказов, считали его переводы и оригинальные русские повести слабыми; другие, также признавая в нем талант, и главным образом в украинских повестях, сожалели, что он не пишет на русском языке» [Науменко 1988:85]. Критики А. Н. Пыпин и В. Д. Спасович без лишних сложностей отсортировали читателей Квитки по национальному признаку: «Русским читателям повести Основьяненко казались вообще чувствительными идиллиями, его женские народные характеры слишком идеализированными, рассказ манерным и болтливым, но его соотечественники до сих пор сохранили о нем то же выгодное мнение, какое произвели повести Основьяненко при своем первом появлении» [Пыпин, Спасович 1865: 223].
Такая точка зрения с некоторыми вариациями продержалась и до нашего времени. Иван Франко и Дмитрий Чижевский относились к Квитке как к писателю, который хотя и сыграл важную роль в становлении национальной культуры, но был слишком консервативен как политический и общественный деятель [Shkandrij 2001: 126]. Более похвально отзывался о Квитке украинский критик В. П. Карпов, в 1900 году написавший о своем первом прочтении «Солдатского портрета» и «Козырь-девки» в выражениях, которыми обычно описывают знакомство с картиной: «…по композиции и силе экспрессии они были полны задатков крупного таланта» [Карпов 1900:401]. Советский критик Д. В. Чалый назвал Квитку-Основьяненко «первым талантливым прозаиком новой украинской литературы» [Білецький 1961, 2:221]. Находясь в тени Шевченко и Франко – общепризнанных украинских классиков, а также Гоголя с его мировой известностью, Квитка мало интересовал литературоведов вне Украины. Однако канадский ученый Мирослав Шкандрий в 2001 году предположил, что Квитка сыграл в становлении украинского национального самосознания фундаментальную, хотя и пассивную роль. Шкандрий ссылается на А. Ф. Шамрая, который «относился к Квитке, как Маркс к Бальзаку – “реакционному монархисту, писавшему лучше, чем кто бы то ни было”. Согласно этой концепции, Квитка, наряду с другими украинскими лоялистами, действовал во благо украинского освободительного движения, даже не вполне сознавая направления, которое это движение приобретало» [Shkandrij 2001:127; Шамрай 1928,1: iii-viii].
В упреках, которые Квитка адресовал своим русским критикам, зачастую звучала неприкрытая личная обида. Так, в письме к издателям журнала «Русский вестник» его интонация напоминает не столько Гоголя, сколько, скорее, Акакия Акакиевича, несчастного протагониста гоголевской «Шинели»: «Хоть что бы ни писали против моих сочинений, я – ни слова: трудно заставить других мыслить сходно с нами. Но при сей верной оказии, имею честь покорнейше просить особу автора оставить в покое»[153]153
Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Письмо к издателям «Русского Вестника». Цит. по: [Білецький 1961, 2: 213–217].
[Закрыть]. Д. В. Чалый, анализируя это обращение Квитки к своим критикам, вспоминает слова очень скромно одетого молодого человека из «Театрального разъезда» Гоголя: «Они, право, народ наш считают глупее бревна – глупым до такой степени, что будто уж он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей» [Чалий 1962:110–111; Гоголь 1937–1952,5:147]. Впрочем, в своих отношениях с критиками Квитка не был столь уж наивен[154]154
Шкандрий ссылается здесь на Зерова, утверждая, что тот «в статье от 1929 года, пересмотрев свою прежнюю нелестную оценку Квитки, призывает более вдумчиво относиться к “наивным простым словам”, обращенным к Плетневу: “За ними стоит целая тактика, множество хорошо продуманных мыслей о собственном творчестве, его сильных сторонах и недостатках”» [Shkandrij 2001: 130; Зеров 1929:38].
[Закрыть]. Будучи автором, пишущим и по-украински, и по-русски, который стремился, чтобы к нему относились серьезно, он болезненно осознавал свою роль торговца на русском литературном рынке. И действительно: в текстах Квитки, описывающих украинский коммерческий пейзаж, сквозной темой являются сложные взаимоотношения между художником и его критиками.
Говоря о появлении Квитки на украинской литературной сцене, следует прежде всего упомянуть три его ранних произведения: сентиментальную повесть «Маруся», юмористическую повесть «Солдатский портрет», а также «Прошение к пану издателю» («Супліка до пана іздателя») – пародийное «извинение», фактически являющееся манифестом в защиту украинской литературы. Первые три текста Квитки, написанные на украинском языке, были опубликованы всего через два года после «Сорочинской ярмарки», поэтому его претензии к критикам необходимо рассматривать в контексте того грандиозного успеха, который имели в литературной среде намного более популярные и намного менее точные с этнографической точки зрения произведения Гоголя. Оба писателя читали друг друга и заимствовали друг у друга. Квитка, который продолжал писать и по-русски, и по-украински вплоть до своей смерти в 1843 году, вероятно, поместил персонажей «Солдатского портрета» (1833) на ярмарку, находясь под впечатлением от успеха «Сорочинской ярмарки» Гоголя. Действие других его произведений тоже часто происходит на фоне коммерческого пейзажа – например, написанная на украинском повесть «Перекати-поле» («Перекотиполе», 1834) и русскоязычная новелла «Ярмарка».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































