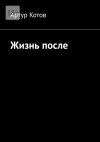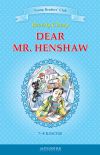Текст книги "Повесть о любви и тьме"

Автор книги: Амос Оз
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
18
Дни его были долгими, и прожил он еще двадцать лет после того, как бабушка Шломит умерла, принимая ванну.
В течение нескольких недель или даже месяцев он все еще поднимался с восходом солнца, вывешивал на балконные перила матрацы и покрывала и лупил подлых микробов и вредителей, которые наверняка пробрались под покровом ночи в постели. Видимо, трудно было ему отказаться от своих привычек. Быть может, таким способом чтил он память покойницы, а может, так избывал тоску по своей королеве. Или опасался, что если посмеет он прекратить это занятие, то восстанет ее дух, грозный, словно целое войско под боевыми знаменами. И унитаз, и раковины не сразу перестал он дезинфицировать с полной самоотдачей.
Но шло время, и улыбчивые щеки дедушки порозовели, как не розовели они никогда прежде. Неуемная веселость охватила его. И хотя до конца своих дней неукоснительно поддерживал он чистоту и порядок, тем более что и сам он по природе своей был человеком аккуратным, но все делалось без насильственной чрезмерности, не было более ни звонких ударов выбивалки, ни разъяренно бьющих струй лизольных и хлорных растворов.
Спустя несколько месяцев начала расцветать любовная жизнь моего дедушки, бурная и удивительная. Именно в это время, как мне кажется, мой семидесятисемилетний дедушка открыл для себя прелести секса.
Прежде чем успел он отряхнуть пыль с башмаков, в которых проводил бабушку в последний путь, наполнился дом дедушки толпой утешительниц, которые подбодряли его, делили с ним его одиночество и понимали, как сильна его сердечная боль. Ни на миг не оставляли его в тоске, ублажали теплыми свежеприготовленными блюдами, яблочными пирогами, а он, по всему видать, был вполне доволен – разве во все дни его жизни не тосковал он по женщине, просто по женщине? По всем женщинам истомилась душа его – по красавицам и по тем, чью привлекательность не сумели заметить другие мужчины:
– Дамы, – решительно изрек однажды дедушка, – они все очень красивые. Все до одной, без исключения. Но мужчины, – тут он улыбнулся, – слепцы! Абсолютные слепцы! Ну да что там… Ведь они видят только самих себя – впрочем, и себя они тоже не видят. Слепцы!
* * *
Со смертью бабушки сократил дедушка и свою коммерческую деятельность. Порой, бывало, объявлял он, сияя от гордости и удовольствия, о “деловой, весьма важной поездке в Тель-Авив, на улицу Грузенберг” или об “очень, очень важном заседании в Рамат-Гане, со всеми руководителями фирмы”. Все еще любил он протягивать всем свои изысканные визитные карточки. Но отныне почти все время у него уходило на запутанные сердечные дела: он приглашал или его приглашали на чашку чая, он обедал при свечах в одном из лучших, но не слишком дорогом ресторане (“С госпожой Цитрин, какой ты дурак, – уж это непременно по-русски, – с госпожой Цитрин, а не с госпожой Шапошник!”).
Целые часы проводил он за своим столиком на втором, скрытом от любопытных глаз этаже в кафе “Атара”, что на спуске улицы Бен-Иехуда. На дедушке темно-голубой костюм, галстук в крапинку, весь он розовый, улыбчивый, чистенький, благоухает шампунем, тальком, одеколоном, радует глаз белоснежной, туго накрахмаленной рубашкой с таким же белоснежным платочком в нагрудном кармане, сиянием серебряных запонок. Его всегда окружает целая свита женщин, им пятьдесят-шестьдесят лет, но все они прекрасно выглядят – вдовы, затянутые в корсеты, в нейлоновых чулках со стрелкой; элегантные разведенные дамы, умело накрашенные, с маникюром и педикюром, обвешанные серьгами, браслетами и кольцами, изъясняющиеся на ломаном иврите с венгерским, польским, румынским или балканским акцентом. Дедушка любил их общество, а они таяли под лучами его обаяния: был он потрясающим собеседником, старомодным джентльменом, целовал дамам ручки, торопился открыть перед ними дверь, предлагал руку, если встречались на пути лестницы или какие препятствия, помнил все дни рождения, посылал букеты или коробки конфет, одаривал комплиментами платье, новую прическу, элегантные туфли, сумочку; он мило и со вкусом шутил, декламировал, когда представлялся случай, стихи, умел вести беседу с теплым юмором. Однажды, открыв дверь, я увидел своего девяностолетнего дедушку, преклонившего колени перед брюнеткой с округлыми формами, веселой вдовой одного нотариуса. Дамочка подмигнула мне поверх головы моего влюбленного дедушки и заигрывающе улыбнулась, обнажив два ряда зубов до того белых, что вряд ли они могли быть настоящими. Я вышел и тихонько притворил за собой дверь, так что дедушка меня и не заметил.
В чем заключалась тайна его мужского обаяния? Это я, пожалуй, стал постигать лишь спустя годы. Он обладал качеством, которое почти не встречается среди мужчин, – замечательным качеством, возможно, самым сексуально притягательным для многих женщин: он умел слушать.
Не просто прикидывался из вежливости, что он, мол, слушает, с нетерпением ожидая, когда она наконец замолчит.
Не перебивал собеседницу, завершая за нее начатую фразу.
Не прерывал ее, не встревал в ее речь, чтобы подытожить сказанное и двинуться дальше.
Не предоставлял собеседнице возможность просто сотрясать воздух, тем временем готовя в уме ответ, который он произнесет, когда она все же замолчит.
Не прикидывался проявляющим интерес и получающим удовольствие от беседы, а на самом деле проявлял интерес и получал удовольствие. Ну что тут говорить – его любознательность не знала усталости.
Не проявлял нетерпения, не стремился повернуть разговор таким образом, чтобы от ее мелких дел перейти к своим, куда более важным. Напротив, он был очень увлечен ее делами. Ему было всегда приятно слушать ее, и даже если она оказывалась чрезмерно многословной, он дожидался, пока она выскажется, наслаждаясь тем временем всеми изгибами ее фигуры.
Не спешил. Не торопил. Ждал, пока она закончит, да и когда она умолкала, не набрасывался на нее, не перехватывал инициативу, а с удовольствием продолжал ждать – вдруг у нее есть еще что-то? Вдруг нахлынет еще одна волна?
Ему нравилось, чтобы она держала его за руку, словно ведя за собой в ее собственном ритме. Нравилось аккомпанировать ей, как флейта аккомпанирует пению.
Он любил узнавать ее. Любил понимать. Любил вникать в суть ее мыслей. И даже чуть глубже.
Любил отдаваться. Отдаваясь, он получал даже большее наслаждение, чем обладая ею.
Ну да что там! Они, бывало, говорят и говорят, наговорятся досыта, сколько душа того желает, о делах личных, тайных, о самых болезненных проблемах, а он сидит и слушает – с мудростью и нежностью, с доброжелательностью и бесконечным терпением.
Нет, не с терпением, а с искренним интересом.
На свете полно мужчин, которые обожают секс, готовы без конца заниматься им, но ненавидят женщин.
Дедушка мой, так мне кажется, любил и то и другое.
И делал это со всей деликатностью. Ничего не рассчитывал. Не хватал то, что не его. Никогда не спешил. Любил плавать и не торопился бросить якорь.
Немало романов случилось у него за двадцать лет его медовой эпохи, после смерти бабушки, с семидесяти семи лет и до конца его дней.
Иногда отправлялся он со своей возлюбленной, той или другой, провести два-три дня в гостинице в Тверии либо в пансионе в Гедере, а то выбиралась кайтана на побережье в Натании. (Слово кайтана – так на иврите называют место для летнего отдыха – дедушка переводил русским словом “дача”, и оно словно хранило чеховский аромат, напоминая о дачах в Крыму.) Не раз видел я его, медленно идущего по улице Агриппас или Бецалель под руку с дамой, но я к ним не подходил. Он не слишком старался скрывать свои романы, но и не бахвалился ими. Никогда не приводил в наш дом своих подруг, чтобы представить нам, и почти никогда о них не говорил. Но порой мы видели его влюбленным юношей, у которого голова идет кругом, глаза затуманены, рассеянная улыбка блуждает на губах, он что-то бормочет самому себе и бурно радуется… А иногда выглядел он осунувшимся, детский румянец его блекнул, словно солнце, затянутое осенними облаками. Тогда стоял он в своей комнате и сердито гладил одну за другой рубашки. Дедушка имел обыкновение гладить свое белье, опрыскивая его одеколоном из бутылочки с пульверизатором, и вот за этим занятием он временами разговаривал сам с собой по-русски, то сурово, то ласково, или напевал себе под нос какую-то грустную украинскую мелодию. Из этого мы могли заключить, что перед ним закрылась очередная дверь, либо, как это случилось в дни его обручения, во время необыкновенного плавания в Нью-Йорк, он вновь отчаянно запутался в муках двух любовных историй, которые разворачивались одновременно.
Однажды, когда ему было уже восемьдесят девять, он сообщил нам, что намерен отправиться в “важную поездку” на два-три дня – мол, нам не следует ни о чем беспокоиться. Но когда он не вернулся и через неделю, мы всерьез стали тревожиться: где же он? почему не звонит? Быть может, не приведи господь, с ним что-нибудь стряслось? Все-таки человек в его возрасте…
Мы колебались, не зная, надо ли обращаться в полицию? А вдруг он, не дай бог, лежит в какой-нибудь больнице, а вдруг случилось с ним какое-то несчастье – ведь мы никогда не простим себе, что не бросились на поиски. Но если мы и впрямь свяжемся с полицией, а он окажется жив и здоров, как устоим мы перед ураганом его гнева, который обрушится на нас? Если дедушка не появится до полудня в пятницу, решили мы после двухдневных колебаний, то придется нам обратиться в полицию – выбора нет.
В пятницу, в полдень, за полчаса до истечения срока нашего “ультиматума”, дедушка вдруг появляется, разрумянившийся, довольный, веселый, сыплющий шутками, по-детски восторженный.
– Куда же ты пропал, дедушка?
– Ну что там! Поездил себе немножко.
– Но ты же сказал, что вернешься через два-три дня?
– Сказал. Ну и что, если сказал? Ну ведь я поехал с госпожой Гершкович, мы там замечательно провели вместе время. Совершенно не почувствовали, как быстро убегает время…
– И куда вы поехали?
– Я уже сказал: поехали провести время. Нашли тихий пансион. Очень-очень культурный. Как в Швейцарии.
– Пансион? Где?
– На высокой горе в Рамат-Гане.
– Но ведь ты мог хотя бы позвонить нам? Чтобы мы так не волновались?
– Не нашли мы там телефона. В нашей комнате не было. Ну да что… Это был исключительно культурный пансион!
– Но ведь ты мог позвонить из телефона-автомата. Я ведь сам дал тебе для этого асимоны.
– Асимоны… Асимоны… Ну что такое? Что еще за асимоны?
– Асимоны – это чтобы звонить по телефону-автомату.
– А… твои жетоны. Вот они. Ну забирай их обратно, клоп. Забирай и их, и дырки, что у них посередке. Забирай, забирай, только пересчитай, пожалуйста. Никогда ни у кого не бери ничего, предварительно как следует не пересчитав.
– Почему ты ими не воспользовался?
– Жетонами? Ну да что там… Жетоны! Я им не доверяю.
* * *
Когда было ему девяносто три года, спустя три года после смерти моего отца, дедушка решил, что я уже достаточно взрослый и пришло время поговорить со мной как мужчина с мужчиной. Он пригласил меня в свой кабинет, закрыл окна, запер дверь на ключ, уселся, торжественный и официальный, за письменный стол, велел мне сесть напротив, не называл меня “клоп”, закинул ногу на ногу, подпер подбородок ладонью, ненадолго задумался и произнес:
– Пришло время, чтобы мы немного поговорили о Женщине. – И сразу же пояснил: – Ну. О женщине в общем смысле.
Мне в то время было тридцать шесть, я был женат уже пятнадцать лет, у меня было две дочки-подростка.
Дедушка вздохнул, легонько кашлянул в ладонь, поправил галстук, прочистил горло и сказал:
– Ну что ж… Женщина всегда интересовала меня. Всегда. Ни в коем случае не подумай что-нибудь нехорошее! Ведь все, что я говорю, – это совершенно иное! Ну, я лишь говорю, что женщина всегда вызывала во мне интерес. Нет-нет, не “женский вопрос”! Женщина как личность.
Он легко засмеялся и уточнил:
– Ну, женщина интересовала меня во всех смыслах. Ведь всю свою жизнь я постоянно смотрел на женщин, даже тогда, когда я был всего лишь маленький чудак (это было сказано по-русски). Нет, ни в коем случае не смотрел я на нее как какой-то паскудник, нет, я смотрел на нее с полным уважением. Я смотрел и учился. Ну вот, чему я научился и чему сейчас хочу изучить тебя (я догадался, что он хочет “научить” меня: с глагольными формами, да и вообще с ивритом у дедушки были напряженные отношения). Чтобы ты уже знал. Теперь ты меня хорошенько выслушаешь. Пожалуйста. Значит, так…
И замолчал. И поглядел туда и сюда, словно еще раз хотел удостовериться, что в этой комнате мы действительно только вдвоем, никаких посторонних ушей.
– Женщина, – снова заговорил дедушка, – ну, в некотором смысле она в точности как мы. Ну точь-в-точь. Абсолютно. Но в некоторых других отношениях, – продолжал он, – женщина совершенно иная. Совсем не похожа.
И опять он прервался – возможно, в памяти его всплыли те или иные картины, – лицо осветилось детской улыбкой, и свое обучение он подытожил так:
– Ну да что там! В некоторых смыслах Женщина – в точности как мы, а в некоторых других – она совсем не похожа на нас… Ну, над этим, – он встал, – над этим я еще работаю…
Было ему девяносто три года, и не исключено, что он и в самом деле продолжал “работать” над этим вопросом до последних дней своих.
Я тоже все еще работаю над этим вопросом.
* * *
Был у него свой собственный, личный иврит, у моего дедушки. И ни в коем случае не хотел он, чтобы его поправляли. Так, нечаянно заменив одну букву на другую в каком-нибудь ивритском слове, он до конца жизни мог, к примеру, вместо слова “парикмахер” (сапар) говорить “моряк” (сапан) и более того – образовывать от этого другие слова, превращая ту же “парикмахерскую” в “судоверфь”. Раз в месяц, как часы, отправлялся бравый мореход на “судоверфь”, усаживался в кресло капитана, и “моряк”, он же парикмахер, получал от него целый ряд наставлений и команду “отправиться в плавание”. А посылая меня “поморячиться” (глагол он строил с той же ошибкой), он, естественно, прибегал к морскому сравнению: “На кого ты похож! Просто пират!” Город Каир именовал он не иначе как “Каиро”. Я был для него иногда молодец, иногда какой ты дурак – и то и другое только по-русски. На этом же языке, никогда не используя ивритского аналога, он говорил спать. А на вопрос “Как спалось, дедушка?” всегда отвечал исключительно на иврите: “Великолепно!” Но поскольку не совсем был уверен в своем иврите, то обычно весело добавлял: “Хорошо! Очень хорошо!” Для некоторых слов он признавал только русский: библиотека, чай, чайник. А вот для правительства нашлось у него словечко из идиша – правда, тоже не без славянских корней, партач. Правящую партию социалистов он тоже предпочитал крыть на идише.
Однажды, года за два до того, как он умер, заговорил дедушка со мной о смерти:
– Если, не дай бог, падет в бою какой-нибудь молодой солдат, парень лет девятнадцати-двадцати, ну, это ужасное, страшное несчастье – но не трагедия. Умереть в моем возрасте – это уже трагедия! Человек вроде меня, которому девяносто пять – почти сто! – уже так много лет каждое утро встает в пять часов, принимает холодный душ, каждое утро, каждое утро, вот уже почти сто лет, даже в России – холодный душ каждое утро, даже в Вильне… Вот уже почти сто лет он каждое утро съедает кусочек хлеба с селедкой, выпивает стакан чая, каждое утро выходит на получасовую прогулку, летом и зимой, ну, пройтись утром по улице – это для моциона! Это хорошо возбуждает циркуляцию! И как только он вернется домой, то каждый день, каждый день почитывает газеты и попивает чай… Так вот, короче, этот славный парнишка, которому девятнадцать лет, если он, не дай бог, будет убит, он ведь не успел завести никакого…
Тут я должен прерваться и пояснить, что в ивритском слове хергель, “привычка”, дедушка, по своему обыкновению, переставил и поменял буквы, превратив его таким образом совсем в другое слово, ригуль, то есть “шпионаж”, так что продолжение его речи звучало так:
– …Не успел завести никакого шпионажа. Да и когда ему было успеть? Но в моем возрасте уже трудно все прервать, очень-очень трудно. Ведь гулять по улице каждое утро – это для меня уже старый шпионаж. И холодный душ – тоже шпионаж. И жить – это уже для меня шпионаж. Ну да что там? После ста лет кто же способен одним махом изменить весь свой шпионаж? Не вставать больше в пять утра? Без душа, без селедки с хлебом? Без газеты, без прогулки, без стакана горячего чая? Трагедия!
19
В 1845 году в Иерусалим, находящийся под властью Османской империи, прибыли британский консул Джеймс Фин с супругой Элизабет-Энн. Оба знали иврит, а консул даже написал историю еврейского народа, к которому всю свою жизнь питал особую симпатию. Он был членом “Лондонского общества по распространению христианства среди евреев”, но, насколько известно, прямой миссионерской деятельностью в Иерусалиме не занимался. Консул Фин и его жена истово верили в то, что возвращение еврейского народа на его родину приближает истинную Свободу для всего мира. Не раз защищал консул евреев в Иерусалиме от притеснений турецких властей. Кроме всего прочего, Джеймс Фин верил в необходимость “продуктивизации” жизни евреев и помогал им овладевать строительным делом, а также приобщаться к земледельческому труду. Для этой цели он приобрел в 1853 году за 250 английских фунтов стерлингов пустынный скалистый холм в нескольких километрах от Иерусалима, к северо-западу от Старого города. Все еврейское население Иерусалима проживало тогда внутри городских стен. Приобретенная консулом земля не обрабатывалась, не была заселена, и участок назывался арабами Керем аль-Халиль, то есть Виноградник аль-Халиля. Джеймс Фин перевел название на иврит – Керем Авраам. Он построил здесь дом для себя и создал хозяйственное предприятие “Мошавот харошет” (“Фабричное поселение”), которое должно было обеспечить бедных евреев рабочими местами, подготовить их к производственной деятельности, к занятиям ремеслами и сельским хозяйством. Ферма разместилась на площади в сорок дунамов (десять акров). Свой дом Джеймс и Элизабет Фин построили на вершине холма, а вокруг него расположились и ферма, и хозяйственные постройки, и производственные помещения. Толстые стены их двухэтажного дома были сложены из тесаного камня, потолки в восточном стиле, сводчатые, крестообразные. За домом – двор, окруженный стеной, в скальном грунте высечены колодцы, в которые собиралась вода, были там и конюшни, и загон для скота, и амбар, а также склады, винный погреб, давильни для винограда и для маслин.
Около двухсот евреев трудились в “Фабричном поселении”, очищали территорию от камней, возводили каменные заборы, сажали фруктовый сад, выращивали овощи и фрукты, а также были заняты созданием небольшой каменоломни и другими работами, связанными со строительством. После смерти консула его вдова основала фабрику по производству мыла, где также трудились евреи.
Почти в то же время немецкий миссионер Иоганн Людвиг Шнеллер, уроженец города Эрфинген, расположенного в королевстве Вюртемберг, создал по соседству с Керем Авраам приют для детей арабов-христиан – детей, оставшихся сиротами в результате резни христиан, учиненной в Ливане. Приют располагался на обширной территории, за каменным забором. “Сирийский дом сирот имени Шнеллера” точно так же, как и “Фабричное поселение” супругов Фин, ставил во главу угла приобщение своих подопечных к трудовой деятельности, обучая их ремеслам и помогая обрести навыки ведения сельского хозяйства.
И Фин, и Шнеллер были ревностными христианами, каждый в силу личного подхода и понимания, но бедность, страдания, отсталость евреев и арабов, проживавших в Святой земле, трогали их сердца. Оба полагали, что приобщение местных жителей к производительному труду – ремеслам, строительному делу, сельскому хозяйству – вырвет Восток из когтей вырождения, отчаяния, бедности и равнодушия. Быть может, они и в самом деле надеялись, что их щедрость и отзывчивость приведут евреев и мусульман в объятия христианства.
* * *
У подножия фермы Фина в 1920 году был заложен квартал Керем Авраам, маленькие тесные домики которого строились среди садов фермы и постепенно отхватывали от нее все новые и новые площади. Что же до дома Финов, то после смерти Элизабет-Энн, вдовы консула, он пережил множество превращений – сначала его сдали английскому учреждению для малолетних преступников, затем там размещалось одно из отделений британской администрации, а потом воинский штаб.
В конце Второй мировой войны дом был огорожен высоким забором из колючей проволоки, и весь дом со всеми его дворовыми постройками стал местом заключения для пленных итальянских солдат. Мы, бывало, прокрадывались туда под вечер, задирали пленных и веселились вместе с ними, строя рожи и жестикулируя. “Бамбино! Бамбино! Бонджорно, бамбино!” – восторженно восклицали итальянцы, завидев нас. А мы, со своей стороны, тоже кричали им: “Бамбино! Бамбино! Иль дуче морте! Финито иль дуче!” Иногда мы вопили: “Вива Пиноккио!” И поверх колючей проволоки, поверх разверзшейся пропасти чужого языка, войны, фашизма к нам всегда возвращался, словно отклик на древний пароль, ликующий крик: “Джеппето! Джеппето! Вива Джеппето!”
В обмен на конфеты, арахис, апельсины и печенье, которые мы бросали итальянцам через колючую проволоку, как обезьянам в зоопарке, некоторые из пленных передавали нам итальянские марки или показывали издали семейные фотографии со смешливыми женщинами, маленькими детьми, втиснутыми в костюмчики, – это были наши сверстники, в пиджачках, при галстуках, с аккуратно причесанными черными волосами, со взбитым коком, сверкающим от бриллиантина.
Однажды в обмен на жевательную резинку “Альма” в желтой обертке один из пленных показал мне через колючую проволоку фотографию толстухи, на которой не было никакой одежды, кроме чулок с подвязками. Секунду стоял я перед фотографией, словно оглушенный громом, широко открыв глаза, парализованный, обливающийся потом, – будто в разгар Судного дня вдруг поднялся кто-то в синагоге и выкрикнул запретное имя Бога. Через мгновение я повернулся и, потрясенный, ошеломленный, рыдая, кинулся прочь, как если бы гнались за мной волки; я мчался во весь дух и убегал от этой фотографии примерно до одиннадцати с половиной лет.
После создания в 1948 году Государства Израиль дом консула и его супруги стал базой народного ополчения, потом здесь размещались штаб подразделений пограничной стражи, службы гражданской обороны, база молодежной допризывной подготовки, пока, наконец, здание не передали воспитательному учреждению для девочек из религиозных семей, получил он имя “Дом Брахи”. Изредка, оказываясь в квартале Керем Авраам, я сворачиваю с улицы Геула, которая нынче называется улицей Царей Израиля, иду налево по улице Зхария, прохаживаюсь взад и вперед по улице Амоса, поднимаюсь по улице Овадия до самого ее верха, останавливаюсь у входа в дом консула Фина и на две-три секунды замираю у ворот. Старый дом съежился с течением лет, словно, опасаясь занесенного над ним топора, втянул голову в плечи, и изменил свою веру – в соответствии со строгими правилами еврейского религиозного закона. Деревья и кустарники выкорчеваны, и теперь весь двор залит асфальтом. Улетучились, растаяли Пиноккио и его родитель Джеппето. И базы допризывной подготовки молодежи словно бы никогда и не было. Остатки покосившейся беседки еще виднеются во дворе. Две-три женщины в платках и темных платьях стоят там иногда у ворот. Они замолкают, стоит мне глянуть в их сторону. Отводят взгляд. Перешептываются, когда я удаляюсь.
* * *
По прибытии в 1933 году в Эрец-Исраэль отец мой записался в Еврейский университет на горе Скопус в Иерусалиме, чтобы продолжить образование и получить вторую университетскую степень. Поначалу он жил с родителями в маленькой съемной квартирке в Керем Авраам, на улице Амос, примерно в двухстах метрах восточнее дома консула Фина. Потом родители переехали на другую квартиру. В квартиру на улице Амос въехали супруги Зархи, однако комнату со входом через веранду продолжал снимать парень-студент, на которого его родители возлагали большие надежды.
Керем Авраам все еще был новым кварталом, большинство улиц еще не замостили, и виноград, давший кварталу свое имя, все еще рос тут и там. Виноградные лозы, гранатовые, тутовые и фиговые деревья перешептывались, стоило дуновению ветра коснуться листвы. С наступлением лета, когда окна распахивались настежь, ароматы цветов заливали маленькие комнатки. В конце каждой из пыльных улиц, а также с крыш можно было видеть горы, окружавшие Иерусалим.
Один за другим возникали здесь каменные дома, простые, двух– и трехэтажные, поделенные на множество тесных – пара крошечных комнат – квартирок. Железные ворота в этом квартале украшали слово “Сион” и шестиконечные звезды. Железные ограды и решетки во дворах и на балконах очень скоро проржавели. Сосны и кипарисы постепенно вытеснили виноградные лозы и гранатовые деревья. Правда, случалось, что кое-где эти одичавшие деревья зацветали, но дети обчищали их, не давая гранатам созреть. Между деревьями и валунами во дворах высаживали олеандры или герань. Но очень скоро вся эта зелень была забыта и заброшена, над нею протянулись бельевые веревки, ее затаптывали, ее теснили колючки, на земле полно было битого стекла. Если олеандры и герань не умирали от жажды, то неистово разрастались, как любая дикая растительность. Во дворах теперь теснились подсобные постройки: склады, бараки, сарайчики из жести… И хибары, наскоро сколоченные из ящиков, в которых жители квартала Керем Авраам привезли свои пожитки, – похоже, люди пытались воссоздать здесь копию оставленных ими в Польше, Украине, Венгрии или Литве местечек. Кое-кто укреплял на шесте большую жестяную банку из-под маслин, сооружал голубятню и ожидал прилета голубей, пока ожидание не сменялось отчаянием. Кое-кто пытался устроить во дворе курятник – на двух-трех птиц. Другие старались изо всех сил вырастить на маленьких грядках редиску, лук, цветную капусту, петрушку…
Почти все стремились переехать отсюда в места более культурные – в кварталы Рехавия, Кирьят Шмуэль, Тальпиот или Бейт ха-Керем. Все очень старались поверить, что трудные времена миновали, в самом ближайшем будущем обязательно будет создано Еврейское государство, тогда все переменится к лучшему. Разве не переполнилась чаша страдания?
А тем временем в квартале Керем Авраам родились первые дети, и почти невозможно было объяснить им, откуда прибыли их родители, почему они прибыли сюда и чего все ожидают. В квартале Керем Авраам жили мелкие чиновники, служившие в Еврейском агентстве, учителя, медсестры, писатели, шоферы, делопроизводители, преобразователи мира, переводчики, продавцы, мыслители, библиотекари, банковские кассиры, билетеры, идеологи, владельцы маленьких магазинчиков, одинокие старики, проедающие свои скудные сбережения. В восемь вечера закрывались балконы, запирались дома, опускались все жалюзи, и только уличный фонарь создавал для одного себя желтую лужицу света на углу пустынной улицы. По ночам слышались пронзительные крики ночных птиц, далекий лай собак, одинокие выстрелы, шум ветра в кронах фруктового сада, ибо с наступлением темноты весь квартал возвращал себе данное еще консулом имя “керем” и вновь превращался в виноградник. Во дворах шелестели чудом уцелевшие смоковницы, шелковицы, оливы, яблони, гранатовые деревья, виноградные лозы. На каменные стены падал лунный свет и, отражаясь от них, пробирался меж деревьев, обретая прозрачную бледность привидения.
* * *
Улица Амос на двух-трех снимках в альбоме моего отца выглядит как незаконченный эскиз. Скопление прямоугольных строений из тесаного камня. Железные жалюзи и решетки на балконах. Там и сям на подоконниках горшки с чахлой геранью, рядом – выставка из банок, в которых, залитые рассолом с укропом и чесноком, солятся огурцы или перцы. Между рядами домов улицы как таковой еще нет, лишь пыльная грунтовка, вдоль которой громоздятся железные бочки и строительные материалы: щебенка, груды обтесанного камня, мешки с цементом, бетонные плиты, кучи песка, мотки проволоки, разобранные деревянные строительные леса. Тут и там среди этого хаоса растет себе колючая степная акация, запорошенная белесой пылью. Прямо на земле, посреди дороги, сидят каменотесы – босые, обнаженные до пояса, в широких холщовых штанах, с обмотанными полотенцами головами. Стук их молотков, ударяющих по зубилу, наполняет квартал залпами барабанной дроби, складывающейся в какую-то странную, настойчивую атональную мелодию. Время от времени на окраине квартала слышатся хриплые возгласы, предупреждающие об опасности: “Ба-руд! Ба-руд!” А затем мир раскалывается от грохота взорванных скал…
На другой фотографии, праздничной, словно перед балом, прямо посреди улицы Амос, в самой гуще строительной суматохи, стоит автомобиль – черный и прямоугольный, будто катафалк. Такси или частная машина? По снимку не угадать. Блестящее лаковое авто двадцатых годов: шины узкие, как у мотоцикла, колпаки на колесах тонкие, сетчатые, капот прямоугольный, и посеребренная полоса из никеля подчеркивает его форму. По бокам у капота прорези, похожие на жалюзи. На самом носу автомобиля – маленький выступ: пробка из никеля, блестящая, венчающая радиатор. Два круглых фонаря подвешены спереди на серебристом стержне, и сами фонари отливают серебром, сверкая на солнце.
Рядом с автомобилем снят торговый агент Александр Клаузнер, элегантный до невозможности, в тропическом светлом костюме, при галстуке и дырчатой панаме, немного напоминающий голливудского актера Эрола Флина в каком-нибудь фильме про европейских господ, оказавшихся в Экваториальной Африке или Бирме. Рядом с ним – внушительная, выше и шире него, – стоит его элегантная супруга Шломит, его двоюродная сестра и повелительница, гранд-дама, великолепная и надраенная, как военный корабль. Она в летнем платье с коротким рукавом, на шее ожерелье, очаровательная шляпа-федора венчает ее ухоженную прическу, а прикрепленная к шляпке кружевная вуалетка скрывает лицо, словно за полупрозрачной занавеской. В руках она держит прелестный зонтик от солнца, называемый “парасоль”. Их сын Лёня, Лёничка, тоже тут – похожий на жениха в день свадьбы. Он смотрится несколько комично, рот слегка приоткрыт, круглые очки сползли на нос, плечи выдвинуты вперед, и весь он, наподобие мумии, запеленут в тесный костюм. Черная жесткая шляпа выглядит так, словно ее силой нахлобучили ему на голову, – напоминающая перевернутую железную кастрюлю, она надвинута до середины лба, и кажется, что только уши, чересчур большие, удерживают ее от того, чтобы не соскользнуть до самого подбородка, поглотив всю оставшуюся часть головы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?