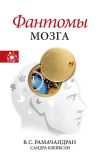Автор книги: Ана Хедберг-Оленина
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Заумный язык: вопрос языковых конвенций или субъективных эмоций?
Многие современные читатели удивятся, узнав о том, что Шкловский и другие русские формалисты считали, что выбор фонем в поэтическом тексте мотивирован психологией поэта. На первый взгляд может показаться, что эта идея противоречит аксиоме о том, что язык и литературный стиль являются исключительно вопросом конвенций. Последний принцип обычно считается фундаментальным для формалистского изучения внутренних законов литературной эволюции. Однако можно вспомнить, что коллега Шкловского Роман Якобсон размышлял о том, что «существует латентная тенденция к конгруэнтности звуков и их значений» и утверждал, что «такие соответствия часто строятся на феноменальном взаимодействии между различными ощущениями – на синестезии»126126
Jakobson R., Waugh L. R. The Sound Shape of Language. 2nd ed. Hague: Mouton de Gruyter, 2002. P. 266.
[Закрыть]. Таким же образом лингвист Лев Якубинский, чью статью «О звуках стихотворного языка» (1919) Шкловский опубликовал в одном из первых сборников формалистов, проделал большую работу для того, чтобы объяснить, что вербальный знак произволен только в обыденном, практическом языке коммуникации, a в стихотворной речи между знаком и референтом существует сложная психологическая связь127127
Якубинский Л. О звуках стихотворного языка // Поэтика. Пг.: 18‑я Гос. типография, 1919. С. 37–49.
[Закрыть]. Еще один друг Якубинского и Шкловского, лингвист Евгений Поливанов, считал термины «фонология», «психофонетика» и «звукопредставление» синонимами128128
Алпатов В. М. Евгений Поливанов // Отечественные лингвисты XX века: Сб. статей. Т. 2 / Ред. Ф. Березин. М.: ИНИОН РАН, 2003. С. 98.
[Закрыть]. Поливанов, написавший статью об ономатопее в японском языке в формалистском сборнике «Поэтика» (1919)129129
Поливанов Е. По поводу «звуковых жестов» японского языка // Поэтика. Пг.: 18‑я Гос. типография, 1919. С. 26–36.
[Закрыть], продолжал интересоваться этим феноменом на протяжении всей жизни. Он исследовал такие темы, как «психологическое восприятие звуков чужого языка в связи с фонологической системой своего»130130
Алпатов В. М. Указ. соч. С. 98. См.: Polivanov E. La perception des sons d’une langue étrangère // Travaux du Cercle linguistique de Prague. Prague, 1931. № 4. P. 79–96.
[Закрыть].
Анализ футуристских стихов, проведенный Шкловским в начале 1910‑х годов, подготовил почву для этого направления в последующей литературной теории формалистов. Обратимся к концепции Шкловского о том, что происходит во время эстетического восприятия поэзии, когда, как пишет Якубинский, звуки «всплывают в светлое поле сознания»131131
Якубинский Л. Указ. соч. С. 38.
[Закрыть], а обыденное содержание слов растворяется, уступая место ассоциативным рядам и эмоциональным реакциям.
Одним из ключевых понятий в эссе Шкловского «О поэзии и заумном языке» является эмоция. Это понятие появляется в начале статьи, в тезисе, который Шкловский представляет как утверждение футуристов, требующее внимания исследователей:
Итак, несколько человек утверждают, что их эмоции могут быть лучше всего выражены особой звукоречью, часто не имеющей определенного значения и действующей вне этого значения или помимо его непосредственно на эмоции окружающих. Представляется вопрос: оказывается ли этот способ проявлять свои эмоции особенностью только этой кучки людей или же это – общее языковое явление, но еще не осознанное132132
Шкловский В. О поэзии и заумном языке. С. 14.
[Закрыть].
К последнему варианту склоняется и сам Шкловский. В статье он представляет различные примеры «звукоречи» (групп звуков, которые, судя по всему, являются фоносемантической основой, задающей общий психологический тон высказывания) и утверждает, что этот феномен встречается не только в поэтических текстах и фольклоре, но также в детской речи и в экстатическом бормотании религиозных сектантов-хлыстов. Однако интереснее всего в этом отрывке то, что Шкловский вообще использует такие понятия, как «выражение» и «эмоция». Для современного читателя, привыкшего видеть в формалистах именно предтеч структурализма и постструктурализма, возвращение Шкловского к внутренним переживаниям поэта может показаться неожиданным. По мысли Шкловского (если мы несколько переформулируем ее), литературный текст оказывается чем-то большим, нежели бесконечная игра знаков; большим, чем совокупность структур, выработанных внутренними механизмами лингвистической системы некоего общества. В своей модели Шкловский близко подходит к утверждению о том, что телесная природа поэта, physis, обусловливает выработку звуков и в конечном счете отвечает за появление символических форм, poēsis. Тело интонирует собственное психологическое состояние. Акустический, артикуляционный образ высказывания дает представление о когнитивном и аффективном состоянии говорящего, обеспечивая доступ к дологической, докоммуникативной чистой экспрессии.
Важное уточнение о том, что Шкловский и другие формалисты понимали под словом «эмоция», делает в своем классическом труде О. Ханзен-Лёве133133
Ханзен-Лёве О. Русский формализм, методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Пер. С. А. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 45.
[Закрыть]. Он отмечает, что поэты-формалисты и футуристы отвергали научность поисков «эмоций» в литературных произведениях, однако в таких заявлениях они выступали против «тематически содержательной интерпретации поэтической суггестивности»134134
Там же.
[Закрыть], противопоставляя ей «беспредметные эмоции» эффектов остранения, трактуемых изначально чисто сенсуально»135135
Там же.
[Закрыть]. Ханзен-Лёве цитирует строки из исследователя рубежа веков Александра Веселовского, иллюстрирующие тот тип эмоциональной суггестии, который был близок многим поэтам, начиная с Малларме:
В российском контексте такой взгляд на поэзию получил распространение еще до футуризма – у символистов. Но, как проницательно отмечает Ханзен-Лёве, в теории символистов выразительная звуковая оркестровка и ритм составляли «волшебство поэзии» – они вводили слушателя в состояние транса, добиваясь трансцендентального опыта; в свою очередь, авангардисты проявляли интерес к фоносемантике с целью «обнажить прием» и обратить внимание слушателя на материальную основу смысловых эффектов137137
Ханзен-Лёве О. Указ. соч. С. 45–47. Мария Гидини показала, что символисты интерпретировали феномен глоссолалии, как и зарождение «звукообразов» в поэзии, сквозь призму религиозной философии, от которой формалисты и футуристы были максимально далеки (Гидини М. К. Звук и смысл. Некоторые замечания по теме глоссолалии у Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов и его время: Материалы VII Междунар. симпозиума / Eds. S. Averintsev, R. Ziegler. Frankfurt: Peter Lang, 2002. Р. 65–81.
[Закрыть].
Представляется важным поподробнее остановиться на «беспредметных эмоциях» Шкловского, как их удачно называет Ханзен-Лёве. Причина, по которой Шкловский решил рассмотреть «эмоциональный» аспект языка, и то, каким образом он понимал его, отнюдь не очевидны и требуют отдельного рассмотрения. Одно ясно: как отмечал современник Шкловского психолог Лев Выготский, если формалисты попытались бы полностью нивелировать роль психологии в эстетическом восприятии, они бы оказались в тупике, попытайся они объяснить то, как эффект остранения – обновленное ощущение предмета – происходит в восприятии художника и его адресата138138
Выготский отмечает, что, объясняя функции искусства, формалисты обращаются к психологии. Например, идея остранения, или деавтоматизации восприятия, коренным образом опирается на определенные теории в психологии восприятия (Выготский Л. С. Психология искусства / Подгот. изд. М. Г. Ярошевского. Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. С. 72–73).
[Закрыть].
Но что именно, по мнению Шкловского, обуславливает тесную взаимосвязь между «звукоречью» и «эмоциями»? Попробуем разобраться в этом вопросе, для начала осмыслив понятие «звукоречь». Как мы видели, в статье «О поэзии и заумном языке» Шкловский использует термин «звукоречь» для того, чтобы указать на эфемерные звуки, прокручивающиеся в сознании поэта, когда он пытается сформулировать стих:
Эта акустическая канва, этот ускользающий остаток, не вместившийся в прокрустово ложе некого нормативного слова, по Шкловскому, все еще навязчиво влияет на то, как слушатель воспринимает высказывание. Как отмечает Ханзен-Лёве, одна из ключевых идей, к которой пришел Шкловский в своих исследованиях зауми, заключается в том, что
Так, согласно теории Шкловского, сконцентрировавшись на звуках высказывания как таковых, слушатель обнаруживает всю полноту и подвижность значений, выходящую за пределы стабильных словарных определений слов. Что еще важнее, звуки интуитивно воспринимаются как отражение неких внутренних посылов, давших толчок словесному выражению: «звукоречь» отражает ход мысли говорящего и изменяющиеся нюансы его психологических состояний. Комментарий Ханзена-Лёве к этому вопросу отсылает к влиятельной концепции «внутренней формы слова»141141
Отношение Шкловского к теориям Потебни менялось, что прослеживается уже в ранних его статьях: он колеблется между безусловной их поддержкой в «Воскресении слова» (1914) и полным отказом от них в статье «Потебня» (1916). В исследовании теорий Потебни Джон Физер показывает, что иногда формалисты нарочито неверно интерпретировали идеи ученого, замалчивая тот факт, что его труды предвосхитили как минимум часть критики, которую они ему предъявляли (notably, with regards to the topic of obraz, or image contained within the word). См.: Fizer J. Alexander A. Potebnja’s Psycholinguistic Theory of Literature: A Metacritical Inquiry. Harvard: Harvard University Press, 1988. Р. 75–76, 124–132. Прекрасный анализ теории «внутренней формы слова» у Потебни, показывающий, что она берет начало из гумбольдтовской теории «внутренней формы языка» (innere Sprachform), см. в: Seifrid T. The word made self: Russian writings on language, 1860–1930. Ithaca: Cornell University Press, 2005. Р. 66–73. См. также изучение связей Потебни с немецкой философской традицией у Ренате Лахманн в главе «Семантика внутренней формы слова (Потебня)» в ее книге: Lachmann R. Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism / Trans. R. Sellars, A. Wall. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. Заметки о связи Потебни и формалистов есть в книгах: Эрлих В. Русский формализм: история и теория / Пер. А. Глебовской. СПб.: Академический проект, 1996, и в Cassedy S. Flight from Eden: the Origins of Modern Literary Criticism and Theory. Berkeley: University of California Press, 1990.
[Закрыть] Александра Потебни, которую Шкловский изучал, выстраивая свои идеи о поэтическом языке.
В теории Потебни, на которую оказала влияние философия языка Гумбольдта и Штейнталя, термин «внутренняя форма слова» относится к этимону данного слова – его семантическому ядру, выделяющему определенную особенность внутри более широкого семантического поля слова: например, Потебня пишет, что корень «стл» в русском слове «стол» тот же, что и в слове «стлать» (постилать, раскладывать), и значение «стлания» оказывается общим знаменателем для многообразия объектов, которые могут быть названы словом «стол», вне зависимости от их формы и материала, из которого они сделаны142142
Потебня А. Мысль и язык. С. 74.
[Закрыть]. Благодаря метафоризации внутренняя форма может использоваться для обозначения ряда понятий; отсюда следует появление этимологических когнатов. Потебня представляет внутреннюю форму как некий вид изменчивой связи между идеей, имеющейся у человека в голове («содержание») и того звукового образа («внешняя форма слова»), который он выбирает как носитель определенного языка. Он пишет: «внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль»143143
Там же. С. 74.
[Закрыть]. Другими словами, внутренняя форма выступает в качестве призмы, сквозь которую человек смотрит на тот феномен, который он хочет назвать, и он может ощутить эту призму при помощи интроспекции. В кантианской терминологии Потебни, внутренняя форма слова «есть для говорящего средство понимать себя, апперцепировать свои восприятия»144144
Там же. С. 100.
[Закрыть]. Следующий отрывок из Гумбольдта Потебня использует для того, чтобы объяснить отношение выбранного звука к целому комплексу сенсорных и когнитивных элементов, формирующих данный феномен в сознании человека:
Человек стремится придать предметам, действующим на него множеством своих признаков, определенное единство, для выражения коего (um ihre (dieser Einheit) Stelle zu vertreten) требуется внешнее, звуковое единство слова. Звук не вытесняет ни одного из остальных впечатлений, производимых предметом, а становится их сосудом (wird ihr Träger) и своим индивидуальным свойством, соответствующим свойствам предмета, в том виде, как этот предмет был воспринят личным чувством всякого, прибавляет к упомянутым впечатлениям новое, характеризующее предмет145145
Этот отрывок Потебня (с. 100) приводит из работы Гумбольта Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die Entwicklung des Menschengeschlechts (см.: Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / Рус. пер.: А. А. Алексеев, В. В. Бибихин, В. А. Звегинцев, С. А. Старостин. М.: Прогресс, 1984. С. 51–162). Оригинал на немецком процитирован Потебнёй.
[Закрыть].
Ключевая проблема здесь в том, что предмет в том виде, в котором он «был воспринят личным чувством всякого» – это поток впечатлений, в то время как имя, которое человек дает феномену, ограничивает все эти оттенки восприятия единым понятием.
В своих эссе «Искусство как прием» (1917) и «Потебня» (1916) Шкловский обвиняет Потебню в приравнивании внутренней формы слова к некому ясному визуальному образу. По мнению Шкловского, Потебня видел задачу поэзии в том, чтобы восстановить эти образы, или первоначальные метафоры, внутри слов, выхолощенных бытовым употреблением. Шкловский критикует Потебню за то, что тот не учитывает множества возможных способов, которыми слова могут повлиять на воспринимающего, и вместо этого сводит силу воздействия художественного слова к перцепции готовых образов. Шкловский действительно был прав, утверждая, что Потебня зачастую пренебрегал акустическим, артикуляционным и ритмическим аспектами поэтического языка и выделял единичное слово до такой степени, что не замечал, что в поэзии слово производит поэтический эффект не само по себе, но в сочетании с другими словами146146
Таковы ключевые возражения Шкловского, высказанные в эссе: Потебня (1916) // Поэтика: Сб. по теории поэтического языка. 2‑е изд. С. 3–6).
[Закрыть]. Однако в пылу полемики Шкловский забыл отдать Потебне должное за то, что последний привнес в русскую литературную и лингвистическую теорию способ осмысления семантики слова как текучего континуума, активируемого ассоциативными процессами в сознании говорящего на том или ином языке. По мысли Потебни,
Как отмечает Джон Физер, внутренняя форма слова была для Потебни некой формой, которая должна быть заполнена ускользающими смыслами; это посыл, который задает направление мысли говорящему на данном языке148148
Fizer J. Alexander A. Potebnja’s Psycholinguistic Theory of Literature. P. 127.
[Закрыть]. С другой стороны, это также минимальная единица смысла – сплав звука и значения, распознаваемый говорящими на данном языке и способный вызывать в их сознании ощущение конкретного феномена, породивший первичную метафору, заложенную в этимологии слова. Механизм этого вызывания Потебня нигде не объясняет, поэтому легко неверно истолковать его теорию «внутренней формы слова» как мистический поиск вечной платонической идеи или в лучшем случае как восстановление «ясности и простоты» идеи в локковском и картезианском смысле. Однако важно отметить, что для Потебни «чувственный образ», вызываемый внутренней формой слова, не во всех случаях является изображением: это необязательно визуальная идея или иконический знак, ведь Потебня не настаивает на объективном сходстве с обозначаемым феноменом. При этом Потебня хотел показать, что выбор названия для конкретного феномена не полностью произволен и что за этим процессом просматривается некая логика. Ее определяет наша лингвистическая компетенция, словарный запас и когнитивные операции, отвечающие за создание метафор. Больше всего Потебню интересовала актуализация мысли в речи, и он прекрасно понимал, что это непрекращающийся процесс. Так, например, когда Вячеслав Иванов поддержал критическое заявление Шкловского о том, что поэзия не может, как Потебня якобы считал, сводиться к «мышлению образами», так как «до образа был звукообраз»149149
Высказывание из лекции Вячеслава Иванова в Баку, цитируемое Ефимом Эткиндом в: Etkind Е. Vjaceslav Ivanov et les questions de poétique. Années 1920 // Cahiers du monde russe: Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants. 1994. № 35.1–2. P. 148.
[Закрыть], поэт не понимал, что он не опроверг, а подспудно подтвердил ключевое положение идеи Потебни.
Оценить огромный вклад Потебни в русское языкознание в начале XX века можно, если задуматься о том, как его концепция внутренней формы, а также и размышления над семантическим потенциалом слова проявились в столь разных текстах, как символистические статьи Андрея Белого и работы Густава Шпета и Алексея Лосева по феноменологии языка. Можно также предположить, что эксперименты Хлебникова со «внутренним склонением слов» и «сплетами звуко-букв» движутся в русле, проторенном Потебнёй, хотя в данном случае сложно говорить о прямом влиянии150150
Гарбуз А. В., Зарецкий В. А. К этнолингвистической концепции мифотворчества Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова: Статьи, исследования (1911–1998). М.: Языки русской культуры, 2000. С. 331–347.
[Закрыть]. По точной характеристике Тынянова, Хлебников «оживлял в смысле слóва его давно забытое родство с другими, близкими, или приводил слово в родство с чужими словами»151151
Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 168–195.
[Закрыть]. Другой футурист, Бенедикт Лившиц, называл языковое искусство Хлебникова иллюстрацией теорией Гумбольдта о языке как творении – с тем лишь отличием, что Гумбольдт говорил о процессе, включающем в себя коллективное бессознательное целого народа, в то время как Хлебников совершал акты лингвистического творения самостоятельно152152
Livshits B. Gileia. New York: M. Burliuk, 1931. P. 11.
[Закрыть]. С. Третьяков указывает, что Хлебников
По мнению Третьякова, Хлебников был одержим задачей
отыскать за официальным корнем нашего обиходного слова его прародителя – пра-корень, найти основные звучания, выражающие основные движения человеческой психики, которые видоизменяясь, создают хаотические россыпи слов нашего языка, – уловить организационный принцип, по которому видоизменяются, превращаются слова154154
Там же.
[Закрыть].
Мандельштам утверждал, что Хлебников вдохнул новую жизнь в века русской литературы благодаря тому, что его поэзия «погружается в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную сердцу умного читателя»155155
Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2 / Ред. А. Мец, Ф. Лёст. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 67–68.
[Закрыть]. В том же эссе, «О природе слова» (1922), Мандельштам предлагает взгляд на поэтический язык, соотносящийся с теорией Потебни156156
О том, как Мандельштам осмыслял теории Потебни, см.: Ronen O. An Approach to Mandel’shtam. Bibliotheca Slavica Hierosolymitiana. Jerusalem: Hebrew University Magness Press, 1983. P. 78–79.
[Закрыть], утверждая, что существует сложная, систематическая связь между значением слова и его «звучащей природой» – связь, которую поэт может исследовать и использовать157157
Мандельштам О. Указ. соч. С. 78; см. также: Мандельштам О. Слово и культура // Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 53.
[Закрыть]. В статье «Слово и культура» (1921) Мандельштам развивает идею Потебни о том, что слово неожиданным образом может указывать на несколько референтов благодаря своему многогранному звуковому образу. Он также использует термин «внутренняя форма слова» подобно тому, как Шкловский описывал шум, предвещающий воплощение поэтического высказывания, в своей статье «О поэзии и заумном языке» (1916). «Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение, – пишет Мандельштам. – Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта»158158
Мандельштам О. Слово и культура. С. 53–54.
[Закрыть].
Здесь проходит та же линия размышлений, которую Мандельштам наметил в стихотворении «Silentium» (1910) – «Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись» – которое, в частности, цитирует Шкловский в «О поэзии и заумном языке»159159
Шкловский В. О поэзии и заумном языке. С. 22.
[Закрыть]. Мандельштамовская концепция «внутреннего образа» приглашает поэта искать и исследовать ассоциации, навеваемые звуками слов. Подобный феномен символисты описывали как «звукосимвол», а формалисты (Брик, Якобсон, Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум и др.) называли его «звуко-образом» в своих анализах фоносемантики стиха160160
По мнению Светликовой (с. 73), Якобсон утверждал, что термин «звукообраз» предложил Осип Брик. Основываясь на эссе Шкловского 1916 года о заумном языке, можно предположить, что термин «звукообраз» в лексиконе формалистов произошел от Вундтовского Lautbilder (звуковые картинки).
[Закрыть].
Термин Шкловского «звукоречь» зародился именно в этом контексте. Хорошим примером того, как формалисты использовали этот термин может служить комментарий Тынянова к стихотворению Пастернака «Поэзия» (1922). Тынянов пишет, что стихотворение Пастернака состоит из «почти бессмысленной звукоречи», но тем не менее поразительным образом устанавливает параллель между падающим дождем и стихосложением161161
Тынянов Ю. Промежуток. С. 183.
[Закрыть]. Это замечание Тынянова относится к следующему четверостишию:
В этом четверостишии Пастернак не только сплетает сеть аллитеративных перекличек в каждой строке, но также использует слова таким образом, чтобы они напоминали о других словах, чья семантика связана с «дождем». Например, благодаря появлению слова «ливень» в первой строке следующим за ним глагол «грязнуть» тут же заставляет вспомнить его когнат «грязь», в то время как «кропать» напоминает о другом, не связанном с ним семантически слове «крапать». Таким образом, несмотря на отсутствие прямого сравнения дождя с процессом стихосложения, параллель устанавливается благодаря тому, как автор выявляет в звукоообразах данных слов эхо других значений. «Слово», говорит Тынянов, интерпретируя Пастернака, «смешалось с ливнем <…>; стих переплелся с окружающим ландшафтом, переплелся в смешанных между собою звуками образах»163163
Тынянов Ю. Указ соч. С. 183.
[Закрыть].
Непереводимость стихотворения Пастернака на английский демонстрирует то, что формирование звукообразов, которые разбирает Тынянов, во многом зависит от уровня знакомства читателя с лексиконом данного языка. Так, то, как слово «крапать» таится в слове «кропать» – это каламбур, понятный лишь носителю русского языка; это звукообраз, появляющийся именно из «стихии языка», как сказал бы Вячеслав Иванов, а не из каких-то общечеловеческих психологических установок. Возможно, универсальным звукообразным элементом в этом четверостишии является ритмическое повторение звуков почти в каждой строчке стихотворения (долго, долго, до; кропают, кровель, акростих), которое передает ощущение настойчивости и монотонности капель дождя независимо от семантики слов. Однако вопрос, поставленный нами, все еще уместен: как связаны звукообразы (будь они основаны на игре слов или на ритмических повторах) с аффектами? Как таким теоретикам, как Шкловский и Вячеслав Иванов, удается перескочить от звуков к «стихии эмоций»? Чтобы ответить на этот вопрос, важно отметить, что в 1900–1910‑е годы вопрос о том, как чувственные ощущения доходят до нашего сознания и образуют ассоциативные ряды, находился в ведении психологии. Когда Шкловский использует слово «эмоции», по-видимому, он имеет в виду психологические процессы, которыми сопровождается чувственное восприятие: то, как запускаются цепочки ассоциаций и другие виды когнитивной переработки информации, а также рефлекторные реакции тела. Влиятельный источник рубежа веков, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890–1907), не дает определения термина «эмоции», но перенаправляет читателя на его якобы синоним, «чувствования». Эта статья, подготовленная философом Иваном Лапшиным, приводит три различных определения:
1) «Ощущение», производимое органами чувств. Это слово, которым обозначали «чувство», или «чувствование» (sens, sentiment) Декарт, Мальбранш, Боссюэ, Локк, Кондильяк и др.;
2) для материалистов «чувствование» неразрывно связано с реакцией на раздражитель; так, для Карла Ланге «эмоции» не отличаются от телесных изменений, которые их сопровождают;
3) «чувственный тон», или «оттенки приятности или неприятности», сопровождающие ощущения и представления.
Далее в статье Лапшин размышляет о роли аффектов и «чувственных тонов» в познавательных процессах: «памяти», «творческом воображении» и «мышлении»164164
Лапшин И. Чувствования // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Основано на издании 1890–1907 гг. CD-ROM. IDDK Media Project / Ред. М. Злоказов, Е. Александрова, В. Белобров. М.: Адепт, 2002.
[Закрыть].
То, как в этой энциклопедической статье начала века «эмоции» и «чувствования» связываются с умственными процессами, базирующимися на чувственных ощущениях и телесных реакциях (согласно теориям Карла Ланге и Уильяма Джеймса), помогает лучше понять использование этого термина в текстах Шкловского. Если сегодня мы употребляем слово «эмоция» для душевных состояний, таких как грусть или радость, то авторы рубежа веков подразумевали под этим термином всю полноту психофизиологической реакции, вызванной чувственным стимулом. Не случайно первый русский перевод книги Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», опубликованный в Санкт-Петербурге в 1872 году, передавал термин «emotion» как «ощущение» (в переводе книга называлась «О выражении ощущений у человека и животных»)165165
Дарвин Ч. О выражении ощущений у человека и животных / Ред. А. Ковалевский. СПб.: Тип. Ф. С. Сущинскаго, 1872.
[Закрыть]. Как показала Эмма Уиддис, «ощущение» было ключевым концептом модернистских эстетических теорий в России166166
Widdis E. Op. cit. Р. 5.
[Закрыть]. Интерес к «ощущению» питал импрессионистскую эстетику символистов, направленную на исследование самого акта восприятия как такового, и его воспроизведение в поэтических звуках и художественной композиции. Позднее, начиная с футуристов, импрессионистская фаза уступает место более активной, преобразовательной работе с «материалом», когда художники осознанно ищут способов усилить «чувственное восприятие материала» публикой, обновить отношение аудитории к изображаемым вещам167167
Ibid. P. 2.
[Закрыть]. Знаменитая концепция «остранения» из статьи Шкловского «Искусство как прием» (1917) заявляет именно об этой цели. В 1920‑е советские режиссеры-авангардисты и дизайнеры-конструктивисты ориентировались на «ощущение», отбирая и организуя «фактуру» материала для того, чтобы добиться активного, реформаторского отношения аудитории к окружающей действительности168168
Ibid. См. также: Kiaer C. Imagine no Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge, MA: MIT Press, 2008; Gough M. Artist as Producer Russian Constructivism in Revolution. Berkeley: University of California Press, 2014.
[Закрыть].
Данный контекст проясняет, что имел в виду Шкловской, утверждая, что «звукообразные слова имеют своими ближайшими соседями «слова» без образа и содержания, служащие для выражения чистых эмоций»169169
Шкловский В. О поэзии и заумном языке. С. 17.
[Закрыть]. Один из примеров, который Шкловский приводит, чтобы проиллюстрировать рождение звукообраза из эмоции, – отрывок из романа Кнута Гамсуна «Голод» (1890):
Я стою и смотрю ей прямо в глаза, и в мозгу моем вдруг проносится имя, которое я никогда раньше не слыхал, имя, звучащее каким-то скользящим нервным звуком: «Илаяли»170170
Там же. О Гамсуне см. комментарий Янечека и Майера к статье Шкловского: Shklovsky V. On Poetry and Trans-Sense Language / Trans. and ed. G. Janecek and P. Mayer // October. 1985. Vol. 34. № 3. P. 10.
[Закрыть].
Шкловский обращает внимание на то, как поразительное впечатление перерабатывается сознанием в речь. Рождается новое слово, и его значение близко связано с субъективным опытом данной ситуации у говорящего. Шкловский подчеркивает, что у «Илаяли» нет определенного значения; оно включает в себя всю сложность психических реакций, которые проживает говорящий и таким образом не может быть сведено к четкому образу. «Илаяли» – это чистая иннервация, переведенная в ментальный звук.