Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
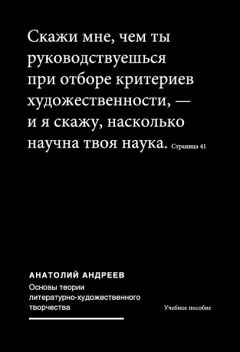
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3.3. Нелитературный смысл литературного события
Что можно считать литературным событием, которое становится основой сюжета и, следовательно, способом структурирования субъекта(ов) сознания в произведении?
Литературным событием можно считать такого рода происшествия (коллизии, случаи, истории), которые обнаруживают или меняют мироощущение и, следовательно, в той или иной степени мировоззрение персонажей. Сдвиги на уровне мироощущения, так или иначе затрагивающие основы миросозерцания (душевные переживания, приводящие к работе мысли – к изменению «картины мира»), – вот сверхзадача событий. Их функция – дать работу или, иначе, пищу душе и уму. Душа, как водится, занята переживаниями, а ум «приводит в чувство» героя, то есть приобщает к неким мировоззренческим матрицам или моделям (системам ценностей), сообщающим душе иной модус переживаний уже духовного свойства. Происходит тот самый катарсис, включающий в себя психо– и логотерапию. В плане личностном – духовное взросление, если угодно. В плане эстетическом событие становится сюжетом и одновременно структурой персонажа. Не случайно большинство произведений мировой литературы начинаются с указания на произошедшее или намечающееся событие. Формул подобных зачинов множество: «однажды», «это было», «после того», «помню» и так далее. Само повествование предполагает событийный дискурс. Невозможно повествовать и при этом избегать событийного ряда. Даже если ничего не происходит – это тоже своего рода событие.
Таким образом, качество события определяет качество духовной жизни персонажа (хотя существует и обратная закономерность: экзистенциальным событием может стать только то, что соотносится с духовными проблемами героя). Скажи мне, что тебя волнует, и я скажу, кто ты.
Проиллюстрируем данный тезис разбором двух рассказов, принадлежащих американскому и русскому классикам, которые (рассказы) являются, с моей точки зрения, репрезентативными в «событийном» отношении, а значит, и в отношении ментальных парадигм, во многом определяющих специфику западной и русской литератур.
Один из лучших рассказов Эрнеста Хемингуэя «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» великолепно демонстрирует нам весьма противоречивую закономерность: чем более мироощущение «субъекта сознания» (персонажа, системы персонажей, восходящих к универсальной для данной картины мира смысловой точки отсчета – образа повествователя) в произведении тяготеет к формату миропонимания (мировоззрения), тем выше потенциал художественности. Именно в «западной» литературе проблемы морально-волевого характера (классика мироощущения с элементами миросозерцания) часто принимаются за собственно духовные (мировоззренческие, философские). По крайней мере, между ними не проводится принципиальной границы, которая в реальности, тем не менее, существует.
Что случилось с героем рассказа Фрэнсисом Макомбером, тридцати пяти лет от роду, человеком богатым, светским и потому разнообразящим жизнь, в которой ничего не происходит, набором известных развлечений с «элементами приключения», в частности, охотой в Черной Африке, леденящим душу горячим сафари?
Он испытал потрясение, связанное с неким «человеческим» открытием. Случившееся описывается повествователем и тремя главными персонажами, но не квалифицируется по сути, словно некое таинство или обряд посвящения в «избранные».
Напомним: сначала Макомбер, согласно контрактным обязательствам опекаемый профессиональным охотником Робертом Уилсоном, у которого были «равнодушные голубые глаза, глаза пулеметчика», охотился на льва, и Макомбер испугался, публично проявил себя трусом и пережил позор; а на следующий день они охотились на буйволов, которые были даже опаснее львов, и Макомбер не испугался. Чему сначала удивился, а потом…
«Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь, – сказал Макомбер Уилсону. – Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение. (…) Право же, во мне что-то изменилось, – сказал он. – Я чувствую себя совершенно другим человеком». (Рассказ в переводе М. Лорие цитируется по изданию: Хемингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце). Прощай, оружие! Романы; Старик и море: Повесть; Рассказы. – М.: Худ. лит., 1988)
Целых два случая, которые легко объединяются в одно событие.
В ответ Уилсон под бдительным и сочувственным присмотром повествователя поделился с Макомбером своей немудреной философией, привлекательной именно своей «фундаментальной» простотой. Бывший пулеметчик процитировал Уильяма Шекспира (!): «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Кредо храбреца: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это не что иное, как вариации с ироническим уклоном на знаменитую героическую тему: «Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения (…). Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» («Старик и море», там же, пер. Е. Голышевой и Б. Изакова)
«Он (Уилсон – А.А.) очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, – вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. (…) Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. (…) Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, его точно вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха».
Фрэнсис Макомбер не унимался:
«– Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? – спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.
– Об этом, как правило, молчат, – сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера. (…)
– Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?
– Да, – сказал Уилсон. – И точка. Нечего об этом распространяться. А то можно все испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает».
Что касается Маргарет Макомбер – Марго, жены Френсиса, – то она отреагировала на событие в жизни мужа весьма своеобразно, следуя, однако же, логике, а не капризу. Когда муж на ее глазах «удрал, как заяц» (слова самого Фрэнсиса), увидев искалеченного им же льва, она хладнокровно и цинично выжала из ситуации максимум – сделала все, чтобы окончательно унизить его и растоптать в прах. Не откладывая дела в долгий ящик, Марго изменила мужу с «прекрасным краснолицым мистером Уилсоном», который не брезговал избалованными и обольстительными американками, после чего преспокойно объявила об этом мужу, назвав его трусом; она ни секунды не сомневалась, что Фрэнсис Макомбер все стерпит, не бросит ее, а он, в свою очередь, вынужден был смириться с тем, что так оно и будет.
Марго вела себя с позиции силы, а Макомбер был деморализован и раздавлен, по-женски закатывая истерики собственной жене. «Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж – последний трус?» – задается вопросом Уилсон. И сам же себе отвечает: «Жестока она до черта, – впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким».
Сила, власть, жестокость – вот ключевые слова, определяющие поведение Марго.
Но когда на следующий день Фрэнсис Макомбер вдруг перестал бояться, когда в нем «что-то произошло» и он стал «совершенно другим человеком», мужчиной, который почувствовал свою силу и неудержимо рвется в бой – тогда Марго откровенно занервничала. С ней тоже «что-то произошло». «Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела».
Когда стало ясно, что недобитый буйвол ушел в чащу, Марго оживилась: «Значит, теперь будет точь-в-точь, как со львом».
Но случилось совсем иначе: Фрэнсис Макомбер действительно изменился.
Вчера Макомбер «в безумном страхе» «бежал сломя голову» от раненого льва, а сегодня ему и в голову не пришло сдвинуться с места в то время, когда на него неслась «черная глыба» разъяренного раненого буйвола – «ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед, – нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки».
Он хладнокровно расстреливал буйвола, который «громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой». «Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть выше, чем нужно, – в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из маннлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку».
В новеллистической концовке инициативу берет на себя (то есть проявляет силу) прекрасный, жестокий мистер Уилсон:
«– Ну и натворили вы дел, – сказал он совершено безучастно. – А он бы вас непременно бросил. (…) Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.
– Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! – крикнула женщина.
Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.
– Больше не буду, – сказал он. – Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.
– О, пожалуйста, перестаньте, – сказала она. – Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.
– Так-то лучше, – сказал Уилсон. – Пожалуйста – это много лучше. Теперь я перестану».
Почему Марго, укрощенная Уилсоном, тут же поставленная твердой мужской рукой на свое место в природной иерархии, убила Фрэнсиса?
Потому что сила, власть и, не исключено, жестокость на глазах Марго угрожающе становились характеристиками слабака Фрэнсиса.
Произошедшее с Макомбером можно охарактеризовать так: он обрел силу и уверенность, что сразу же почувствовала женщина. Где сила – там и достоинство. А где достоинство, там гибель Марго. Сильный подчинит и, не исключено, бросит слабого. Вот почему силе она также – не ею заведено! – противопоставила силу (разумеется, в форме женской «слабости», вероломного коварства). Выживает сильнейший. А у слабейшего, в данном случае у самца, – оказался проломлен череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.
Счастье Фрэнсиса Макомбера действительно было недолгим. Но оно было. Что же все таки случилось, каким было содержание счастья, о котором, «как правило, молчат»?
Обратим внимание: сдвиги на уровне мироощущения случаются у героев Хемингуэя не просто «на природе», а в контексте неукротимой стихии, будь то море, акулы, львы или буйволы. Человек, продукт природы, практически не выделяется из нее – и противостоит ей в качестве все того же природного начала. Победить природу нельзя, но можно продемонстрировать свою силу – а это уже означает, что и человек, плоть от плоти природы, непобедим.
То, что случилось с Фрэнсисом Макомбером, произошло на уровне физическо-психологическом, морально-волевом – не на духовном уровне, что принципиально. Наш герой ведь, по сути, немногим отличается от того же буйвола, льва или краснорожего мистера Роберта Уилсона с равнодушными глазами, который, подобно всем плотоядным, убивает «все, что угодно», испытывая нечто вроде жалости только к недобитым животным. Макомбер учится у природы – учится быть сильным. Чему же еще может научить природа? Быть сильным – и точка. Не случайно в рассказе целый эпизод рассмотрен с «точки зрения льва», и достоинство «замечательного льва» состояло в том, что животное можно было уничтожить, но его нельзя было победить.
Все это проще прочувствовать, нежели выразить словом – отсюда такая неприязнь Роберта Уилсона к попытке Макомбера осмыслить событие, перевести мироощущение в формат мировоззрения. «Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает». Удовольствие бессловесных – внутреннее ликование, огромное наслаждение, горящие глаза и раздутые ноздри. Удовольствие выражают уши, лапы и хвосты. Слово – это уже культура, в которой бывший пулеметчик, застенчиво цитировавший Шекспира, не силен.
Таким образом, точкой отсчета в рассказе Хемингуэя – и, как представляется, в западной литературе в целом – выступает не личность, не целостно организованная система духовных ценностей человека культуры, homo sapiens`а, а система ценностей человека цивилизации, homo economicus`а, где главным цементирующим началом является культ силы, закон джунглей: кто силен – тот и прав. Коротко говоря, точкой отсчета выступает не персоноцентризм, а индивидоцентризм.
В этой связи отметим только одну неточность у Хемингуэя: люди, подобные Фрэнсису Макомберу, не могут испытывать счастья; они испытывают удовольствие. Счастье – категория не натуры, а культуры. Точно так же нельзя сказать, что раненый лев испытывал несчастье: «почувствовав удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30-0,6, которая впилась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок», «он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена». «Все в нем – боль, тошнота, ненависть и остатки сил – напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание – напасть, как только люди войдут в высокую траву». Замечательный лев. Не хуже той меч-рыбы, на которую охотился старик Сантьяго, которому снились львы.
В лучших образцах русской литературы дело обстоит иначе – не со львами, конечно, с людьми. Да и то не со всеми – с избранными.
Событие в чеховском рассказе «Скучная история» имеет принципиально иную информационную природу – уже не индивидо-, а персоноцентрическую. Не психологическую (морально-волевую), которая маскируется под духовную, а духовную, культурно-философскую, которая реализует себя через морально-социальную и психологическую составляющие. В центре рассказа не охотник, доказывающий себе, что его можно уничтожить, как льва, но не победить, а личность, познающая себя – посредством концептуального слова, а не маннлихера. Есть разница. У Хемингуэя точка отчета натура, у Чехова – культура. Потенциал художественности в предложенной А.П. Чеховым «картине мира» на порядок выше того, который с несравненным блеском воплощен Э. Хемингуэем. Удалось ли Чехову реализовать потенциал – это уже совершено другая «история», которой мы коснемся лишь отчасти.
Рассказ имеет многозначительный подзаголовок: «Из записок старого человека». Не то важно, что перед нами «заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер», с «самым аристократическим знакомством»; «с моим именем», – честно и просто повествует рассказчик, – «тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый». (Произведение цитируется по изданию: Чехов А.П. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4. – М., «Правда», 1970. Курсив в цитатах мой – А.А.)
Гораздо более важно другое: перед нами старый, поживший человек, а не просто заслуженный ученый. Если угодно, перед нами вариант притчи о «старике и море», только «море» в данном случае не природная стихия, кишащая акулами dentuso, а метафора – море культуры. Культурная стихия, укротить которую пытается личность.
И вот перед нашим мысленным взором разворачивается удивительная притча о «несомненно полезном» человеке, который умудрился прожить бесполезную и бесцветную жизнь. Точка отсчета в этой странной истории – социоцентризм, героический типаж, скопированный с доблестного Пржевальского. «Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть». И далее: «Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо». Имя счастливо – а человек нет. В конце рассказа Николай Степанович с горькой иронией заметит: «грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло».
В сущности, рассказ о том, как «Пржевальский», «Николай Степанович такой-то», превращается в нечто противоположное себе – и это подано повествователем как несомненный духовный прорыв, взлет и пик быстротекущей жизни. Главный экзамен в жизни заставила держать «заслуженного профессора» не наука и не Россия, а Катя, его приемная дочь и бывшая актриса, ленивая, праздная и «бесполезная» женщина. Точнее, те «новые» мысли, которые возникли у старого, умирающего человека не в последнюю очередь под воздействием Кати. «Новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты». Что это за новые мысли? (NB: новые мысли! Рассказ начинается акцента на миропонимании, которое срастается с новым мироощущением.)
В рассказе Чехова «Печенег» буднично просто, бегло отмечено (от лица главного героя): «Имеет человек в жизни зацепку – и хорошо ему». Такой зацепкой для Николая Степановича стала наука: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу». Не случайно до университета Николай Степанович учился в семинарии. От веры – к науке: таков путь к духовной зрелости.
Кстати говоря, с точки зрения духовной технологии Роберт Уилсон и вслед за ним Фрэнсис Макомбер – типичные «зацепочники». Блажен, кто верует… Есть вера – будут надежда и любовь. Вера, сдобренная аргументами и фактами (что дает, в результате, идеологию), позволяла игнорировать жизнь, не замечать реальность. Вот цена, которую пришлось заплатить за «счастливое имя» в науке. Новые мысли разрушили прежнюю веру.
Оказалось, что за то время, пока он наслаждался верой, жена превратилась в «старую, очень полную неуклюжую женщину, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне»; сын и дочь оказались «не героями», нагло тянущими из знаменитого отца деньги и заставляющими тайного советника «мучительно краснеть оттого, что должен лакею». «Подобные мысли о детях отравляют меня». Оказалось, что коллеги и студенты – чаще всего ничтожества, и полезная деятельность в университете, которой по праву гордился скромный Николай Степанович, вовсе не так уж и полезна. «Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики?» – язвительно замечает Катя. «Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний».
«Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений (веры – А.А,), то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен?» – рассуждает Николай Степанович совсем уже не как герой и подвижник, а как скептик и философ. «Просто у вас открылись глаза, вот и все», – безжалостно резюмирует Катя. «Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать».
Лишний – это подвижник по натуре, у которого открылись глаза. Честен социоцентрически ориентированный подвижник до тех пор, пока глаза его закрыты, пока он слеп и равнодушен к истине, довольствуясь полезной деятельностью. А вот теперь извольте принять к сведению всю сложность и неоднозначность мира – принять иную веру, не отвергая прежних убеждений. Естественным результатом сшибки ценностных ориентиров становится та самая рефлексия, с помощью которой ставится диагноз – «отсутствие определенной цели в жизни». Если уж кому-то очень не нравятся «лишние», нехорошие люди, следует назвать вещи своими именами до конца: хороший человек, полезный человек – это слепой, верующий человек, не расположенный рассуждать. Лучшее лекарство от рефлексии – подвижничество, а от подвижничества – рефлексия. То самое слово, которое так не нравится ни героям, ни охотникам.
Смотрите, как просто на наших глазах именитый профессор превращается в несчастного человека, его великолепное житие – в скучную историю, полезное подвижничество – в никому не нужную рефлексию. «Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией (сделанной под героическую по своей сути идею долга – А.А.). Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал». Учитель, ученый, гражданин – общественное, внеличностное измерение персоны – портит финал сделанной жизни. Чем, спрашивается, портит финал Николай Степанович?
А тем, что задумался, встал на скользкую стезю тех, кто спрашивает: зачем? почему? какой тут смысл? Тем, что из государственного мужа превращается просто в свободную, следовательно, лишнюю, с точки зрения общественных функций, личность. Персоноцентрической установкой «портит» классический социоцентризм. «Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно», – никак не может смириться с утратой веры былой подвижник, обвиняя во всех своих бедах бедную, но очень умную Катю.
Обратим внимание: герои Хемингуэя взыскуют социоцентризма, даже не догадываясь об этом или стесняясь этого (отсюда – трагическая ирония), а для героя Чехов социоцентризм – пройденный этап. Получается диалог цивилизации и культуры, homo economicus`а и homo sapiens’a – диалог неразумного с разумным, хотя кажется, что слепого с глухим. Рассказ «Скучная история» хорош именно тем, что предлагает взамен двух плоскостей «подвижник» – «лишний» (жизнь или финал) гораздо более тонко нюансированную систему координат, которая сказывается на общем смысле. Злорадствовать по поводу испорченного финала жизни – это уже цинизм, умудриться не испортить финал – глупость, сожалеть о том, что это неизбежно, «нужно» – умный стоический скепсис; но подлинная мудрость с болью воспринимает неизбежность испорченного финала. Мудрость – это рефлексия по поводу того, что «подвижники нужны, как солнце» и одновременно по поводу того, что финал их жизни будет печален, испорчен. «Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение», – роняет бесценное наблюдение, в сущности, credo, Николай Степанович в своей исповеди. Унылое чувство, боль и нравственный рост – это и есть итог размышлений, прямое следствие культуры. Жизнь – не интеллектуальный ребус и не композиция из кубиков, которую надо доделать в соответствии с неким заданным генеральным планом. Жизнетворчество предполагает познание себя, а не подгонку себя под всеми одобряемый героический аршин.
И вот – финал финала. Тайный советник тайно едет справиться о положении своего будущего зятя, у отца которого в Харькове, якобы, дом, а под Харьковом, будто бы, имение. Разумеется, в Харькове о будущем муже дочери никто и слыхом не слыхивал. Да это уже стало и не важно, поскольку дочь тайно обвенчалась с проходимцем…
Здесь интересен не столько ряд бытовых событий, сколько реакция на них Николая Степановича, то есть превращение события нелитературного в литературное. Он «оравнодушел ко всему». Сначала он активно возражает Кате, потом злословит, «как жаба», а теперь вот – пришло равнодушие. «Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть».
Равнодушие – это та грань, за которой человек может сколько угодно изощрять свой ум в скептицизме и цинизме, но он перестает уже совершенствоваться как человек. Ум в невозможном сочетании с совестью – подвижник, понимающий бессмысленность подвижничества, но стоически превозмогающий бремя познания, не желающий превращаться в «жабу» – вот духовный предел той концепции личности, которая явлена нам в этом рассказе. Защита от подобного абсурда – ирония, что ж еще.
А дальше – беспристрастный самоанализ, рефлексия, только не как оправдание бессилия своего и равнодушия, а как беспощадный диагноз: «И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека.
А коли нет этого, то, значит, нет и ничего».
«Нет чего-то главного», «чего-то общего», «целого», «общей идеи», «бога живого человека»… Обратим внимание: не «зацепка» отсутствует, а «общая идея». Николай Степанович не унизился до зацепки. «Я побежден», – безо всякой иронии выносит он себе приговор.
И вот последняя сцена, окончательно превращающая жизнь живого и очень умного человека, обладающего тонкой душевной организацией, в скучную историю. Катя, попавшая в сложную жизненную ситуацию:
«– Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?
– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу.
– Говорите же, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь вам что я не могу дольше так жить! Сил моих нет! (…)
– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?
– По совести, Катя: не знаю…»
Это ответ не Кате, а читателям, потому что это ответ самому себе. Разброс мыслей и чувств, неумение сконцентрироваться на одном и главном, осознается как слабость и поражение. Ум, образованность, опыт, даже опыт подвижничества, не спасают, если в душе нет веры. Это подвижник судит скептика; последний же, понимая, что прав, испытывает тем не менее пронзительное чувство вины перед подвижником за то, что лишил его смысла, а значит защиты перед жизнью. Типичный комплекс мудреца: истина убивает веру, если вера не становится истиной. Бедный Николай Степанович, он еще не знает, что общая идея утроит чувство правоты и усемерит – вины… Но пока нет подобного опыта, остается перспектива: «общая идея», нечто «главное», придающее отдельным мыслям общий смысл. Если человек честно признает, что он «побежден», не все еще потеряно. Остается надежда, как ни странно. И «общее направление» обозначено: «Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах». Не очень-то похоже на равнодушие, не правда ли? «Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!» «Прощай, мое сокровище!»
Нет, не испорчен финал, а до странности усложнен. Это достойное завершение жизни старого человека, не покривившего душой. Что имеется в виду?
С одной стороны, нельзя жить без «общей идеи», и это нравственно-философский приговор идеологии («зацепке») подвижничества; с другой стороны, Николай Степанович обрел «общую идею», но как-то не заметил этого. «В одно целое» собралось то, что он мог бы назвать «богом живого человека», а именно: стоическое утверждение созидательного начала в человеке, делающее его «положительным явлением», в сочетании с екклесиастическим пониманием суетности и самой идеологии стоицизма. Старый человек не мог поделиться своим смутным сокровенным знанием с молодой Катей: по совести не знал, что ей сказать.
И все-таки ощущение, что не удается увязать все воедино не оставляет читателя. В очередной раз все списать на странность Чехова? Но это не та высокая странность, которая порождена диалектикой Еккклесиаста. Думается, отчасти ощущение объяснимо тем, что совершенство представленной (но как бы отсутствующей) «общей идеи» наложилось на несовершенство художественного воплощения. Дело в том (и это первое), что Катя – не женский, а мужской образ по сути своей, по духовному архетипу. Это философ в юбке, претендующий едва ли не на высшую точку отсчета. Это очень умозрительно и отвлеченно. Отставная актриса с мужским складом ума несколько схематична, да и невнятна по функциям. Она путает карты, смазывает кульминацию своим странным, печоринским уходом («– Куда?» «– В Крым… то есть на Кавказ.» «– Так. Надолго?» «– Не знаю»), который с большой натяжкой вписывается в общую концепцию и создает ощущение искусственности, конструктивизма, идейного излишества. Не хватает простоты и прозрачности, этих сторон глубины и отточенности. Странность как свойство глубины – это когда концы с концами сводятся воедино, в целостность.
И второе: богу живого человека недостает хемингуэевской витальности, силы жизнеутверждения, божественного легкомыслия, если хотите; бог человека оказался согбенным, пригнетенным чувством вины за всех и вся: за неустроенные судьбы, за то, что лучшие люди – жабы, за скучную историю. Бог живого человека превращается в комплекс вины, едва ли не в обычного боженьку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































