Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
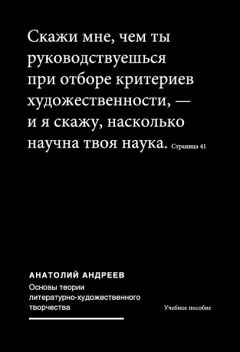
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Вопреки выраженной воле «автора» (но, смею полагать, в полном соответствии с его неозвученным тайным желанием) констатируем парадокс (назовем его правилом культуры, если угодно): разрушительное начало натуры, облеченное в культурную форму, превращается в стыдливую ностальгию по культуре. Содержанием «покоя и воли» отчасти становится недостижимая культура, презренное «счастье». Если перед вами «книга», и если в «книге» говорится о том, что на свете «счастья» нет, а есть «покой и воля», – книга все равно о том, что «покой и воля» не заменят «счастья». Обратим внимание: начал «автор» за упокой, а кончил едва ли не культурной здравицей (9):
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Что это: «покой и воля» стали моментом «счастья»? Мы двигались в направлении гармонии? Фигура Старшего Плиния, «книжника», вырастает в символ культурного стоицизма – в культуру как точку отсчета «Писем»?
Под этим углом зрения перечитаем цикл еще раз.
Нет, не стали. Не вырастает. Но что-то изменилось. В стихах все больше и больше проступает интеллектуальная игра, которая и становится, по сути, главным кодом культуры в предлагаемой эстетической парадигме, – игра как форма культурного нигилизма.
В культуре «природная» (искренняя!) честность циника не проходит, в культуре надо быть культурным: необходимо дружить со смыслами, организовывать их в соответствии с «правилами», гуманитарными законами, которые для личности «милее» всего на свете. Одиночество как способ культурного существования, попросту выживания, как форма сопротивления антикультуре – тема тонкая и коварная. Далеко не каждому она по плечу. Здесь мало хотеть как лучше. Здесь всякий поэт, которых так привлекает тема одиночества, делает выбор не между нереалистичным романтизмом и циничным реализмом, а между существенно иными категориями. Какой тип художественности мы выбираем, какую духовно-творческую установку предпочитаем: «игру со смыслами» по правилам – или «смысл в игре как таковой», где любые правила (так поэтам кажется) только мешают?
Что мы выбираем: культуру или культурную аранжировку? Как мы играем: по правилам культуры или натуры?
И. Бродский выбрал «игру со смыслами», смысл которой – в игре.
Почему же тогда игривый цикл И. Бродского «Письма римскому другу (из Марциала)», в котором своеобразно модифицированы мотивы вечных «цветов зла», стал феноменом культуры (к чему лукавить?), а сам поэт – Нобелевским лауреатом, то есть культурно коронованной особой, жрецом прекрасного?
Да потому что он выразил именно то, что выразил: нашу сегодняшнюю неуверенность в культуре, неуверенность в себе, в своем будущем. «Неуверенность в культуре» – это все же некая культурная величина, культурная ценность и в качестве таковой является нашим реальным культурным достоянием сегодня. Увы. Чем богаты, что имеем…
И эта неуверенность все же милее откровенно варварского отношения (6):
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Что верно то верно: нет пафоса созидания – будешь созидать разрушение под девизом «покой и воля».
Но спросить бы раба, почему мы так боимся не только оглядываться, но и вглядываться – не потому ли, что и впереди легко различаем все те же веками знакомые руины? Почему все «рабы природы» добровольно клеймят себя предательским credo «нет в жизни счастья»? Честно отказаться от «звезды пленительного счастья» как от романтического мифа, еще не значит расстаться с иллюзиями и «познать себя». Плиний Старший должен был бы оценить ироническую, роковую прелесть многомерной диалектики.
Отсюда, по правилам диалектической логики, следует вывод, простота и глубина которого так или иначе питает всю поэзию: или вечные руины, в прошлом и будущем, – или культурный прорыв.
То есть все таки – к звездам.
III. Специфика художественной прозы
3.1. Проза как язык культуры
Проза (от лат. prosa – прямая, свободно движущаяся речь) – 1) художественное творчество в прозе (в отличие от стихов); 2) прежде всего эпос как род литературы (в отличие от лирики); 3) художественная проза (в отличие от деловой, публицистической, религиозно-проповеднической, научной, мемуарной прозы); 4) малоодухотворенный, «приземленный», сниженный строй чувств (в отличие от высокого, поэтического отношения).
В первых двух значениях проза выступает как антипод поэзии (лирики). Отличия двух родов литературы (каждый из которых, напомним, может быть воплощен как в прозе, так и в стихах; и тем не менее сущность эпоса проявляется именно в прозе, а лирики – в поэзии) невозможно свести к способам организации художественной речи и прежде всего к ритмической ее стороне; отличия заключаются в степени преобладания рационально-аналитического отношения над эмоционально-психологическим. Другими словами, проза обслуживает иные отношения человека с миром. Прозу (которая, по словам Пушкина, требует «мыслей, мыслей и мыслей») интересует не просто эмоционально-мыслительное состояние само по себе (как лирику), а состояние, возникшее в связи с определенными обстоятельствами, выводимое из них. В центре прозы не обособленная от всего личность, но личность в ее связях со средой (социумом, природой). Многообразие связей, формирующих личность и характер, – вот предмет и субъект прозы; а связи выстраиваются под концепцию, под «мысли». Лирика же специализируется на абсолютизации отдельных состояний духа и души именно как отдельных, останавливает прекрасное мгновение. Лирика мыслит мгновениями, проза – мгновениями, порожденными другими мгновениями (смыслами, вытекающими из других смыслов). Мгновения разворачиваются в события и выстраиваются в концептуальный порядок: вот дискурс прозы. Плотный, густой смысл требует широкого, аналитического дискурса.
Таковы содержательные признаки прозы, отличающие ее от поэзии (стихов). Что касается их формального разграничения, то при всей практической «очевидности» отличий, доступных уже ребенку и делающих прозу и стихи разными видами словесно-художественного творчества, теоретически сделать это весьма непросто. Музыкальность, эмоциональность, субъективизм и метафоричность стихов в значительной мере присущи и прозе. Стихи обладают ритмом, стихотворная речь явно делится на соизмеримые отрезки и легко записывается «в столбик»; однако проза также обладает своим ритмом (правда, «строительный» ритмический материал прозы – принципиально иной природы; философия ритма прозы – наименее изученная проблема в области поэтики прозы). И тем не менее ритм как таковой невозможно считать имманентным признаком стихов и факультативным признаком – прозы. Графическое оформление – «в столбик» или «в строчку» – остается, при всей его детскости и наивности, едва ли не решающим формальным признаком. Чтобы избежать подобного упрощенного взгляда, следует иметь в виду, что форму в литературе нельзя трактовать как некую очевидную парадигму с ее визуальными или звуковыми характеристиками, требующими описания, фиксации и не более того. Форму следует понимать как специфику функций. А различие функций тесно связано с моментом содержательным. Проза воплощает особый тип личности, представить и осмыслить который можно только через процесс становления. Отсюда – сюжет, деталь, речь (в т. ч. субъектная организация речи) как стилевые доминанты прозы. Именно эти уровни стиля (в свернутом виде присутствующие также и в поэзии) обеспечивают разворачивание смыслов. Функция прозы – художественный анализ, несмотря на то, что проза сама есть продукт образно-художественного синтеза. Художественная проза находится как бы на пути от мифа – к логосу, от культуры собственно художественной – к научной, абстрактно-логической. Амбивалентность художественного слова наиболее ярко проявляется именно в прозе. Это дает основание крупнейших прозаиков причислять к философам (философия Достоевского, Л. Толстого, Камю и т. д.). Что касается последнего, метафорического значения, то оно непосредственно вытекает их первых. Бесстрастный, объективный анализ, вынужденное следование императивам унылой логики жизни, «надо» вместо «хочу», реальность вместо мечты, долг вместо чувства делают «прозу жизни» скучной, лишенной ярких эмоциональных красок. Проза жизни – синоним эмоционально бедной жизни, если не смерти. Рациональной прозе жизни противостоят праздник души, «именины сердца», голодному эмоциональному пайку прозы – поэтическое пиршество духа и души.
Если все сказанное о прозе верно, следует признать, что проза, интеллектуально насыщенная проза является неким водоразделом, а лучше сказать – условной границей, после которой «неверная» вода постепенно «переходит» в сушу и твердь: проза является моментом перехода от одного языка культуры к другому, от образно-художественного моделирования – к абстрактно-логическому анализу того, что «намоделировано». Вначале было художественное слово, и оно могло быть только о Боге; однако потом появилось слово научное, и Библия превратилась в сказку.
Если и это верно, следовательно, у нас есть твердые основания говорить о спектре в гуманитарной культуре. Полюса в спектре – культурные языки, позволяющие функционировать психике и сознанию: образы и системы понятий. Логика спектра, определяющая культурное движение, – проста: от психики – к сознанию, извечная попытка приблизиться к сознанию, не порывая при этом с психикой и лирикой. Этот путь и есть, собственно, траектория духовно-культурного прогресса.
Человек по слабости своей зародился как существо духовное поэтически, первоначально реализовался посредством поэзии. Мифы и сказочки долгое время были его скудной и однообразной пищей духовной. Все известные человеку искусства постепенно и поочередно достигли своей зрелости, получился впечатляющий культурный результат. Проза едва ли не последней из односоставных искусств вступила в пору зрелости, отметившись первыми (а может, вечными: кто знает?) пиками расцвета – совсем недавно, каких-нибудь 150–200 лет тому назад.
Разумеется, научная гуманитарная культура развивалась автономно и параллельно (в форме философии), однако художественный взлет прозы повлиял и на поиски научной прозы. «Человековедение» начинается в прозе, а заканчивается в науке и прозе жизни.
Мы еще только движемся к гуманитарной теории, и свободно движущаяся проза облегчает нам этот, выражаясь поэтическим языком, тернистый путь.
3.2. Литература и литературность
(два типа художественной прозы)
Художественная проза – это всегда повествование о событиях. «События» и «проза» для малоискушенного читателя связаны между собой настолько, что становятся понятиями едва ли не тождественными. Проза – это всегда «что-то случилось». Прозы без событий не бывает.
Обманчивая простота формулы вводит в соблазн, и из простодушных читателей время от времени получаются простодушные писатели, чтобы порадовать своих верных читателей. Кажется: расскажи, если есть что рассказать, опиши произошедшие события – и тебя услышат люди. «Художественная» проза означает: расскажи о событиях красиво. Жизненный опыт, аккумулирующий ряды событий, согласно мифам о прозе, выступает едва ли не решающим компонентом. Что бы мы ни говорили простодушной, но заинтересованной, публике о природе изящной словесности, зависимость между жизнью и искусством видится ей следующим образом: проза вырастает из событий, последние становятся плотью, «материалом» прозы. Сначала жизненные события – потом проза.
Не случайно в прозе «работает» много людей, за плечами которых нелегкие судьбы и своеобразный жизненный опыт. Их жизни представляют своего рода жизненные узоры, рисунки судьбы, пройденный жизненный путь, который при минимальной литературной обработке, при минимальном умении обобщать превращается в «прозу», – прозу, поведанную самой жизнью, разумеется. Вот почему такая проза обладает определенным поучительным потенциалом: из нее легко извлекается «мораль», это «идейное» вещество, которое «склеивает» события, выстраивает их в нужный ряд. «Мораль», понятное дело, продиктована все той же жизнью.
У писателей часто бывает много профессий, богатый жизненный опыт. Некоторые сферы жизни ценятся особо. Военные, особенно летчики и моряки (важен контакт со стихией!), различного рода силовики (следователи, разведчики и т. п.: здесь тоже своеобразная стихия – хитроумная охота), врачи, геологи – словом, представители экстремальных профессий – вот хорошая почва для рождения литературы, вот «литературная подготовка». Они в эпицентре событий, они там, где постоянно что-то случается. И такой подготовленный десант высаживается в литературу. Жизненные сюжеты плавно перетекают в литературные, жизнь смыкается с искусством. Экстремальные обстоятельства рождают занимательную литературу: это своего рода неписаный закон. Жизнь есть сплошной детектив. «Экстрим» и «литература» – это если не близнецы-братья, то одного поля ягоды как минимум.
Еще проще: доступ к прозе открывается тем, кто видел смерть в глаза. И при этом уцелел. Вот она, основа «литературной морали»: литература призвана охранять жизнь, заставлять читателя, по корявому, но душевному выражению Л.Н. Толстого, «полюблять жизнь». Это уже само по себе служит знаком избранности, если угодно, облеченности миссией: многое познавший счастливчик обязан рассказать о своем знании другим, поделиться опытом. Моральный долг и сакральная миссия заставляют браться за перо.
Мы имеем дело с первородной мифологической функцией слова. Таков импульс коллективного бессознательного, лежащий в основе индивидуального творчества. Подобное творчество по природе своей коллективно, востребовано обществом, оно, как правило, нагружено и перегружено функциями социально-идеологическими: воспитательными (дидактическими) и познавательными (эвристическими). Оно социоцентрично по сути и, разумеется, весьма «полезно». Дар литературный желателен, конечно, но он располагается на последнем месте. Опыт, удача, склонность к литературе: вот составляющие понятия «талант прозаика».
Таким образом, проза превращается в «рассказ о том, как я видел смерть». Живые с удовольствием читают о том, как кому-то удалось перехитрить саму смерть. Здесь мифом пахнет…
В известном смысле воспроизведенный миф о художественной прозе справедлив – но, подчеркнем это сто раз, в известном смысле, в определенном отношении (это говорится уже для читателей более-менее искушенных в законах художественности). Однако подменять богатство художественной прозы жизненным опытом и жизненный же опыт делать критерием художественности – это профанация, вольная или невольная, лукавая или нет. Рассказы о жизни и смерти – это интересно, но это не художественная проза. Известны случаи, когда великие писатели имели за плечами военный или медицинский опыт, но мундир как таковой здесь не при чем. Подлинно художественная проза делается по принципиально иной технологии.
Не станем отрицать: чтобы поделиться жизненным опытом, грамотно «рассказать», требуются навыки, и немалые, даже профессионализм (кстати сказать, в подобной литературе профессионализм выпирает гораздо больше, нежели в литературе великой). Это безусловно. Литература, основанная на умении рассказывать, и делается «рассказчиками», но не «писателями». Писатель – это рассказчик + умение зашифровывать в событийный ряд некий иной, неактуальный для рассказчика, но актуальный для культуры, смысл. Рассказчик – это социальное амплуа, которое может быть и профессией, писатель же – всегда и только призвание.
В чем же сущностная разница между «рассказчиком» и «писателем» (эту дифференциацию тонко чувствовали, например Бунин, Довлатов)?
Художественная проза, сотворенная писателями, начинается с известной плотности смысла, выразить которую только при помощи событий просто невозможно. Такая проза говорит с читателем на другом языке, не на языке событий. У классиков, у великих писателей, за рассказом проступает другой рассказ, затем еще и еще, пока мы не упремся в главное: подлинный предмет писателя – процесс превращения человека в личность. Нет этого процесса – нет великой литературы. Разумеется, «человека» невозможно оторвать от «личности», равно как и «писателя» от «рассказчика»: эти стороны взаимосвязаны.
В прозе «рассказчиков» главным героем становится по преимуществу «человек», в прозе «писателей» (которая и является, собственно, художественной прозой) – «личность». Человека от личности отделяет способ управления духовной информацией.
Для того чтобы изобразить личность, требуются совершено особые навыки (здесь от плана содержания мы переходим к плану выражения). Тут не столько жизненный опыт в цене, сколько жизненный опыт, который удалось переплавить в опыт духовный. Жизненный опыт востребован ровно настолько, насколько он стал предпосылкой появления опыта духовного. Один с другим часто не совпадают, и наличие одного не является гарантией появления другого. Они причудливо пересекаются, граница между ними подвижна. Рассказчик может и превратиться в писателя, а может так и остаться в своих культурных границах. В литературе, созданной усилиями рассказчика, надо подать событие и убрать все, что мешает рассказывать; в художественной прозе событие само по себе мало что значит, а рассказ заменяется повествованием о приключениях ума и души (акцент на личностно значимом, на персоноцентризме).
Именно для этого и необходим писателю стиль (подробнее об этом несколько ниже), без которого вполне может обойтись рассказчик: отсутствие стиля не наносит ущерба искусству описания событий. Стиль, то есть умение выражать, – вот святая святых писателя. Здесь можно выстроить такую зависимость: вначале личностно-духовная одаренность, во вторую очередь – литературно-художественная, в последнюю очередь – наличие жизненного опыта. Последний становится условием необходимым, но недостаточным. Таков симбиоз под названием «писательский талант».
Понятно, что тема затронута весьма деликатная, и искусство отделения рассказчика от писателя – тоже особого рода аналитическое искусство, подвластное, конечно, личности. И тем не менее разница между потребностями человека и личности существует. Их миросозерцание отличается настолько, что в случае с личностью уместно говорить о мировоззрении (ощущения + идейно-концептуальная сторона), человек же вполне обходится мироощущением (концепции редуцированы до нескольких общераспространенных схем). Ясно, что подобное отношение к миру и к себе как части этого мира актуально и для поэзии, и для художественной деятельности в целом. Личность и человек – это разные точки отсчета в культуре и, соответственно, разный культурный потенциал и результат.
Вот почему указанные два типа художественной прозы – это частный случай проявления общей культурной закономерности: все зависит от природы духовного космоса, которая проецируется в художественное измерение.
Теперь от содержательной стороны «художественности» перейдем к ее «технологии». Художественная проза – это постоянное сопряжение микроуровня (метафоры, лексико-синтаксической единицы, детали, эпизода, события и т. д.) с макроуровнем (с магистральным смыслом). Метафоры и лексика сами по себе мало что значат; в художественном смысле они значимы как моменты универсума: через отдельное в них сквозит всеобщее. Мы выделили главное и принципиальное. Приращение смысла в произведении, организованном по законам художественности, происходит не по «частям» и не по «кусочкам», из которых лепится целое, а с помощью «единиц», которые можно назвать «моменты целого». Собственно говоря, в этом и заключена природа художественности, природа мышления образного, оперирующего суммами смыслов, умеющего через «одно» (конкретное, единичное, уникальное) передавать «все» (абстрактное, общее, универсальное). Высшее, родовое проявление художественности – это когда в «одном» непременно отражается «все», и это «одно» направлено на воплощение личности. Для этого и только для этого необходим стиль. Стиль, иначе говоря, рождается там, где присутствует художественность, ибо это способ воплотить художественность. (Между прочим, искусство создавать стиль, искусство писать, также учитывает особенности художественной технологии. Великие произведения пишутся (сейчас мы говорим о принципе, а не о писательской технике) не фраза за фразой, сцена за сценой (хотя формально, быть может, так и ткутся: фраза за фразой), а сразу «целиком и полностью»: и начало, и конец, и середина присутствуют в каждом фрагменте; даже если какие-то фазы и неясны самому автору, они каким-то образом «проявляются» в уже написанном. Разумеется, от этого «правила» много индивидуальных отклонений; и все же принцип «все в одном» так или иначе выдерживается не только при восприятии или анализе произведения, но и при его создании. Каждой отдельной фразой (сценой и т. д.) писатель обогащает всю громаду романа в целом, а не только «продвигает» и «закругляет» событие или эпизод. А теперь представим себе, что значит написать фразу, принимая к сведению всю, уже зафиксированную и еще не зафиксированную, информацию. Это под силу только людям гениальным. Художественному мышлению подобного уровня и порядка невозможно научиться. Это за гранью обычных человеческих возможностей. Адекватное восприятие, не будем лукавить, требует конгениальности. Великие писатели существуют только потому, что существуют великие читатели.)
Если этого нет, то перед нами беллетристика, занимательное рассказывание историй, которое имеет к художественной прозе такое же отношение, как ленивый утренний бег трусцой – к большому спорту.
Беллетристика – это слабо организованный текст с эпизодическими художественными вкраплениями, который вовсе не нуждается в таком способе организации смыслов, как стиль. Беллетристика связана с понятием «индивидуальной творческой манеры» письма, которую неоправданно отождествляют со стилем. Иное дело, что бывает талантливая беллетристика. На здоровье. Спектр, на одном полюсе которого «художественная проза», а на другом – беллетристика, на то и спектр, чтобы заполнялись все отсеки и лакуны. Художественная проза, как и беллетристика, тоже бывает разного качества: от великой до почти беллетристики. Следует подчеркнуть, что беллетристика (литературность) и художественная проза (литература) в свою очередь поддаются типологии и, конечно, могут перетекать друг в друга. Непроходимых границ между ними нет, существует граница принципиальная.
Художественная проза – это принципиально иная организация текста, принципиально иная информационная насыщенность, иная плотность смысла – принципиально иная культурная миссия.
Кстати сказать, жизненный опыт, автобиографичность и само жизнеподобие, наконец, в предложенном контексте не являются решающим фактором художественности. Прозу делают художественной «технология», стиль, а не факты из жизни рассказчика (писателя), какого-нибудь популярного деятеля политики или культуры. Более того, если своим успехом книга обязана будоражащим публику фактам, – это родовая отметина и «почерк» именно беллетристики.
Несколько примеров будут не лишними. Чтобы не обижать армию рассказчиков, произведения которых не обладают стилем и, вследствие того, не нуждаются в квалифицированном литературоведческом анализе (который так или иначе является анализом стиля), обратимся к гораздо менее внушительной по количественному составу когорте великих прозаиков. Вот характерные примеры из великой литературы, из полноценной художественной прозы, визитная карточка которой – стиль. Нас в данном случае интересуют образцы художественного, а не беллетристического, мышления. Возьмем обманчиво простую «Пиковую даму» А.С. Пушкина. Ее герой, обрусевший немец, инженер Германн роняет фразу в разговоре с приятелем: «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Чтобы понять эту фразу, синтаксические особенности которой обусловлены рациональным (немецко-инженерным) строем души героя, тем «строем», который породил саму идею, сам «состав» преступления, надо выявить ее многомерную связь с содержанием. Она вырастает из всего произведения и растворяется в нем. Это и есть технология литературы.
Чтобы понять, зачем в начале «поэмы» Н.В.Гоголя «Мертвые души» появились два мужика и повели замысловатый диалог о колесе, не имеющий к повествованию ровным счетом никакого отношения, надо уяснить философию «мертвых душ», то есть соотнести отдельное со всеобщим. Это уже проявление той «философии», которой пока еще нет, тот самый «фрагментарный» способ бытия философии.
Если вы захотите уяснить себе, почему великий русский роман «Война и мир» начинается с французских пассажей в петербургском салоне некой Шерер, вам придется прочитать роман до конца и понять смысл оппозиции Россия – Франция, Восток – Запад, за которой скрывается оппозиция душа – ум. В романе полемически сопрягаются два типа культуры, два типа освоения жизни. За одной фразой, сценой стоит все, весь роман.
Между прочим, принцип «каждый момент промаркирован свойствами целого» предполагает, что в художественной прозе, в отличие от беллетристики, на порядок больше присутствует как начало бессознательное, так и сознательное. Отношения «фрагмент – целое» регулируются в значительной степени по технологии бессознательного; а вот концептуальные параметры целого требуют сознательного вмешательства. Таким образом, все родовые свойства литературы ярко проявляются именно в художественной прозе, а проза с признаками литературы, беллетристика, – это имитация литературы, литературность.
Практика литературного редактирования текстов, касается, в основном, правки беллетристики. Здесь закон художественности – закон целостности – проявляется в таком модусе: чем больше сокращаешь произведение, тем больше появляется в нем смысла. События безболезненно купируются и легко заменяются. Редактировать – значит, беспощадно «резать». Отсюда справедливая убежденность редакторов, что сокращение всегда «идет на пользу», что единственный способ улучшить произведение – сократить его, убрать «воду».
Художественная проза не терпит подобного беллетристического редактирования. Она требует предельно деликатного подхода. Произведение, которое устроено по принципу тронешь «одно», а «поплывет» «все», просто нельзя механически сокращать. Его вообще невозможно улучшить с помощью количественного подхода. Вмешательство в стиль – это по природе своей художественная, а не редакционная, корректировка. В идеале редактор должен становиться соавтором писателя. Однако редакторам, специализирующимся в области «литературности», этого не объяснишь, ибо ремеслом рассказчика они зачастую владеют лучше самих авторов.
Мерки литературности в подходе к литературе – это в последнюю очередь профессиональная хвороба, это болезнь не только редакторов, литературоведов или критиков. После того, как разберешься с литературой и литературностью, становится понятным, почему сегодня художественные произведения не в почете, почему читают в лучшем случае беллетристику: потому что читать художественную прозу – это особая человеческая специализация, которая, являясь особо ценной по культурным меркам, не востребована жизнью. Сам жизненный опыт отвергает сегодня художественную прозу. Остается беллетристика, литературность, которая по своим «художественным достоинствам» затмила литературу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































