Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
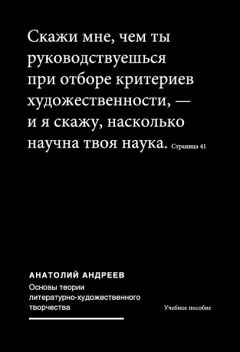
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
1.11. «Громадная воздушность» Михаила Булгакова
1
«Мастер и Маргарита», феноменальный роман Михаила Булгакова, страшно далек от понимания сегодня, да и вряд ли он будет понят и оценен в должной мере завтра.
Запредельно, ошеломляюще гениальный «Евгений Онегин» остается загадкой уже почти в течение двухсот лет. Никто ничего не понимает в этом мудреном «тексте», и даже непонятно, где, в какой стороне искать понимание.
Однако на этом сходство двух романов и заканчивается. Нет, пожалуй, добавим сюда еще легкость, воздушность моцартиански исполненных романов. А дальше начинаются роковые различия. «Мастер и Маргарита» не понят потому, что там и понимать нечего, хотя при этом кажется, что смысл вот-вот структурируется во что-то библейски величественное и грандиозное, как в «Евгении Онегине».
«Евгений Онегин» не понят потому, что в нем вот это самое библейски грандиозное реально присутствует, однако обманчивая легкость отвлекает, усыпляет бдительность, и начинает казаться, что смысл рассыпается, развеивается и исчезает, как в «Мастере и Маргарите»…
В одном случае «эфемерность» и легковесность не помеха выверенности и отчетливости, а, напротив, союзник, оборотная сторона; в другом же – помеха. Да что там говорить: сам факт подобной поляризации романов непонятен настолько, что окончательно запутывает проблему (если она есть, хочется добавить, трижды плюнув через левое плечо). Тут уже сама сложность проблемы подталкивает к простому решению. Только вот цена простоте бывает разная: от гениальной, опять же, до примитивной. Простота сама по себе еще ничего не решает.
Очевидно, к произведениям подобного масштаба нельзя подходить со своим мнением, как правило, еще и «горячо выстраданным» (этот «святой» в своей простоте философский жест – «я так думаю!» – превращается в маленькую сухую веточку, подброшенную в жаркий костер непонимания); к ним надо подходить с методологически грамотных позиций. Простоту ищи в методологии. Если все заблуждаются, следовательно, они не нашли верной методологии.
В литературе никогда не было, нет и не будет до тех пор, пока будет существовать литература, ничего личного, поэтому мера понимания литературы – безличный закон (мать которому – методология).
2
Настораживало ли вас, уважаемый читатель, что М.А. Булгаков был медиком по образованию?
Иными словами, он нигде не учился литературе как технологии, как священному ремеслу. Да и ремесло ли это? – вот в чем вопрос.
Как же он научился тому, чему нигде не учился? (Кстати сказать, не только он, но и все иные выдающиеся представители литературы.)
А, собственно, что он умеет?
Давайте вчитаемся в первую фразу романа, которая следует сразу за издевательским в своей заурядной императивности названием первой главы: «Никогда не разговаривайте с неизвестными» (так умудренные глупым опытом бабули грозят скрюченным пальцем своим нерадивым внукам). Да, не следует упускать из виду: чуть выше названия главы – знаменитый эпиграф из «Фауста» Гете. Итак, первая фраза:
«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».
Сравним с началом «Преступления и наказания» (момент появления Раскольникова): «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из свое каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».
Булгаков не просто приглашает читателя посетить «небывало жаркий» ад в чрезвычайно удобное время, но создает для этого до предела уплотненный культурный контекст. С одной стороны – Иоганн Гете, представляющий европейскую традицию поиска истины с помощью ума-разума; с другой – Федор Достоевский с его культом иррационального постижения сакрального. И фраза, казалось бы, достаточно простая фраза, хотя и мастерски отделанная, гулко отзывается в культурных лабиринтах и не затихает приглушенным раскатистым эхом на протяжении всего романа. Упругий ритм, банальное, но неизменно выигрышное «однажды» (кстати, так начинается «Пиковая дама», которая имеет непосредственное отношение и к великой теме всевластия денег, и к «Преступлению и наказанию», и к великому функциональному водоразделу «психика – сознание»), явно ощутимая многослойная ирония, пока, правда, непонятно к чему относящаяся, – все свидетельствует: мы имеем дело со стилем. Еще ничего неясно, но стиль уже присутствует. А когда мы начинаем осознавать, что мы очарованы еще и «колдовской», потусторонней темой, степень виртуозности автора представляется запредельной.
И читатель падает ниц пред мастерством писателя, который умеет все, ничему «такому» не учась. Мы преклоняемся перед феноменом художественного дара. Можно сказать, «мы раскрыли первую страницу романа», а можно сказать «нас мгновенно поглотил океан смыслов», «накрыло семантическое цунами», вроде бы, не «филологического романа», устроенного, однако же, весьма и весьма «филологически». Вот что умеет Булгаков (по первому впечатлению): он умеет творить чудеса.
Завораживает потрясающая легкость в оперировании наисложнейшими смыслами, что само по себе является культурной заявкой: уж я-то непременно распутаю все навороченные человечеством мировоззренческие клубки. Писатель (мессир, Мессир Афанасьевич!) словно говорит (хотя за язык его не поймаешь): я знаю секрет, я знаю простой рецепт решения всех ваших неразрешимых проблем. Эффект завороженности смыслом создается небывалый. Возникшее ощущение, что ты имеешь дело с чем-то сверхъестественным (ощущение, которое взвинчивается до предельных степеней и самой проблематикой романа), лишает покоя. Вот она, аура гениального. Читатель превращается в сбитого с толку посетителя дурацкого варьете.
Далее смыслы то приращиваются, то убывают, однако в начале сообщенный им «глобальный» градус уже не снижается. Роман – обо всем. Литература по существу своему имеет дело со смыслами, тяготеющими к дурной бесконечности. Роман – это всегда попытка укротить эту дурную бесконечность, что возможно сделать только одним способом (вот он, закон!): сознанием, инструментом которого выступают концепции. Бесконечность в рамках концепции (все – в одном!) – вот великая формула великой литературы. Весь мир – в одном романе: так легко и беспечно покоряется вселенная. Роман воспринимается как «воздушная громада». Мы не верим в натужность и пошлый труд до седьмого пота; великое должно быть легким, а легкое и создается божественно легко, без унизительной натуги. Трудиться мы и сами умеем, завоевывая ступени мастерства; тут уже не в мастерстве дело, а в чем-то таком, что никаким мастерством не достигнешь. Воздушная громада: не человеческих рук дело!
«Громадная воздушность» – это когда кажется, что весь мир в одном романе, а на самом деле это грандиозный обман. Мне уже приходилось прибегать к этой коварной формуле, которая в любой момент может обратиться в свою противоположность, сравнивая творчество Л. Толстого с творчеством Пушкина («воздушная громада» – это слова А. Ахматовой, справедливо сказанные в адрес «Евгения Онегина»). «Война и мир» по отношению к концептуально выверенному «Евгению Онегину» выступает как «громадная воздушность»; однако по отношению к «Мастеру и Маргарите» «Война и мир» являет собой подлинную «воздушную громаду», а «Мастер и Маргарита» чудным образом превращается в подлинную «громадную воздушность».
И тут уже дело не в Булгакове, а в том, что он гениально угадал закон, в котором сам, конечно же, ничего не понимал (Цветаева: «певцом – во сне – открыты закон звезды и формула цветка»). Я думаю, что это универсальный закон творчества, воздушный настолько, что его как бы нет: литература – это стихия бессознательного, которая – на удивление себе! – регулируется средствами и технологией разума. В результате получается – разумная неразумность. Сознательная бессознательность. Закон звезды. Формула цветка. Воздушная громадность. Неподъемная легкость. Дьявольская божественность, если хотите.
Как угодно. Главное и решающее: и то, и другое – подлинно. Подлинное совмещение двух подлинных стихий, о которых доподлинно известно, что они несовместимы. Нельзя научиться их совмещать, а Булгаков, учившийся на медицинском, это умеет.
Даже еще сложнее: литература – это феномен бессознательного (в целом), но по-разному бессознательного: в одном случае бессознательное преобладает, а в другом – только кажется, что оно преобладает.
Именно с этого момента начинается вакханалия непонимания, которая, разумеется, выдается за «всестороннее», «многоуровневое» постижение. «Евгений Онегин» и пал жертвой подобного «постижения». Едва ли не первый в мировой литературе (в контексте «психика – сознание: два языка культуры»).
3
Здесь уместно было бы вспомнить притчу о слепых, наощупь познакомившихся с громадным слоном, о котором бедняги были так наслышаны. Когда они стали выяснять, на что похож слон, произошло чудо непонимания, которое хочется назвать идиотизмом, замешанным на абсолютизации впечатлений. Одному слепому слон показался веревкой, ибо хобот он принял за слона как такового; другому – столбом, ибо на что же еще похожи ноги слона; третий решил, что слон напоминает огромный жбан (ведь брюхо действительно чем-то схоже с исполинским сосудом полусферической формы).
Вроде бы все были правы по-своему, а результат обескураживал: фактически каждый доказывал каждому, что его оппонент дурак. Нечто подобное происходит и с романом в стихах Пушкина. Если доверять своим ощущениям и на их основе составлять собственное мнение, вы непременно обнаружите грань, которая реально присутствует в романе, – и непременно окажетесь неправы, придавая этой грани черты универсальности. Феномен неразберихи гарантирован. Чем честнее и искреннее вы заблуждаетесь – тем более будет неразберихи.
В чем проблема? В том, что надо уметь видеть объект в целом: тогда только слон перестанет быть похожим на веревку. Прозреть – значит поменять методологию: перейти с языка ощущений (с бессознательного) на язык умозрительных концепций (язык сознания). А это, опять же, не столько вопрос квалификации, сколько одаренности.
С романом Булгакова происходит в точности то же, что произошло со слепыми, только с одной поправкой: слона не было. Отдельные характеристики и параметры целого, вроде бы, есть; а целого как такового – нет. Объект отсутствует, хотя отдельные признаки налицо. Поэтому все спорят о том, чего нет.
Понять Пушкина – значит уметь видеть объект в целом; понять Булгакова – значит понять, что целое просто не состоялось (а это возможно тогда, когда есть навыки видеть объект в целом). Понять Булгакова – значит понять и оценить Пушкина.
Поскольку посмотреть на литературу «в целом» дано немногим, литература становится яблоком раздора (хотя предназначена она, казалось бы, для благородных целей объединения). В литературе можно найти все (весь спектр чувств и умонастроений) – именно потому, что там есть только одно (целостное мировоззрение). Хорошая литература – это космос: как бы бесконечность, укрощенная бесконечность.
Вот он, закон звезды (шире – закон художественного космоса): бесконечность ощущений укрощается масштабами понимания. Психика (бессознательное) подвластна сознанию, хотя кажется, что наоборот.
Для человека литература остается тайной, загадкой – то есть тайной остается закон сочетания двух типов управления информацией, определяющий сущность литературы.
Вот почему гениальность Булгакова в том, что его хочется считать выше Пушкина и Толстого, которым он и в подметки не годится. Мессир, что вы хотите. (Между прочим, сказанное означает: писателей, подобных Булгакову, – по пальцам перечесть.)
«Евгений Онегин» – это умный роман, который кажется легкомысленным; «Мастер и Маргарита» – это легкомысленный роман, который хочется считать умным. Это не почти одно и то же; это почти полярности. И это почти невозможно объяснить (хотя понять можно).
Одним из формальных выражений «воздушности» является структура персонажа. У такого современного Булгакова – это архаический одномерный тип, не позволяющий воплотить личность; у Пушкина – характер, позволяющий в принципе ставить вопрос о многомерности, о «громадности» «человеческого измерения», что и составляет содержательность литературы.
Булгаков великолепно сымитировал самое главное: покушение на смысл. Это великий фокусник и маг, который (так всем кажется) умеет творить чудо.
Но чудо – это «Евгений Онегин», а «Мастер и Маргарита» – это фокус. Вот вам существо литературного фокуса: подменил характер – типом («громадность» – «воздушностью», смысл – его отсутствием), а никто этого даже не замечает. Я же говорю: мессир, пардон, Мессир. И роман о фокусах, а не о чуде.
4
Но разве не то же самое находим мы в произведениях Гомера? Или в «Слове о полку Игореве»? Или в «Мертвых душах» Гоголя? Или в опусах Набокова? Божественная легкость – налицо, дефицит смысла – также. Я очень и очень подозреваю, что «Илиада» писалась ровно столько, сколько она звучит или читается.
Этому не учатся; это и есть существо литературной одаренности. Это квинтэссенция литературной гениальности. «Как» передать (принципы изобразительности и выразительности) здесь ценится гораздо больше того, «что» передается. И это огромный пласт мировой литературы.
С другой стороны, содержательность («что») также является мерой таланта, поскольку непосредственно определяет способ передачи материала (стиль). И это также особый, уникальный, золотоносный пласт мировой литературы.
Но прежде всего литература – это стиль, великолепный стиль, заставляющий забывать, о чем, собственно, толкует писатель. Стиль и является «умом» литературы, ее родовой отметиной; точнее так: если произведение обладает измерением стиля, начинает казаться, что это умная, значительная в идейном отношении литература.
Вот они, две составляющие литературы и литературного процесса, образующие потрясающее в своей целостности и неуловимости качество – амбивалентность. Они всегда стремились к слиянию и отталкиванию одновременно. Их слияние приводило к реализму; крайний вариант размежевания – постмодернизм. Собственно литература начинается там, где есть стиль; гениальная литература – это совмещение «как» и «что». Все остальное просто не литература, псевдолитература (хотя агрессивно выдает себя именно за литературу).
«Громадная воздушность» – это не только литературный, но и культурный феномен. Булгаков явил нам достаточно редкий, если не уникальный, модус постмодернистского дискурса (тогда как Пушкин принципиально находится в поле реализма). Булгаков, как и постмодернизм вообще, – это хаос, который прикидывается космосом (реализм же – наоборот). В терминах литературных «громадная воздушность» – это когда постмодернизм прикидывается реализмом, становится трудноотличим от него, представляется этакой овцой в волчьей шкуре. Вот она, суть грандиозной культурной (и литературной) мистификации.
В конечном счете, постмодернизм и реализм представляют собой конфликт натуры (психики) и культуры (сознания) в специфическом модусе. Со стороны психики литература – это форма, красота, стиль, «воздушность»; со стороны сознания – концепция, философия, культура, «громадность». Подлинность взаимоотношений психики и сознания в том, что бессознательному все равно, право оно или же нет, а сознанию, в свою очередь, безразлично, нравится ли правота бессознательному. В результате получается либо «воздушная громада», либо «громадная воздушность».
Вот почему «громадная воздушность» – это, с одной стороны, громадный комплимент, с другой стороны – сомнительный, «воздушный», комплимент, с третьей – реальное признание реальных заслуг. В этой номинации быть игроком на культурном поле дано только гениям.
1.12. Где скрывается правда?
(культурные сюжеты романа Э. Елинек «Пианистка»)
Книги Нобелевских лауреатов – занятное чтение. Одни ругают их за то, что книги эти просты, даже примитивны, другим не нравится, что они излишне сложны, непонятны. И вообще признаком хорошего вкуса у независимой (от чего, интересно, независимой?) и крайне интеллигентной публики считается быть разочарованным творчеством тех, кто как-то признан, увенчан лаврами, всерьез замечен и отмечен. Как правило, вместе со славой на писателей обрушивается зависть коллег, принимающая форму бескорыстного, хотя и пристрастного, профессионального любопытства. Недостатки тех, кто на виду, смотрятся особенно впечатляюще, а достоинства только раздражают.
Такое впечатление, что здесь без венского мудреца, дядюшки Фрейда, не обойтись.
Вот и роман «Пианистка» австрийской писательницы Эльфриды Елинек, живущей в Вене и удостоенной в 2006 году Нобелевской премии по литературе, вызывает противоречивые суждения. Чем удивляет нас Елинек?
Она рассказала нам историю – вроде бы, простую, однако не поддающуюся однозначной трактовке. Жила-была девочка, звали которую Эрика Кохут. Жила она с мамой, ибо папа вскоре после ее рождения тронулся умом и теперь находится в психлечебнице; он безнадежен. Фрау Кохут со своей дочерью живут душа в душу (внешне): иногда они гуляют «под ручку, причудливо сросшись друг с другом в одно целое» (роман цитируется по изданию: Елинек Эльфрида «Пианистка». – С-Пб, «Симпозиум», 2004). Мама хочет видеть свою дочь, обладающую, по ее убеждению, гениальными способностями, пианисткой с мировой известностью. Это мамина навязчивая идея, которую она с успехом внушила дочери. А пока что Эрика преподает в Венской консерватории. Она обожает классическую музыку и, убежденная в своей исключительности, даже уникальности, презирает толпу – то есть людей обычных, не посвященных в таинства музыки. Всех неталантливых.
Для того чтобы сюжет превратился совсем уж в банальный, появляется ученик фройлян Эрики, некто Вальтер Клеммер, студент Технического университета, тянущийся к высокому и прекрасному – к музыке. Юноша влюбляется в свою тридцатилетнюю учительницу; та, кажется, отвечает взаимностью. Мама решительно против. Она вообще против личной жизни дочери, которую ждет мировая слава.
Таков сюжет первого плана. Он осложняется тем, что Эрика не только любит маму, но и люто ее ненавидит (в буквальном смысле). Их милые отношения строятся как «поединок роковой». Друг без друга они не могут, а совместное проживание превращается в кошмар. И не спрашивайте почему: перед вами история болезни, а не анализ причин ее возникновения.
Кроме того, Эрика по такой же модели выстраивает отношения с собой: она носит себя на руках, холит и лелеет – и одновременно ненавидит, исходя пеной ядовитого презрения. Что вы хотите: действие происходит в Вене, мировой столице психоаналитики. Здесь люди загадочны и амбивалентны по определению.
Разумеется, по таким же фатальным лекалам кроятся ее странные отношения с воздыхателем, Вальтером Клеммером. Эрику тянет к нему, но она ждет от него боли. Нет, не ждет: требует боли, унижения, издевательств, побоев. Даже не так: она, излагая в письме многолетние тайные желания, приказывает ему стать повелителем; она отбирает у него волю затем, чтобы он сломил ее волю. «Но это же нонсенс!» – воскликнет наивный читатель. Возразим ему цитатой из романа: «Разве такое может пожелать женщина, великолепно играющая Шопена? Однако именно это, и ничто другое, очень желанно для женщины, которая все время играла только Шопена и Брамса».
Заканчивается роман пространной, тщательно прописанной в деталях сценой насилия (создается впечатление, что Елинек, заботясь об удовольствии читателя, не отказывает себе ни в чем). Клеммер не ожидал от себя такого: он думал, что любит эту сумасшедшую садомазохистку Эрику, толкающую его к сексуальному деспотизму. А Эрика думала, что просит боли – хотя на самом деле ей почему-то захотелось любви.
В финале изувеченная Вальтером Эрика, к тому же полоснувшая себя ножом по плечу для пущей жути, «идет домой». К матери. На круги своя.
Сюжет второго плана противоречит сюжету первому, как бы нормальному. Там, где любовь, там всегда появляется кровь. Кстати, кровь – один из главных мотивов романа: Эрика все время кромсает свое любимое, и потому ненавистное, тело острой бритвой, не испытывая при этом боли, к которой стремится: «Эрика ничего не чувствует и никогда ничего не чувствовала. В ней столько же чувства, как в обломке кровельной черепицы, поливаемой дождем». Именно поэтому, обратим внимание, она чутка к духовной составляющей великой музыки, к опусам Шопена и Брамса.
Мать – плоть, давшая жизнь Эрике, ненавидит свою дочь именно как продолжение своей плоти; дочь, плоть от плоти, ненавидит свою мать именно за то, что обречена любить ее. Что касается отношений мужчины и женщины, то они превращаются в войну полов: «Представители обоих полов всегда стремятся к чему-то принципиально противоположному». Почему? Вопрос по отношению к роману не то чтобы некорректен, он попросту неуместен. Таков порядок вещей – и точка. На вопрос «почему?» в романе один ответ: мы такие.
Итак, перед нами история о том, как в человеке самым парадоксальным (читай: страшным и гнусным) образом совмещается искренний, возвышающий человека интерес к высокому искусству – и проявления самого низменного в натуре, превращающие человека в грязное животное. Сам факт совмещения такого рода является не просто скандальным, но порочащим культуру. Высшие культурные ценности создаются людьми с низменными наклонностями. В принципе, это примерно то же, что когда-то озвучила другая женщина, Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Однако фрау Елинек сделала иной акцент: у нее «сор», поэтический эвфемизм, означающий «нечто нечистое», превращается в жирную похотливую кляксу. Она заставила свою героиню думать не тем (или тем самым?) местом. Фройлян Эрика никогда не забывает, что великий и нежнейший лирик Шуберт страдал от сифилиса. Говоря об искусстве, о музыке, она испытывает сексуальное возбуждение. Пианистка играет «одной рукой на рояле разума, а другой – на рояле страсти». Эрика Кохут превращается в «пианистку» – то есть женщину, владеющую искусством извлекать волшебные звуки из музыкального инструмента, что только способствует превращению ее в заурядную самку. «Пианистка» становится некой формулой (культурной?), содержание которой выражается примерно следующим образом (слова самой Эрики): «Все мы люди-человеки, а потому далеки от совершенства».
Перед нами уже не история, а метафора, обозначающая уродливое единство противоречий. «Пианистка» – роман о поединке, в котором творец одерживает победу, а человек неизменно терпит поражение. (В скобках отметим, что соблазн представить великих художников всех времен и народов людьми ущербными – примета нынешнего, новейшего времени. Более того, если великий талант оказывается вне «компетенции» этой закономерности, под сомнение ставится не закономерность – именно талант. И напротив: ущербность и демонстративная культурная невменяемость становятся косвенными признаками художественного таланта. Добро пожаловать в мир прекрасного, которое становится памятником человеческого ничтожества. Красота перестала спасать мир. Одной ложью стало меньше – однако на свет тут же появилась другая ложь: рукотворная красота лишь обнажает и подчеркивает неспособность человека стать личностью, сделать точкой отсчета человека культурные ценности.)
Эльфрида Елинек с пугающей честностью изрекла что-то мучительное на мучительную тему, но вот что именно? Без психоаналитизма в данной ситуации не обойтись.
Она художественно озвучила великую банальность: культура не делает человека, натурпродукт, лучше. Не верьте культуре: это сладкий обман. Мы хуже, чем то, что мы делаем и на что мы способны. Натура и культура идут параллельным курсом, а если они пересекаются, то натура всегда побеждает культуру. Вот почему в романе много грязи, много злачных мест, похабных картинок и сомнительных для достоинства человеческого ситуаций. Действие романа, покрытого паршой, из-под которой пробивается золотая парча изумительных музыкальных узоров, часто разворачивается в туалетах, куда персонажи спешат прямо из-за рояля то по малой нужде, то по большой, а то и по великой. Музыка благоухает зловонием. Человек раскачивается на качелях от натуре к культуре. Это называется жизнь. Имеющий глаза да увидит.
Такого рода откровения становятся способом изживания страхов. В данном случае интересно и важно то, что роман написан женщиной. У нее и Вальтер Клеммер ведет себя как женщина. Именно с точки зрения женщины, честной и искренней женщины, кто бы сомневался, натура сильнее культуры, и по-другому быть не может. Это не человек не верит в собственный разум; это женщина не верит себе. В известном романе «Евгений Онегин» мужчине удалось укротить натуру; у женщин, само собой, иной взгляд на мир. У мужчин отношения «натура – культура» интерпретируются с позиций персоноцентризма (культуры); у женщин – с позиций индивидоцентризма (натуры). Обратим внимание: «Евгений Онегин» – он, «Пианистка» – она.
Почему же Нобелевский комитет с таким восторгом увенчал банальные женские страхи и откровения престижной премией? Почему это должно радовать читателя?
Да потому что вариант, при котором суровая формула «единство и борьба противоречий» стремятся к разрешению в гармонию (а гармония – это уже терминология из арсенала культуры, это духовная структура, где принципиально доминирует культурное начало) сегодня не востребован, не актуален. Сегодня, в эпоху, когда бал правит бессознательное, модно и престижно бояться самих себя, и на роль «культурных героев» в такой ситуации как нельзя лучше подходят женщины. Человечеству предлагается думать душой и смело отбросить «разумные предрассудки». Сегодня истина глаголет устами женщины, а для женщины истина – страх перед культурой. Боишься, но признаешься в своей «слабости» – значит, проявляешь максимально доступную человеку силу. Аплодисменты.
А что потом? Ведь культурная перспектива объявлена сладким обманом. Куда идти? По замкнутому кругу?
А разве это важно для человека, ощущающего свою силу? Живы будем – не помрем. Или, как говорят женщины, об этом я подумаю завтра. Хочется добавить: когда будет поздно. Но и об этом, согласно женской логике, лучше вспомнить завтра, то есть никогда.
Между прочим, легализация отнюдь не отрадного статус кво – культура дана человеку затем, чтобы осознать свое ничтожество – вовсе не так безобидна, как могло бы показаться. Она означает, что и впредь природная, социальная и духовная жизнь будет регулироваться способами природными, преимущественно силовыми – мужскими, которые так не нравятся женщинам, особенно тем, кто подался в феминистки, то есть в мужланши. Это значит: кто сильнее – тот и прав (великий демократический принцип). Иными словами, завтра снова война, ибо дискриминация культуры сегодня фактически означает объявление войны. Война, истребления, погибель как способ существования homo economicus`а – это нормально. Практически законно. Продление политики, которая является продлением экономики (а экономика есть не что иное, как чистейшей воды природная, бессознательная – силовая! – регуляция), военными средствами. Эпоха познания в форме бессознательного приспособления ищет и находит адекватное художественное воплощение. Женщины, дающие жизнь затем, чтобы ее сохранять, оказались в авангарде движения, угрожающего жизни! Такова плата за «честность» и «искренность» не способных мыслить.
Фрау Елинек главным стимулом к работе считает «бешенство и ненависть по отношению к окружающему». Она смело сравнивает себя с «терьером, который роет землю, вскрывает крысиные норы и извлекает на свет потаенное. Если я хочу что-то сказать, то говорю это так, как хочу я. Я оголяю язык до костей, чтобы изгнать ложь. Я пытаюсь заставить язык говорить правду, где бы она ни скрывалась».
Сплошные оговорки «по Фрейду»: «ненависть» как «культурный» стимул, «терьер», «язык с костями», то есть неуклюжий язык. Это правда. Роман Елинек, «пианистки», то бишь «писательницы», – весьма посредственный по своим художественным достоинствам опус.
Благие намерения, язык без костей (виноват: в данном случае с костями), изгнать ложь, говорить правду… Все время натыкаешься на этот вечный сюжет, демонстрирующий культурную слабость симпатичного местами человека, недостойного уважения и потому заслуживающего милосердия. Либо голая агрессия «по Елинек» – либо тотальное милосердие (синдром дауна) как альтернатива бездушной, «военной» интерпретации нашего многострадального мира, сплошь населенного маленькими людьми (сторонником такого подхода выступает, в частности, писательница Людмила Улицкая). Это и есть женский (бессознательный) подход к гуманизму как культурной проблеме, как проблеме сознания.
Каждая из дам по-своему права; они были бы правы каждая по-своему абсолютно, если бы не было культуры, созданной разумом, в котором женская логика присутствует на правах начала бессознательного, некультурного, – созданной мужчинами, но агрессивно получившей статус общечеловеческой. Подлинная альтернатива – не варианты homo economicus`а, а движение в сторону homo sapiens`а. Подлинная альтернатива – посмотреть на проблему с позиций культуры, разума, даже если носителем разумного начала выступает мужчина.
Интересно, где же скрывается правда?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































