Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
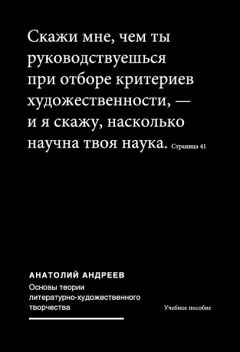
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Стихи (так и хочется сказать: стихия) Рембо пронизаны гениальностью бессознательного, мощью человеческой интуиции, воспринимаемой как альтернатива и замена разуму. Гениальность как инструмент культуры: так вот простенько решена проблема культурной состоятельности. Ясно, почему всевозможные «озарения», «ясновидения», «откровения» являются продуктом помутнения рассудка. Попробуйте совместить поэтический бред, культурное сырье с пушкинской аналитикой. Результат легко предсказать: исчезнет поэзия. Именно так: дремучесть и первозданность текстов, собственно, сор, источает поэзию. Это надо признать. Рембо – поэт сора.
В этом смысле он и стал предтечей магистральной линии искусства ХХ века. Он обречен был стать иконой. В ХХ веке сор перестали маскировать. Сегодня рисунками слабоумных уже никого не удивишь. И черный квадрат давно уже не предел: рисуют обезьяны, слоны, кто еще там… Искусство мирно и без всяких бунтов поглощается натурой. Деградация и дегуманизация искусства достигаются чрезвычайно быстро: освободитесь от ума, не взрослейте – и вы добьетесь своего.
Но если после Рембо искусство шарахнулось в сторону от разума – это не значит, что будущее за таким искусством. Тут дело вообще не в Рембо, а в логике развития культуры. А если будущее все же за таким искусством – значит, будущего у нас нет.
Артюр Рембо, конечно, заслуживает памятника как знаковая фигура: подлинный поэт, погубивший себя как личность. Людям давно пора перестать поэтизировать поэзию. Великая и искренняя поэзия умерла вместе с героическими идеалами, ровно в то время, когда на авансцену культуры выдвинулась личность. Поэзия требует великих иллюзий. Трезвый разумный персоноцентризм фатально несовместим с поэзией. Бунт – был великой иллюзией Рембо, последней великой иллюзией героической эпохи. Напомним: он отделил поэзию от разума, но не от чувств; сегодня, идя вслед за ним, дошли до предела: слова, отделенные от чувства, из поэзии превращаются в «слова, слова, слова» – в прием и мастерство, которых так не хватало подлинному поэту. Голое ремесло, виртуозное циркачество и трюкачество, имитация чувств – это не что иное, как форма умерщвления поэзии.
После Пушкина и Рембо нужна другая поэзия. Культура может предложить два объекта поэтизации: гуманизм и личность (в их всевозможных проявлениях: а это уже тысячи объектов). И языком поэзии призван стать язык умных чувств.
2.4. «Тонкость» как китайская поэтическая традиция в восприятии русским культурным сознанием
«Тонкость» китайской поэзии, будучи ее неким очевидным свойством, воспринимается носителями русской ментальности как данность. Это, что называется, не обсуждается. Просто констатируется. «Изысканность или, вернее, тонкость китайской поэзии не приводила к ее элитарности» (Л. Эйдлин. Китайская классическая поэзия. // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. – М., 1977, с. 200. В дальнейшем все стихи китайских поэтов цитируются по этому изданию; в скобках указаны фамилия переводчика и страница.) Не изысканность, не элитарность – именно тонкость. Здесь есть над чем подумать и есть что обсудить.
Существует выражение: «Восток – дело тонкое» (Китай в данном случае мы рассматриваем как органичную составляющую восточного варианта цивилизации, Востока). Это многозначительное, в свою очередь «тонкое» замечание содержит несколько уровней смысловых посылов. Попробуем формализовать это выражение, придать ему научные параметры, чтобы сделать его инструментом анализа. В соответствии с безусловным императивом литературоведения, гласящим, что в любом произведении существуют план содержания и план выражения, рассмотрим «тонкость» в контексте содержательно-формальных отношений.
1. В мировоззренческом отношении «тонкость» означает содержательную сложность объекта, приводящую к многомерности его устройства, влекущую за собой смысловую витиеватость; структурную «тонкость» сразу не поймешь, требуются время и усилия, чтобы разобраться в системности идейного порядка. В данном случае «тонкий» является объективным свойством предмета познания.
2. «Тонкое» означает не просто сложное, а хрупко-сложное, деликатное. В этой связи хочется вспомнить «где тонко – там и рвется». «Тонкий» – требующий бережного отношения во избежание смысловых натяжек. Речь идет уже не о «тонкости» устройства, а о «тонкости» – адекватности! – понимания. Здесь «тонкость» выступает как характеристика субъекта познания, точнее, характеристика методологии познания.
3. В психологическом смысле слово «тонкий» квалифицирует особого рода чувства и ощущения, порожденные утонченной системой ценностей (здесь мы уже переходим от мировоззрения к мироощущению). Тонкое чувство, умонастроение обслуживает соответствующую ментальность.
4. Наконец, «тонкий» употребляется как синоним понятия изысканный: эстетическая парадигма «тонкости» – ажурность, причудливость, экзотичность. Здесь мы переходим к литературоведческому, стилевому пониманию «тонкости».
Что же конкретно применительно к китайской поэзии означает «тонкость» как совокупность качеств (признаков) ментальности и специфики ее художественного воплощения?
В русской (и, шире, европейской) поэтической традиции поэт стремится называть знакомые вещи другими именами, пытается посмотреть на них другими глазами. Происходит феномен так называемого «остранения» (термин В. Шкловского), когда привычные вещи выглядят странно, непривычно, удивительно. Это не что иное как приспособление к миру путем его освоения, приближения к себе, к своим потребностям. Поэтическое отношение в данном контексте выступает как мифологическое, а поэт – как чародей, мифотворец, собственно, творец.
В культуре существует и иная традиция: называть вещи своими именами, что является прерогативой научного отношения – отношения познания в противовес приспособлению.
Казалось бы, третьего не дано. Третьего отношения быть не может. Однако китайская поэзия демонстрирует нам некий третий путь – оригинальнейшую модификацию приспособления, весьма и весьма «странную» для европейской поэтической «технологии».
Начнем с примера. Стихотворение Тань Сянь-Цзу «Ночую на берегу реки» (пер. Е. Витковского, с. 382).
Лежит тишина над осенней рекой,
редки лодок огни.
Ущербный месяц на небе слежу,
стоя в лесной тени.
Водяные птицы от света луны
встрепенутся, снова заснут.
Светлякам на крылья пала роса:
летать не могут они.
Минимализм средств – первое, что бросается в глаза. Это еще не изысканность, но уже вполне тонкость, – если минимализм ценен не сам по себе, а как «способ выражения» определенного содержания. За минимализмом же явно сквозит сдержанность. А за сдержанностью? Что диктует сдержанность, что задает сдержанный тон?
Автор не называет вещи другими именами. Но нельзя сказать, что он стремится назвать вещи своими именами (для этого надо аналитически выстроить контекст отношений, чего в небольшом стихотворении не может быть по определению). Метафора как средство создания образа здесь практически отсутствует; однако метафоричность как имманентное свойство художественного мышления присутствует в высшей степени. И эта метафоричность соотносит образ с «иными вещами». Какими?
Внесем ясность, назовем вещи своими именами. Автор стремится избегнуть самой ситуации оценочного называния, посредством чего непомерно выпячивается поэтическое «я»; субъект медитации предпочитает нарочито бесстрастно фиксировать некие простые реалии: тишина, река, лодки, огни птицы, светляки… Активность лирического героя как бы снижена, ибо поэтическая энергия направлена уже не на привычное переиначивание. Поэт, находящийся «в тени», хочет «дать понять». Он не хочет называть. Он сдержанно намекает на что-то. На что?
Сразу же отметим, что в этом отдельно взятом стихотворении отдельного автора просматривается некий универсальный поэтический принцип, актуальный для всей китайской поэзии. Вот еще несколько примеров, подтверждающих наш тезис. Гао Ци «Услышал звуки флейты» (пер. И. Смирнова, с. 373):
Хлынули слезы, как только ветер
пенье флейты донес.
Одинокая лампа. Нити дождя.
Тихий речной плес.
Шао Сян-Чжэнь «В начале лета на чистом ручье» (пер. Е. Витковского, с. 378):
Ветрено. Мелия расцвела.
Волны бегут без конца.
Одинокая лодка на переправе.
Пустынно у озерца. <…>
Лань Жэнь «В горах вечером возвращаюсь домой» (пер. Е. Витковского, с. 378):
Возвращаюсь домой; горная даль темна.
Омываю ноги; отражается в речке луна.
У бедных ворот сороки спокойно спят.
Между деревьев снуют светляки допоздна. <…>
Лу Ю «В сильный дождь на озере» (пер. В. Тихомирова, с. 363):
Туман клубится в устье ручья —
озерная скрылась коса.
Дождь нежданный все поглотил —
горы и небеса.
Природе чуждо великолепье —
ее красота в простоте.
Луна в облаках провожает домой
рыбачьей лодки паруса.
Простота, сдержанность, минимализм. Красота – в простоте. Это уже не намек: это императив. Внесем ясность. Перед нами поэтическая аранжировка формулы мудрости, архетипа всепроникновения: «кто знает – тот не говорит; кто говорит – тот не знает» (Лао-Цзы). Поэзия чтит мудрое молчание, преклоняется перед ним – и стремится к нему. В основе поэтического дискурса – молчание. Как связаны эти противоречащие друг другу стихии?
Дело в том, что представление «Учителя» о реальном мире исходило из того, что мир этот целостен, един и неделим. Праматерь же всего сущего – небытие, ничто. Все живущее и существующее нарождается и творится из ничего, поэтому ничто, дающее жизнь всему, есть начало и конец всего. Ничто – сущность, а реально наличествующий вещный мир (вместе со словами, его называющими) есть всего лишь жалкая частица, свидетельствующая о необозримом царстве небытия.
Мышление и «говорение» также рождаются из «ничего», и сколько бы ты ни говорил, тебе не удастся хоть как-то сравниться с божественным феноменом, давшим саму возможность говорения. Говорить, да еще наслаждаться процессом смыслопроизводства – унизительно для мудреца, понимающего несопоставимость «начала начал» и жалкого чириканья, претендующего на объяснение неизрекаемого экзистенциального духа.
Таким образом, простой логический ход: у всего есть свое начало, все рождается из чего-то, сопоставление момента предшествующего и настоящего как фрагментов «хода вещей», причины и следствия – вот основа «молчаливой» философии. Молчание как эквивалент и аналог «ничто» так же предшествует ничтожному сотрясанию воздуха, как могучее творящее начало – беззащитному и обреченному на «мгновенное» бытие ростку, как бесконечное – конечному.
Следовательно, в молчании гораздо более достоинства, нежели в самом ученом артикулировании, ибо молчание имитирует то, откуда берется все говоримое, и таким образом молчание всегда будет неисчерпаемым по содержательности, а все говоримое – конечно и унизительно глупо, неистинно по сравнению с неизрекаемой, но ощущаемой умной вечностью. Молчание выступает симптомом смирения перед невыразимостью ощущаемого сверхинформационного поля и одновременно высшим культурным действом. Содержательнее молчания ничего нет и быть не может. В этом контексте само безмолвие превращается в поэтическую метафору.
Давать другие имена или отчасти называть вещи своими именами – значит демонстрировать некую персональную поэтическую шустрость, не более того; такого рода активность означает признание собственного бессилия пред ликом принципиально неназываемого. В идеале поэзия должна стремиться к молчанию. К минимализму. Не разрушать тишину. Чем меньше – тем лучше. Перед нами тот случай, когда «великолепье» слов превращается в излишество. В этом случае предметом поэтизации становится неизрекаемый дух «дао». Вот отчего многословие не в почете. Вот почему называние вещей любыми именами – это суета сует, которая не проясняет, а затемняет суть дела.
Человек общается не с природой – с проявлениями стихии: с небом, звездами, луной, облаками, горами, водой, тишиной, осенью. Причем конкретный «модус» стихии выступает не конечным звеном в порядке мироздания, а всегда и только – промежуточным. За «вещами» прячется бесплотное начало всего. Такому общению непременно сопутствует одиночество, грусть, печаль. Все это – атрибуты растворения в «цепи вселенной». В великом «ничто». В безмолвии. Этот тезис великолепно иллюстрируют миниатюры Ли Бо (пер. А. Гитовича, с. 265).
Одиноко сижу в горах Цзинтшань
Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.
Храм на вершине горы
На горной вершине ночую в покинутом храме.
К мерцающим звездам могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко: земными словами
Я жителей неба не смею тревожить покой.
А теперь вчитаемся в отрывок из концептуальной медитации Линь Хуна «Пью вино» (пер. Е. Витковского, с. 379).
Древние люди давно отошли во тьму.
Древние мысли лишь по книгам известны уму.
Одна пустота во многих тысячах книг.
Доверять невозможно речению ни одному.
Круглый год упиваться хочу вином.
Ведать в жизни ни о чем не хочу ином.
Знайте, что человек, пребывающий во хмелю,
В цепи вселенной служит главным звеном.
«Разговаривать громко» «земными словами» – значит нарушать, «тревожить» гармонию молчаливого мироздания. На стихийные явления – горы, облака, птиц – можно только смотреть, созерцая символы великого «ничто». Ведь горы – это больше, чем горы. Они также «глядят на меня». И слова здесь бессильны. Обратим внимание: главное звено в цепи вселенной – не человек, а «человек, пребывающий во хмелю», человек нерассуждающий (в «книжном» смысле этого слова). Именно так, путем отключения сознания, можно вписаться в порядок вещей, приспособиться к нему и стать «главным звеном» «в цепи вселенной».
Вот она, суть тонкости: смыслы непостижимы, следовательно, переживание непостижимости, загадочности, предопределенной неясности – самая умная (для посвященного!) на свете вещь.
Таким образом, культ поэтической «немоты» с ее девизом «мысль изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев) по-настоящему состоялся не в русской, а в китайской поэзии. Русская поэзия болтлива. В свой «золотой век» (XIX) русская поэзия была озабочена «умными чувствами» и, вследствие этого, аналитизмом, тяготением к словесным формулам (наподобие приведенной выше тютчевской), где гармонично уживались чувство и мысль. Позже, в веке «серебряном», ХХ, поэзия стала специализироваться на выражении чувств «темных», утонченно-запутанных. Но и то и другое предполагало культ поэтического слова, культ говорения. Дело дошло до романов в стихах. Поэтическая сдержанность – антипод русской поэзии. Страстные чувства рождают страстные слова, призванные «глаголом жечь сердца людей».
Китайская поэзия, если так можно выразиться, намекает на чувство, обнаруживает предчувствие чувства, которое является не самоценным, а сопутствующим переживанием. Это, так сказать, поэзия симптоматики (ибо главное – сокрыто от глаз, ушей и ума). Культ скупого слова рождает табу на аналитизм, на называние, на узнавание, а вместе с этим предопределяет основные черты поэтики: многозначность нюансов, штрихов. Минимализм. Это именно поэтическая традиция, коренящаяся в мифах, в бессознательном.
Русская поэтическая и, шире, гуманитарная культура – европоцентрична, то есть, логоцентрична, все ее достижения и болезни связаны с последовательным культом либо сознательного, либо иррационального отношения (во многом, как ни парадоксально, интеллектуализированного).
В китайской поэзии нет подобной дилеммы, ибо культ индивидуальной умственной активности, личностного начала и вообще персоноцентризма несовместим с традицией служения «великому ничто», одного на всех. В этом месте мне, воспитанному в традициях русской филологической школы, вновь сложно удержаться от цитаты (из Лу Ю, пер. В. Тихомирова, с. 363):
Всяк о себе
думает в наши дни.
По этой причине
столько несчастий вокруг.
Тот, кто не делит мир
на «я» и «они»,
Тот в этом мире
мой друг.
Ощущение мира как единого и неделимого становится источником «иной» поэтики. Для русского уха и ума – это тонкие душевные колебания и вибрации не то чтобы вообще не связанные со смыслом, но как-то не по-нашему связанные. Понимая, что «Восток – дело тонкое», мы чувствуем в поэзии Китая иную ментальную парадигму. Мы учимся говорить и чувствовать на новом поэтическом языке. И по своей привычке называть именуем этот язык «тонким».
2.5. Культурное содержание «Писем римскому другу» И. Бродского: Актуализация литературной традиции
«Письма римскому другу (из Марциала)» И. Бродского (1972) великолепно иллюстрируют формулу, отчеканенную некогда Пушкиным прямо на куске холодного отчаяния, который незадолго перед этим представлял собой клокочущий, трагически обжигающий ментальный сплав (метаморфозы!): «на свете счастья нет, но есть покой и воля» («Пора, мой друг, пора», 1834). При этом отношения «счастья» и «покоя и воли» можно трактовать как частное проявление универсальных отношений культура – натура. Какие у нас на то есть основания?
Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно) – психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции.
В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности имеют три измерения (в этой фразе все слова ключевые; но ключ ко всем ключам – маленькое неприметное слово «все»).
Так, счастье (как и свобода, любовь, достоинство, истина, добро, красота – все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности) часто становится категорией, обозначающей ряд чувств, ощущений – категорией натуры, но не культуры (где мироощущение начинает уже зависеть от мировоззрения, где само непосредственное ощущение становится вторичным в акте познания и не определяет уже философию).
И это так, да не так.
В контексте культуры, принципиально ином информационном контексте по сравнению с натурой, «любовь», «счастье», «свобода», «гармония», «истина» (этот экзистенциальный ряд легко продолжить и, в принципе, исчерпать) – понятия близкородственные, расположенные в одной плоскости, каждое из которых может становиться либо «частью» другого «целого» (например, любовь – необходимая составляющая счастья), либо в свою очередь выступать «целым», превращая иные составляющие в «моменты» своей структуры – что, конечно, не проясняет саму суть «счастья» (любви, гармонии) как категории культуры, духовной категории, имеющей непосредственное отношение к натуре, категории бездуховной.
Существует «счастье» на уровне тела, душевно-психологическое счастье (в том числе его социально-психологическая проекция) и, наконец, счастье порядка духовного (информационная основа которого – разум, а форма – философия).
Если мы говорим о счастье телесно-психологическом, о «витальном» состоянии человека, то оно, действительно, непосредственно связано с чувствами, с жизнью, с натурой. Если мы связываем счастье с культурой, с личностью, с ментальным уровнем витальности, все резко усложняется, и миллиарды людей, увы, почувствуют не только краткость, но и принципиальную неполноту своего счастья. Почувствовав это, они с еще большим энтузиазмом станут цепляться за доступное им счастье «быть человеком» – за счастье «натуральное», сердечное, простое. Культура становится угрозой их счастью – то есть в полном смысле несчастьем, ибо счастье для них есть отсутствие несчастья.
В подобном же ключе следует интерпретировать и понятие свободы.
Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, как волю, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телесно-психологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода «душевная», в том числе политическая и экономическая, становятся условием реализации главной свободы.
Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую. Какова свобода – таково и счастье. Глупый человек не может быть свободным или счастливым, но хочет им казаться.
Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте информационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека.
Свобода – вот фундамент счастья для умного человека.
Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходимости»): «вольность и покой» (результат умственного – но пока еще не разумного! – отношения: свобода как плод уже сознательного выбора) замена «счастью» (то есть в его тогдашнем понимании свободе телесно-психологического, бессознательного порядка). Но Онегин ошибся – и в этом глубоко прав автор. На самом деле все с точностью до наоборот. Где свобода – там и счастье. Нельзя противопоставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами свободы, а их полноценное соприсутствие в том модусе, который называется гармония. Свобода, реализованная в рамках познанных законов, в том числе закона любви, – это счастье умного человека.
Любовь рассматривается как духовный закон для личности. Поэтому справедливо и такое утверждение: любовь – это счастье умного, следовательно, свободного, человека.
Формой существования счастья становится не миг жизни, а краткая, словно миг, жизнь, прожитая по меркам вечности.
В таком своем качестве и любовь, и свобода, и счастье превращаются в категории культуры – и противостоят «любви» (страсти), «свободе» (воле), и «счастью» (безмятежному покою, источнику удовольствия), которые, по сути, являются категориями натуры. В контексте культуры – в целостном информационном контексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обретают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик. Понятно, что в таком контексте счастья не бывает не только без философии и без свободы, но и без любви. Кстати сказать, «структура» счастья (философия – свобода – любовь) – это, с одной стороны, проекция общей информационной структуры человека (тело – душа – дух), а с другой – проекция «части» структуры, «духа» (истина – добро – красота).
Счастье – целостно, будучи моментом целостности иного порядка.
Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: человек или личность? Мироощущение или миропонимание? «Покой и воля» или «счастье»? Цивилизация (натура) или культура?
Ранее, в «Евгении Онегине» (закончен в 1830), как мы только что отметили, Пушкин прозорливо и глубоко настаивал на иной формуле, которая в вольном изложении звучит таким образом: на свете счастье есть – и есть покой и воля. Это, в частности, означает: если счастье все же существует, то никакой «замены счастью» быть не может – это во-первых; и во-вторых, именно «счастье» становится точкой отсчета в духовной структуре личности, именно с него все начинается, чтобы им же и завершиться.
Понятно, что противостояние натуры и культуры в модусе «покой и воля» и «счастье» – это, что называется, вечная тема, и в качестве таковой не Пушкиным она была открыта. И. Бродский подчеркивает фундаментальность темы, давая «письмам» подзаголовок «из Марциала» – отсылая читателя к категоричности античной мудрости, к несколько одномерной афористичности «священной латыни», которая изысканно стилизована шестистопным хореем (кстати, четырехстопный хорей – это всего-навсего легкомысленные частушки, а вот шесть хореев – чудесные метаморфозы! – придают строке мерную раздумчивость).
Тем не менее, И. Бродский, словно не было после античности разнообразного духовного опыта тысячелетий и того же «Евгения Онегина», с горькой иронией гнет свое: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Кстати сказать, «Письма» вовсе не случайны для И. Бродского, в них сконцентрировано мироощущение, которое характерно для всей его поэзии. Что это: современная форма глубины или маниакальное алхимическое желание обратить «покой и волю» в «счастье», доказав тем самым в очередной раз, что культура – это не более чем миф?
Перед нами девять восьмистиший. Их мотивы образуют некий мировоззренческий узор.
Мотив первый и главный: там, где копошатся люди со своими благами цивилизации (со своей «культурой», в данном контексте, ибо какого-либо иного понимания культуры обнаружить в цикле невозможно), там и зло, а там, где людей нет, где имеешь дело с бесхитростной натурой как таковой, там и благо подлинное.
Этот мотив очевидно доминирует. От чего, от каких бед бежит «автор» писем к «своему саду», к горам, букетам, чистому небу, созвездьям, зелени лавра, Понту, кипарису, осени, вину? (Стихи И. Бродского цитируются по изданию: Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы. В 2-х т. Т.1/ Стихотворения. Сост. В. И. Уфлянд. – Минск, Эридан, 1992. – 480 с.)
От столицы, от Цезаря, от Империи, от необходимости «лебезить», «трусить, торопиться», от «интриг да обжорства» – от культа насилия и отсутствия свободы, если сказать коротко. Точнее: от прущей из человека грубой, первозданной натуры (которая трактуется как вторая натура, сиречь культура). Кстати, вот вам и «правило», которых, казалось бы, не существует (см. мотив четвертый). Правило называется: дифференцируй общее и частное, иначе запутаешься в мелочах.
А куда же бежит наш герой?
К натуре же – к саду, кипарису…
От натуры – к натуре? Где здесь оппозиция?
За отсутствием подлинной культуры «культурой» предлагается считать пороки человека, без которых невозможно представить цивилизацию, развитый социум, и вот эта «культура» противопоставлена натуре. Именно так: низкая натура противопоставлена натуре высокой, а кажется, что благородная натура – порочной культуре. «Сколь же радостней прекрасное вне тела: ни объятье невозможно, ни измена» (письмо 1, далее номер письма указан в скобках цифрой). Этот же мотив обыгрывается и углубляется в других письмах: «наместника сестрица», «худощавая, но с полными ногами», не чуждая легкомысленных земных утех, подалась в наставники, пророки – «недавно стала жрица. Жрица, Постум, и общается с богами» (7). «Тело», близкое к власти, нагло возомнило себя проводником духовного, бестелесного.
«Вне тела» (вне человека) невозможна «измена» (интриги, трусость, лицемерие) – но ведь невозможно и «объятье», то есть духовное общение, любовь и дружба. Вспомним: мы говорим, во-первых, о письмах, о литературе – о «книгах» (символический для цикла образ); во-вторых, о письмах не кому-нибудь, а другу. Мы говорим о том, чего, по мысли «автора», в жизни, среди «тел», существовать не должно – однако оно не только существует, но становится главным для человека мыслящего и тонко чувствующего – для «автора» прежде всего.
Отсюда мотив второй. «Посылаю тебе, Постум, эти книги» (2). Зачем же читать «эти книги», если в жизни побеждают иные, не книжные, правила? Зачем подражать «жрице»?
Мотив третий. Притча о купце и легионере (3). Первый «умер быстро: лихорадка», хотя жил спокойной мирной жизнью; второго «столько раз могли убить! а умер старцем». Мораль: «Даже здесь не существует, Постум, правил». И уж тем более, надо понимать, не существует их в делах более сложных, связанных, надо полагать, с «книгами», в которых, несомненно, понятию судьба отведено особое, почетное место. «Судьба и жизнь, в свою чреду, все подвергалось их суду» – это уже сказано Пушкиным о друзьях Онегине и Ленском. «Тела», сведенные судьбой и познавшие дружбу, – уже больше, чем «тела»: мыслящие существа, задумывающиеся о «правилах» мироздания. Это уже даже не «мораль», а философия.
Мотив четвертый. Правил нет, однако это не мешает нам, «автору» писем, неукоснительно руководствоваться одним святым правилом: любви нет и быть не может (иначе пришлось бы потревожить «миф» о счастье, а его только затронь – хлопот не оберешься, никаких книг не хватит, чтобы разобраться). Дружба почему-то бывает – а любви почему-то не бывает. «Автор», «любящий сложенье», диктует другу Постуму (8):
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
На все есть своя цена, все на свете продается, нет ничего такого, что бы не продавалось – то есть нет культуры, «счастья». И это еще одно правило «автора». Просвещенный цинизм – вот идеология «покоя и воли». По большому счету – это отрицание культурных ценностей, следовательно, фактическое протаскивание и утверждение ценностей из свода «правил» натуры. Чем, собственно, «автор» лучше – в культурном и гуманистическом смысле выше, благороднее, принципиальнее, умнее – той столичной публики, которую он так презирает?
В соответствии с принципом относительности «ворюга мне милей, чем кровопийца» (4) «автор» выглядит милее и симпатичнее «ворюг» – те все же творят зло, а он всего лишь не творит добра, ибо не верит в его силу. Его невозможно, конечно, поставить в один ряд с «ворюгами и кровопийцами», гетерами и жрицами, однако в культурном смысле для него также нет места в рядах тех, кто всей этой нечисти противостоит. Хочешь быть против «ворюг» – борись за «счастье». За любовь, опять же. Но это уже совсем другая история, этого мотива в письмах нет…
Что же получается: «автор» сам себя отлучает от культуры, и искусно пишет об этом в «книге», детище культуры?
Мы подошли к очень сложному пункту, без понимания которого в природе художественной словесности разобраться невозможно. Сформулируем суть конфликта, образующего смысловой фундамент цикла И. Бродского, следующим образом: чем является мотив «бегства от гнусной, тлетворной в духовном отношении цивилизации на лоно природы, где не существует лицемерных правил культуры»: формой культурного протеста (жестом культурного героя) – или просто экзотической разновидностью культурной деградации, идеологическую основу которой составляет «культурный» тезис цинизм «милее» лицемерия цивилизации?
Если это завуалированная (по каким, интересно, причинам?) форма культурного протеста, то где тот самый культурный идеал, во имя которого «мы с Постумом» протестуем? Где «книги»?
А если это всего лишь более предпочтительный (так сказать, дело вкуса, не более того) способ культурной деградации, то при чем здесь стихи, «книги»?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































