Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
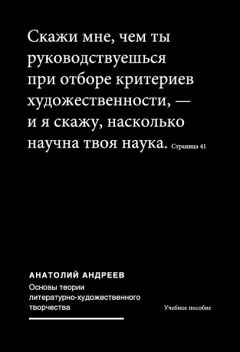
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
2.2. Хорошее отношение к стихам
(о законах поэзии)
1
Откровения поэтов хороши и ценны, пожалуй, тем, что их тёмные метафорические «диагнозы» и «прогнозы» служат неплохим материалом для действительно квалифицированного анализа. Однако исключения, подтверждающие правило, случаются и у поэтов. Эпохальная и мужественная формула Пушкина «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» была неоднократно им же развита и дополнена, но сути своей не изменила. В данном случае хотелось бы обратить внимание на те хрестоматийные строки, где в контекст полярных противоречий «волна и камень», «лёд и пламень», Онегин – Ленский были с умыслом вкраплены «стихи и проза». В чём видится несовместимая природа двух родовых стихий – лирики и эпоса?
Разберём этот простой, но окутанный дурманом мифов, вопрос на примере одного заурядно гениального стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Не станем интриговать читателя рассуждениями о том, с чего именно в этом случае целесообразнее всего начать анализ (ибо непростое это дело – начало исследования целостной художественной ткани, где нет начала и конца (а если есть, то нет художественности) – требует сугубо индивидуального, оптимизированного подхода; надо придумать, изобрести, открыть, проторить аналитический зигзаг в космически устроенный образный синтез). Начнём как бы просто: что бы мы ни говорили о целостности художественного произведения, в том числе стиха, в нём всегда наличествуют план содержания и план выражения. Применительно к избранному стихотворению содержательный, семантический аспект включает в себя тип конфликта, воплощённый в ситуации, понимаемой как расстановка персонажей вокруг именно так, а не иначе устроенного конфликта. У конфликта по определению должны быть минимум две стороны. В «Хорошем отношении…» противостоят «я» лирического героя и «сгрудившаяся» толпа. Ситуация дискурсивно разворачивается через события, выстроенные в определённый порядок (иначе сказать – через сюжет). События эти – «хорошее» и «плохое» отношение к упавшей, поэтическим образом одушевлённой лошади (полноправном участнике человеческих событий).
Вот из чего складывается характеристика толпы:
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал.
– Лошадь упала!
– Упала лошадь! —
смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
(Здесь и далее в тексте выделено мной – А.А.)
Из тщательно подобранных и последовательно сплавленных семантических пластов вылепливается образ некоего антигуманного монстра: праздношатающегося, угрожающе и назойливо «звякающего» («сразу за зевакой зевака…згрудились… зазвенел и зазвякал») примитивным, как всякая грубость, смехом (чередование двух слов, бедно описывающих инцидент, непостижимо выдаёт тупую склонность к насилию), сгрудившуюся, хищно воющую плоть, стаю, что ли.
В таком контексте начало стихотворения обрастает искусно вплетёнными в «карту будней» смысловыми обертонами: грубый «мотив толпы» отчётливо слышен в рабочем перестуке копыт. «Грабь», «гроб», «груб» – это вам не цок, цок, цок.
А теперь обратимся к смысловой антитезе – связке «лирический герой» («лишь один я») – «лошадь», «рыжий ребёнок». В глазах лошадиных – «улица опрокинулась, течёт по-своему…» «По-своему», понятное дело, не столько зеркальное отражение рутинного течения в очах «опрокинутого» субъекта, сколько знак выделенности из толпы. В сочетании с «рыжей» мастью («что я, рыжий?!») умение воспринимать «по-своему» обретает окраску символа. С теми, кто не такой, как «они», «Кузнецкий», можно разговаривать языком не «воя», а нежного «шелеста». Лошадь плачет, а в человеке рождается «звериная тоска»: «все мы немножко лошади» или лошадь тоже человек.
Ценностный ряд таких вот добрых кентавров ассоциируется, далее, с волей, оптимизмом, верой в нужность жизни и труда. Монументальное, с последовательным рядом крупных планов «возрождение» упавшей —
«рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла»
– это героический акт энергичного противодействия тронутой тленом паралича толпе.
Чтобы уже больше не возвращаться к поэтике стихотворения, отметим, что тонический ритм из угрожающе-мертвящей мерности перетворяется (в ином, «весёлом» семантическом ключе) в фанфарно звучащий гимн созидательному началу. Победа будет за нами.
Прежде, чем перейти к анализу того, что представляет собой анализ поэзии, выстроим иной поэтический контекст и в другой плоскости. Пятна смыслов, сконцентрированные вокруг некоего семантического стержня («вкруг» ахматовского «одного, всё победившего звука»), – это типичный и, собственно, единственный способ «познания» и «отражения» поэтом реальности. «Сие» (цветаевское «откуда мне сие?») можно назвать концептуализацией смыслов. Те же самые смыслы, в той же концептуальной редакции кочуют из стиха в стих с самого начала поэтической деятельности «бесценных слов мота и транжира».
«Я сразу смазал карту будня» – «А вы могли бы?»
«Нате!»: «Вот вы, мужчина…», «вот вы, женщина…»,
«все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь»;
«и вот я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я…»
«Ничего не понимают»: пощёчина общественному вкусу, здравой логике и вызов норме: «Будьте добры, причешите мне уши» (поэт – парикмахеру). Типичная реакция человека толпы: «Сумасшедший! Рыжий!» И – «до-о-о-о-лго хихикала чья-то голова, выдёргиваясь из толпы, как старая редиска».
Всё тот же малахольный эпатаж («Я»): «Я люблю смотреть, как умирают дети. Вы… А я —…» «Вам», разумеется, это должно не понравиться. Но что терять тому, кто конфликтует уже не с людьми даже, а с «Солнцем», «Временем», «крылатыми прохвостами»-ангелами, «Богом», Небом, Вселенной – с Порядком вещей, наконец.
Отсюда беспредельное, тотальное, абсолютное одиночество как противопоставленность всему. Суперэго не может смириться даже с намёком на рутину, стабильность, жизнеохранительный порядок: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!» «Владимир Маяковский», «красивый, двадцатидвухлетний», пришёл в этот прогнивший мир, чтобы не соглашаться. «Вам ли понять» («Владимир Маяковский»), «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и тёплый клозет!» («Вам!»), «Вашу мысль, мечтающую на размягчённом мозгу» («Облако в штанах») и т. д. и др. Ничего нового в «Хорошем отношении к лошадям» Маяковский не сказал. Он по-новому поведал о старом, по-новому пережил хорошо известное. Вечно новыми могут быть только чувства; вечные истины скучны, как мир, против которого взбунтовалась «бабочка поэтиного сердца».
Разумеется, возможны и иные контексты: образ затравленной толпой «лядащей кобылёнки» не нов в мировой литературе, достаточно вспомнить вещий сон Роди Раскольникова из «Преступления и наказания». Но этот культурный сюжет для нас малопродуктивен, он пригоден разве что в качестве более или менее уместной ассоциации, а этот «поэтический» способ исследования ведёт нас в лабиринт, откуда нет разумного выхода. Всё это уже напоминает игру с конструктором «лего» (лего-го!), из блоков которого, как известно, можно собирать любые воображаемые комбинации; точно так же можно ассоциировать, сопрягать и культурно рифмовать любые «лошадиные» цитаты и ситуации.
Итак, вернёмся к Маяковскому. Перед нами поэтизация бунта как такового, как способа жизнедеятельности, стремления к непрестанному, перманентному обновлению ради обновления. Во имя чего? Зачем? Почему?
Не задавайте мудрёных вопросов, оглупляющих поэзию. Переживайте, сопереживайте – или…
Вот об этом «или», об альтернативном восприятии поэзии мы и поговорим дальше.
Но прежде коснёмся природы поэтического бунта, за который поэтов сажать в тюрьму глупо. Бунт против жизни – это ипостась бунта во имя жизни, как ни странно. Энергия отрицания оборачивается энергией обновления жизни. Вот почему тот, кто «любит смотреть, как умирают дети», не изверг вовсе, а всего лишь двадцатидвухлетний щенок, резвящийся на лужайке жизни и от избытка чувств заигрывающийся в погоне за собственным хвостом. Поэзия новатора Маяковского до скуки классически, буквоедски исполняет культурное предписание искусству: мудрствуя или не мудрствуя, лукаво или нелукаво заставлять человека «полюблять» (Л. Толстой, чета Пушкину) жизнь.
И заставляет. Читатель охотно прощает «бунтарю» его эстетические оскалы, моря крови, вселенские проклятия и людоедские капризы, ибо всё это гримасы бурлящей жизни. Не прощается бесстрастная некрофилия. А уж этим грехом «горлопан» не мечен…
2
Восприятие, противоположное сопереживанию, есть отношение рационально-аналитическое, в пределе – научное. Анализ же уместен и необходим там, где есть что анализировать. А «что» – это всегда синтез, клубок, пучок смыслов. Вот «проза», например, согласно тому же Пушкину, «требует мыслей, мыслей и мыслей», поэтому там есть что аналитически препарировать. Анализ, если угодно, можно рассматривать как паразитирование на синтезе или, без метафор, по строгому культурному счёту, как оборотную сторону синтеза, не существующую в отрыве от него. Предметом анализа становятся откристаллизованные сгустки смыслов, являющие собой сопереживания, ограниченные рамками определённого семантического поля (ахматовский «какой-то тайный круг»), содержащие намёк на «идею», чреватые смыслом, как бы непроизвольно сочащиеся семантикой; иными словами, предмет анализа – не просто эмоции, а оценочные эмоции, сплавленные с началом аналитическим, реализуемым через порядок сцепления образов. Яркие, талантливо воспроизведённые образы, представленные сами по себе, не связанные общим смыслом, – это шизофрения. Здоровым, хотя и глуповатым, поэта делает порядок расположения образов. Анализу ведь поддаётся то, что творилось отчасти аналитически, не без участия сознания (бессознательно, уточним, не значит без участия сознания; бессознательное образотворчество – это нормально, а вот игнорирование смысла в любой форме – это уже патология, требующая совсем не поэтического диагноза).
Вывод чрезвычайно прост: стихи, любые стихи любых поэтов, процентов на 89–90 состоят из тех материй, из которых чувства шьют. Вот почему следующая формула поэзии представляется нам исчерпывающей: поэзия – это когда кажется, что смысла много, а на самом деле – наоборот. Дефицит смысла при кажущемся его изобилии – это родовой признак гениальной поэзии. Если же смысла оказывается много, разрушается материя стиха, ибо «плотный» смысл требует значительного дискурса и просто удушающего поэзию скрупулёзного порядка. В стихах же «всё быть должно некстати, не так как у людей» (Ахматова) – у парикмахеров, мужчин, женщин.
Хорошая поэзия действительно должна быть глуповата. Стихами, в сущности, надо наслаждаться как музыкой, природой, любовью, стихами надо бездумно любоваться, как гелиотропами, скакунами, просто рабочими лошадьми, на худой конец. И ни в коем случае нельзя требовать от поэзии гибельного искусства называть вещи своими именами: поэзия специализируется на том, чтобы называть вещи другими именами. Поэт чувствует то же, что и все, но он один способен называть старые, всем известные «вещи» новыми именами («некстати»); тем самым поэт как бы заново узнаёт мир и помогает нам ближе (с новой, неожиданной стороны) узнавать его, приспосабливаться к нему, но не познавать его. Для познания необходима наука называть вещи своими именами, или просто наука. Поэтическое отношение состоит даже не в том, чтобы отнестись к вещам эмоционально-возвышенно; сам факт создания эмоционального строя, лада посредством «вещей» – и есть поэзия. Вот почему поэзия вечно, банально нова, таинственна, неисчерпаема: потому что глуповата или (может, это кому-нибудь понравится больше) потому, что на 90 % состоит из ощущений. Поэтизации может поддаваться стремление называть вещи своими именами (чего ради и написан «Евгений Онегин»); но само называние своими именами – есть момент смерти поэзии («Евгений Онегин», роман в стихах, счастливо избежал смертельных доз «чистых дефиниций»).
Вполне понятно, что поэзия как чувственно воспринимаемая стихия не терпит к себе иного отношения, кроме любви или ненависти (кроме того, что названные чувства разделяет один шаг, одно всегда есть форма другого) и в свою очередь учит такому же отношению. Стихи можно любить или не любить, но их, по неписаному поэтическому «закону», запрещено понимать: они рассчитаны на некритическое потребление. Не трожьте музыку руками. Когда дети играют в теремок, взрослым лучше удалиться: и умные дети, и умные дяди чувствуют себя глуповато. Нелепые определения поэзии, данные Пастернаком, всего лишь попытка уберечь поэзию от определения по сути как феномен, принципиально неподдающийся определению, анализу. Это классический (банальный) пример абсолютизированного поэтического отношения, образец «поэзии в себе». Нельзя не признать: поэтическое, приспособительное отношение к поэзии естественно и адекватно: подобное познаётся подобным. Но не будем забывать: непоэтически-аналитическое, познавательное отношение ещё более естественно, оно-то и одарило мир формулой: поэзия глуповата, ибо не ведает, что творит, а если, не дай Бог, ведает, то перестаёт быть поэзией.
«Стихи» и «проза» являются другим названием чувства и мысли, иррационального и рационального, психики и сознания – двух полюсов, определяющих вещество, материю культуры.
3
Вернёмся к пушкинскому диагнозу, который поэт всегда «держал в уме». Ольга Ларина удостоилась замечательного сравнения из уст весьма и весьма искушённого в стихах и в жизни повествователя: чтобы подчеркнуть её почти неприличную типичность, поверхностность, он мимоходом обронил формулу-аксиому (скрытая полемичность которой именно в том, что рискованное откровение a priori объявляется банальностью): она была «как жизнь поэта простодушна». Онегин довершает характеристику безыскусного простодушия:
В чертах у Ольги жизни нет. (…)
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
Если уж быть точным, то в чертах у Ольги не хватает не жизни, а мысли – симптома духовной жизни. Жизни, пошлости, глупости, «округлости» (иного полюса по отношению к «ломаному», молниеносному бунту), прямо-таки предназначенных для поэтизации, хоть отбавляй. Простодушному поэту Ленскому самой судьбой (или расчётом повествователя) была предназначена именно такая подруга. Она прекрасна без извилин, по словам другого поэта, Пастернака.
Конечно, можно поэтизировать и Татьяну (умный Онегин сказал глупость: «я выбрал бы другую (т. е. Татьяну – А.А.), когда б я был, как ты, поэт»; если бы он был поэтом, он прежде всего не был бы таким умным; но что сказал, то сказал; Татьяна же как «верный идеал» была опоэтизирована автором романа), и даже умного Онегина («пою приятеля младого и множество его причуд»). Однако такого рода поэтизация требует враждебного поэзии аналитизма, так сказать, стихов в прозе или романа в стихах. Поэт должен стать больше, чем поэт. «Одические рати», «элегические затеи» и «мадригальные блёстки» (собственно поэзия) органично совмещаются с простодушием, но не с «ума холодными наблюдениями». «Ода исключает постоянный труд (умственный труд – А.А.), без коего нет ничего истинно великого», – заметил как-то Пушкин.
Поэты всегда попадают в один ряд с детьми и женщинами. С детьми их роднит необходимое профессиональное простодушие (чтобы искренне называть вещи другими именами, надо принимать инакость вещей за чистую монету, надо культивировать детскую способность «остранивать», делать странными знакомые (незнакомые?) вещи); с женщинами, помимо того же простодушия, поэтического обозначения глупости, – ещё и способность давать жизнь не рассуждая, вынашивать стихи, сей саморазвивающийся плод, и обходиться при этом как бы без участия сознания. Стихи созревают и рождаются сами, естественным путём. Вот этот глубоко бессознательный акт беременности и родов бессознательно же рифмует поэзию с жизнью. Не удивительно, что с самого начала притягательным, смыслообразующим центром поэзии явились женщина, любовь, жизнь.
Наше священное ремесло
Существует тысячи лет…
С ним и без света миру светло,
Но ещё ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может и смерти нет.
Вот смысловой предел умной поэзии: не ведать, что творишь. То, что с волшебным ремеслом «и без света светло», – светло от миражей, надежд, идеализаций – это подмечено Ахматовой гениально. Однако оборотная сторона умения жить миражами – умение в упор не замечать старость, смерть, просто реальность, где нет света, – это и есть глупость, отсутствие мудрости. Все тысячи лет существования древнейшего ремесла только о том и речь. Жить и значит делать вид, что смерти нет. При желании это можно считать мудростью.
Давать жизнь, бессознательно синтезировать образы – тут поэты по-матерински, по инстинкту готовы подставлять сосцы ремеслу; отнимать жизнь, расчленять образы («музыку», скажем, «разъять, как труп» или действительно «смотреть, как умирают дети»), анализировать, умерщвлять – здесь уж увольте: это богомерзкое занятие не для поэта. Смерти нет, следовательно, анализа тоже нет.
Поэтизация – мифологический реликт, базирующийся на обожествлении жизни. Поэт – тот, кто любит жизнь, желательно эксцентрически, как-нибудь некстати, пусть даже извращённо. За любовь можно простить почти всё, даже глупость. Любить жизнь – в определённом смысле «понимать» её, глубинно реферировать с ней, аутентично совпадать. Вот тот, для кого любовь отождествляется с подобным пониманием, и есть подлинный поэт.
Поэзия живёт потому, что есть жизнь, человек. Поэзия становится службой жизни. Анализ же, понимание существуют словно сами по себе или просто потому, что есть синтез, движение материи, жизнь. Анализ превращается даже не в игру со смертью – эта постмодерновая забава вполне принимается общественным сознанием как поэтическая вольность или крайность – а в самый лик «Гражданки с косой».
Однако если поэту все же удаётся сказать что-то, реферирующее с мудрой объективностью законов и формул, то и здесь спасает простодушие (которое ведь может, как в данном случае, сочетаться с глубиной):
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.
(Цветаева)
Творчество, поэтизация или, не без кокетства (но и не без оснований, законотворчески), ремесло – «происходят» за порогом сознания, хотя и с его участием. Между прочим, в такой постановке вопроса гораздо больше истины, нежели в том, чтобы объявить разум недопущенным в святая святых горнего ремесла. Если это так, то стихи не вполне естественны: они «естественно созданы», как бы естественны. «Стихи растут, как звёзды и как розы», «растут стихи, не ведая стыда», «из сора», «как жёлтый одуванчик», «лопухи и лебеда». Так кажется. «Из сора» – на первый взгляд из впечатлений-переживаний: «сердитый окрик, дёгтя запах свежий, таинственная плесень на стене…»
Но из сора, из ничего и будет ничего, из «чистой» психики в лучшем случае прорастёт безобидная лебеда шизофрении. Культурная ценность – это всегда ценность «законов». Пока «впечатления» не оплодотворятся формулами и законами, чувства – мыслью, вдохновение – ремеслом, пока они не «выкипятятся» и не выстроятся в порядок, розы и лопухи культуры почему-то не растут.
В органичное тело стихов скрыто вмонтированы «законы» и «формулы», из которых и рождаются звёзды и цветки, – а кажется, что из истомы, из сора впечатлений: это и есть закон творчества. Без «формул» вы будете иметь дело с чисто психическими феноменами. Вдумаемся:
Бывает так: какая-то истома; (…)
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шёпотов и звонов
Встаёт один, всё победивший звук.
Слова, логос, членораздельность, имеющая отношение к смыслу, появляются на заключительном этапе – но именно потому и появляются, что «варево» смыслов прошло длительный процесс бессознательного критического отбора на пригодность к поэтической миссии:
Но вот уже послышались слова
И лёгких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
(А. Ахматова «Творчество» из цикла «Тайны ремесла»)
А вот ещё одно простодушное свидетельство:
А оказывается —
прежде чем начнёт петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
(В. Маяковский. «Облако в штанах»)
Здесь вообще в перечне соучредителей, причастных к «росту» стиха «на радость вам и мне», даже не обозначено начало аналитическое. Поэтический эвфемизм «воображение» с натяжкой можно считать чем-то противостоящим «тине сердца». Но тина засасывает, из неё вырываешься с мозольными усилиями. Трудовые мозоли – всегда от работы мысли. Чем меньше мозолей, чем более «некстати» – тем более поэзии. Словом:
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
(Б. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!»)
Но за случайным всегда стоит необходимое, за образом – мысль, за синтезом – анализ. Вот почему стихи можно не только переживать, но и понимать. От этого стихи не перестают быть стихами, нет; а вот учёный перестаёт быть поэтом на радость всем. Культура обогащается противоположным поэтическому – познавательно-аналитическим отношением, которое также существует тысячи лет. Тот, кто понимает, не мешает сопереживать; тот, кто только сопереживает, кому «кажется» и «чудится», – именно тот и разлучает поэзию с жизнью, ибо последняя не сводима к первой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































