Текст книги "Основы теории литературно-художественного творчества"
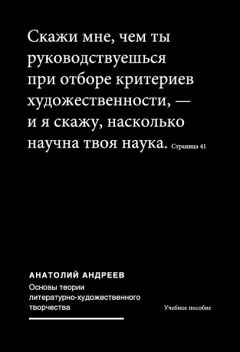
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Иными словами, перед нами концепция человека трагического, так и не сумевшего преодолеть мрак и уныние почти ортодоксального трагизма и возвыситься до трагизма просветленного, оптимистического – преодоленного. Это новое искомое качество духовности можно было бы назвать идиллической гармонией (в отличие от гармонии героической). Именно с вершины «идиллии» смотрел на мир повествователь «Евгения Онегина». Вообще «Скучная история» – редкий для Чехова рассказ, где трагизм обнажен столь откровенно, и даже жалкая в своей беспомощности попытка иронии лишь подчеркивает неизбывность и полноту трагизма. Трагизм в себе, абсолютный трагизм тяготеет только к героике; если туда путь заказан – другого пути просто нет. Вот почему, кстати, духовная перспектива героев Хемингуэя – социоцентризм (назад, в будущее).
Однако оценим и такой момент. Выход из трагического тупика возможен в сторону «общей идеи» (отчасти самоотверженно героической по ожидаемому пафосу), что означает: совершенство человека понимается как совершенство мышления. А такая посылка рано или поздно преодолеет героическую детерминацию. Вот этот вектор и хочется считать победой Николая Степановича. «Я побежден» – после финала звучит уже не так обреченно (до «я победил», конечно, еще далеко). Повествователь и здесь оказался выше рассказчика, выше всех иных персонажей. Несомненной духовной победой Николая Степановича является и то, что он отказался от поиска «зацепки», от разрешения трагизма в героику, всегда возвышающую душу, но унижающую мышление и в целом человека; это было бы шагом в сторону гармонии, конечно, но шагом назад. «Зацепка», безоглядный героизм по Пржевальскому для него – пройденный этап. Он не знает состава «общей идеи», но он уже понимает, что она выше зацепки и альтернатива ей. Общая идея каким-то образом должна вбирать в себя все мыслимые зацепки, интегрируя их в нечто качественно новое. «Общая идея» в самых общих контурах уже маячила в сознании Николая Степановича на уровне представлений – как предчувствие (мироощущение). Но «состав» ее предполагался настолько странным, что старый профессор сложил руки и сдался: «Я побежден». В общую идею, помимо подвижничества и осознания глупости его, иронически включается и скрываемый от самого себя, но все же окрашенный в слегка эротические тона интерес к Кате, и крах семьи, и невозможность жить вне семьи, любовь к науке и понимание того, что ты раб этой любви, искалеченный ею, – включается персоноцентризм. Горькая трагическая ирония заменяет общую идею, и, собственно, становится ею.
Вот из таких нюансов состоит «Скучная история» и странность Чехова.
Все это, с одной стороны, запутано, а с другой – вполне объяснимо: перед нами живая, тотальная диалектика, тот самый взыскуемый бог живого человека.
Жизнь человека под идею, под «зацепку» не задалась, и финал красиво расписанного сценария был испорчен. Однако, с точки зрения логики общей идеи, именно финал придал обыкновенному герою и подвижнику качества несчастного (в экзистенциальном понимании) человека. Лишнего человека, что само по себе в известном смысле уже есть счастье. Это уже гораздо больше, чем герой. Героизм иронически превращается в «скучную историю», но последняя может иметь вовсе не ироническое продолжение…
Строго говоря, история Фрэнсиса Макомбера – это предыстория «скучной истории», так или иначе, рано или поздно случающейся со всяким умным и приличным человеком. Глупо не замечать известной гуманистической содержательности взросления «мужчины-мальчика» Макомбера (сила личности – понятие комплексное, включающее в себя в том числе и морально-волевые компоненты), но еще глупее выдавать эту охотничью историю за эталон духовного становления.
Обратим внимание на штришок из монолога Роберта Уилсона, данного в трактовке повествователя: «не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия». Иными словами, путь Макомбера типичен для человека. Для homo economicus`а.
Путь Николая Степановича – уникален. Потому что универсален. От натуры к цивилизации, от цивилизации к культуре, от веры – к пониманию: это не русский профессор выдумал; это путь от homo economicus`а к homo sapiens’у.
У Чехова не иррациональное противостоит рациональному как таковому, а рациональное, но менее совершенное в духовном отношении, рациональному же, но гораздо более духовно совершенному. Идеи противопоставлены идеям, ум – уму. «Ум ума почитает», хотя и не соглашается с оппонентом. Разум как таковой не ставится под сомнение – вот принципиальное отличие Чехова от тех русских классиков, кто озабочен был исключительно диалектикой души. Тема Чехова не диалектическое противостояние психики и сознания, а исследование разных типов сознания: идеологического и видящего ограниченность идеологии. Одни умные люди спорят с другими умными людьми, а выходит одна глупость.
У Хемингуэя все проще: одно иррациональное противостоит другому, в результате чудесным образом получается «мудрость». Зацепка. Только говорить надо поменьше.
Все дело, однако, в том, что идеологическая «зацепка» и есть вариант самоутверждения психики, прорыв бессознательного на уровень сознания. Рациональная аранжировка – всего лишь способ культурно прописаться и «на равных» сражаться с сознанием как таковым. «Общая идея», то есть более широкий взгляд на вещи, – это уже мировидение «от сознания». Чехова не психология интересует, не столкновение сознательного и бессознательного в «чистом» виде. У него сплошь «культурные» диалоги, идейные споры, позиции, противостояния и «направления». Но за мировоззренческой полемикой скрываются доводы все тех же психики и сознания, души и разума, идеологии и «сверхидеологии» (философии). А ставка на разум, на «лишнего» – и это прекрасно понимал писатель – бесперспективна, ибо антиобщественна. Вот вам и чудо открытого финала, размытость позиций, неопределенность философии, смешение лжи и правды… Чехов погружал нас в эпицентр проблемы, которая, судя по всему, представлялась ему неразрешимой. За неопределенностью стоит вполне определенная логика, продуманная концепция человека. Статус неразрешимости проблемы – вот чем дорожил Чехов.
Хемингуэй дорожил именно однозначной ясностью, которая не нуждается ни в какой рефлексии. Никаких проблем. Иначе можно все испортить.
Итак, «духовное» и предшествующее ему «психологическое» (морально-волевое) – так можно обозначить способы структурирования субъектов сознания в произведении. И такими субъектами, по принятой в данной работе терминологии, оказываются homo economicus и homo sapiens. Именно так: homo economicus и homo sapiens выступают как «субъекты сознания», как проекции природного и, соответственно, культурного начал.
В этой связи уместно разграничить объект и предмет литературы.
Предметом литературы является человек и личность в единстве их мироощущения и миропонимания.
Если говорить о великой литературе, то предметом ее пристального внимания становится процесс превращения человека в личность. Система ценностей (основа содержания) обретает эстетическое измерение (стиль), воплощая формулу Красота – Добро – Истина.
На самом деле надо выразиться еще более точно и конкретно: один информационный комплекс, телесно-психологический, известный нам под названием человек (индивид), на наших глазах превращается в другой, духовно-психологический, имя которому – личность. Меняется тип управления информацией, меняется способ мышления – в результате меняется система ценностей, система мотивов поведения – следовательно, меняются типы конфликтов, типы и системы персонажей.
Именно конфликт типов управления информацией и является объектом изображения в литературе, ибо все духовные коллизии человека коренятся в информационной природе конфликта.
От натуры – к культуре (от приспособления – к познанию): это и есть подлинно культурный путь человека, который (путь) посредством образов (если говорить о языке литературы как виде искусства, виде художественного творчества), закрепляемых в стиле, в частности, в сюжете (если говорить о способах выражения образа), отражается в литературе.
Это и есть один-единственный, универсальный объект литературы, отраженный в ее предмете: духовное производство человека. Других попросту нет, им неоткуда взяться. Полюса-то в духовном пространстве всего два: психика и сознание. Два полюса связывает один сюжет (ряд событий). Идти прогрессивно можно только в одном направлении, снизу вверх (осуществляя процесс познания), от натуры к культуре, проходя при этом неизбежные и, в общем, известные ступени (тело – душа – дух). Сверху вниз – это бездуховная траектория приспособления. Если путь к личности состоялся, прямая, та, которая «снизу вверх» (обозначающая процесс познания), смыкает конец с началом, образуя круг. Личность – это целостность, единство «низа» и «верха». Графический эквивалент целостности – это круг. Не следует забывать, что сюжет (основа которого – события) – всегда способ передачи содержания, но не само содержание. От натуры к культуре: это и есть содержательная, внутренняя сторона сюжета, внешнее выражение которой – ряд событий.
Таким образом, можно сказать, что предметом литературы является homo economicus, а объектом – homo sapiens. Хемингуэй не докопался до объекта, великолепно воплотив предмет, за которым едва угадываются контуры возможного объекта.
Ясно, что предмет и объект соотносятся как форма и содержание. Отсюда наш следующий постулат: оплодотворяющим (связывающим, скрепляющим) началом в искусстве является, как ни парадоксально, мысль (хотя кажется, что – чувство, которое, по ощущению, доминирует в образе). Любое организованное чувство (скажем, все то же как бы спонтанное «огромное наслаждение») организовано началом рациональным. Даже у Хемингуэя, точнее – прежде всего у Хемингуэя.
Литература – это искусство слова, которое является инструментом мысли. Художественное слово само по себе амбивалентно: оно и передает мысль – и убивает ее – тем, что одновременно передает чувство. Грань между рациональным и эмоциональным воздействием слова зыбка и трудноуловима, и пренебрегать этими свойствами слова просто-напросто невозможно (музыкальный звук, скажем, в этом отношении гораздо менее внутренне диалектичен вследствие малой информационной вместимости, он откровенно «привязан» к «чувству», «ощущению»). В художественной литературе акцентировать смыслы, игру ума – вещь чрезвычайно тонкая и коварная. Переизбыток интеллектуального начала нейтрализует образную мощь; «половодье чувств» и, соответственно, образная экспрессия, плохо приспособлены к передаче «контекста идей», концепций.
Если принять во внимание описанную каверзу, можно сформулировать наш опорный тезис следующим образом: западная литература – более литература, нежели русская, но первая же одновременно является менее искусством, чем вторая.
Литература имеет дело со своим «предметом», существующим в рамках социо– и идивидоцентризма; искусство (в том числе литература как искусство слова, искусство перетекания чувства в мысль и наоборот, искусство соединения мироощущения с мировоззрением) – тяготеет к «объекту», его тенденциозность – персоноцентризм.
Хемингуэй – более литература, нежели Чехов; однако Чехов – более искусство, нежели Хемингуэй. Познавательность, «идейность» литературы проявляется в том, что она рациональна (одномерна, системна – и это органично сочетается с откровенным культом ощущений); литература как искусство принципиально концептуальна (целостна, многомерна), ибо совместить предмет и объект без философской концепции невозможно.
С точки зрения количества и качества информации «литература», язык, преимущественно, натуры, на порядок уступает «искусству», языку культуры. Поэтому стиль литературы бывает броским и ярким – за счет нескольких виртуозно освоенных колоритных приемов (в данном случае у Хемингуэя до совершенства доведены диалог с подтекстом (кстати, творческая находка Чехова) и композиция новеллистического сюжета). Стиль словесно-художественного искусства сложен и многопланов, его значительно труднее идентифицировать как стиль.
Одной из насущных проблем гуманитарных наук, в частности, литературоведения, является методология: если «искусство» читать как «литературу», в литературе в целом так и не появляется культурного, личностного измерения. Разница, вроде бы, не принципиальная. На самом деле отсутствие персоноцентрической перспективы делает литературу служанкой природы и общества – но не культуры. Литература превращается в коварный инструмент культурного регресса. В инструмент приспособления к неспособности человека, homo economicus`а, познавать. Обнаруживать в себе homo sapiens.
3.4. Психологизм в литературе: несколько принципиальных штрихов
Психологизм в литературе сегодня превратился в своеобразный гуманитарный миф. С ним как бы все просто – но ничего не ясно. Psyhe – это душа; душевные переживания, отраженные в литературе – это психологизм. В таком случае всякая, любая литература по определению психологична (равно как и по определению идеологична и эстетична), ибо литература – язык души, язык психики. Психологизм в таком случае – имманентное свойство литературы.
Если это не так или не совсем так, если не любое переживание обладает качеством, называемым психологизм, тогда следует разобраться, какие свойства позволяют душевному переживанию обрести статус психологизма.
Итак, какова качественная (возможно, принципиальная) разница между душевным переживанием, движением, импульсом и психологизмом?
Конечно, это не новая проблема и по ее поводу сказано достаточно. Тезисно выделим самое главное.
1. Психологизм – это не просто переживания (любой интенсивности), а мироощущение, которое непременно трансформируется в мировоззрение (или начальную стадию мировоззрения: миропонимание). Душевное непременно перерастает в духовное, сотворенное по законам красоты.
2. В этой связи психологизм является не просто переживанием, а эстетической структурой персонажа.
3. Психологизм возникает там, где есть глубинные противоречия душевной жизни – противоречия между разумом (с помощью которого и выстраивается мировоззрение, системно организовывается мир идей) и душой (для которой мироощущение и является «мировоззрением»), между двумя типами управления информацией. Именно подобные противоречия и есть родовой признак психологизма.
Сказанное нуждается в конкретизирующем комментарии. Безусловно, психологизм возможен только там, где существует противоречие, – но противоречие, как мы уже отметили, особого рода, сотканное не из противостояния «душевных моментов» (в рамках однородного душевного поля и «состава»), а из диалектического единства и борьбы сознания и подсознания как двух разных измерений человека, двух разных, разнородных информационных пластов, – между культурой и натурой, по большому счету, ибо духовные (культурные) возможности человека приходят в противоречие с его естественной заданностью (природой).
Но и это еще не все. Само по себе противоречие между двумя составляющими духовности, культурной и природной, еще не рождает психологизм, точнее, не раскрывает его основную функцию – ту функцию, которая и превращает многоплановое переживание в психологизм. Психологизм как литературно-эстетическое и духовное явление (а не только сугубо душевное) возникает и существует там, где противоречие между «сердцем» и «умом» служат показателем наличия большой духовной проблемы. Психологизм – это такой способ существования строя души, который соответствует глубокому строю мысли. Психологизм – почва, из которой рождается уже не психологическая, но концептуальная материя. Психологизм – это не просто переживания, душевные волнения, а такого рода переживания, в результате которых рождается иное мировоззрение или обнаруживается присутствие «нового» человека в «старом», хорошо известном. Психологизм становится инструментом выявления скрытой связи между поступком и его причиной, способом выявления скрытой работы сознания. И вот эта скрытая работа сознания и есть тайное оружие психики, собственно, ум души. В таком контексте психологизм становится инструментом превращения человека в личность.
Такое увязывание психологизма с мировоззренческой, духовной проблематикой, а также со структурой персонажа, резко ограничивает присутствие психологизма в литературе. Интерес к душе, к ее нескончаемым капризам, треволнениям и колебаниям в литературе был всегда, с момента зарождения литературы. Собственно, движения души и были внутренним сюжетом литературы. Однако психологизм – это не просто душевная смута, а иное качество переживания, демонстрирующее нам иное качество духовности. Что стоит за этой закономерностью?
Психологизм возник только тогда, когда в европейской литературе состоялся переход от социоцентрических идеалов, от мировоззрения, ориентированного на приоритет общественного, – к персоноцентризму, к такому типу мировоззрения, идейный центр которого составлял не общественный интерес с его обезличивающей авторитарной моралью, а личность. Психологизм отражает готовность и возможность человека превратиться из не рассуждающего (или метафизически, доктринерски рассуждающего) «стального» героя (функции социума) в рефлектирующую личность, нащупать и отыскать новый тип гармонии – гуманистический (идущий на смену героическому).
А такой духовный путь и процесс весьма и весьма насыщен диалектикой – диалектикой ума и только в связи с ней и только во вторую очередь – диалектикой души. Диалектика души сама по себе (хождение исключительно по душевному кругу, без попыток прорыва в область сознания) – это низкопробный психологизм, представляющий его начальные, неразвитые формы.
Таким образом, психологизм служит инструментом, способом представить особую, гуманистическую систему ценностей, к которой предрасположена всякая разумно (и в направлении разума) прогрессирующая личность. Способом психологического анализа при этом служит, главным образом, речь персонажа (в том числе рассказчика или повествователя) и деталь. Таков стилевой аспект психологизма.
Обратим внимание: психологизм и психологический анализ – понятия если не тождественные, то в значительной степени совпадающие. Анализ, имеющий целью обнаружить иерархический порядок ценностей, – вот сверхзадача всякого психологизма. Это просветление, прояснение потемок души, происходящее, конечно, с помощью разума. Таким образом, психологизм, как ни парадоксально, в конечном счете связан с разумом; без разума движение души есть – а психологизм отсутствует.
Понятно, что лирика в значительно меньшей степени предрасположена к демонстрации психологизма, хотя именно она призвана заниматься «психологическими состояниями» человека. Лирика медитативна, она сфокусирована на состояниях души – и в силу этого малопсихологична.
Проза, аналитическая, психологическая проза – вот наиболее перспективная область применения психологизма в литературе. Причем, преимущественно проза последних двух веков, XIX и XX, при этом проза главным образом реалистического направления. Это и понятно: именно реализм увидел в человеке пересекающиеся и взаимообусловленные пласты природные (тело, душа) и культурные (душа, дух). Собственно, психологизм и стал способом воплощения реалистического потенциала, способом представить новую структуру персонажа – характер (в отличие от ранее доминировавших сначала маски, а затем типа, где психологизм был бы излишеством). Характер в литературе становится формой проявления личности. Зрелый реализм немыслим без психологизма, что убедительно свидетельствует о гуманистической направленности реализма как наиболее совершенной из освоенных человечеством художественно-информационных систем.
Постмодернизм с его специализацией на небогатом спектре иронических мироощущений и явно сниженным интересом к личности (ибо личность – это иерархически организованная система ценностей, это приоритет мировоззрения над мироощущением) утратил интерес и к психологизму – понимаемому не как прием, обыгрываемая стилевая краска, а как стратегия художественной типизации, ведущая к созданию мировоззренчески промаркированного характера.
Таким образом, психологизм как серьезное культурное достижение литературы становится своеобразным показателем уровня художественности (хотя сам по себе, разумеется, не гарантирует ее). Парадигма «культура, персоноцентризм, личность, реализм, разум, мировоззрение, психологизм» указывает на культурную ценность и художественный потенциал психологизма.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































